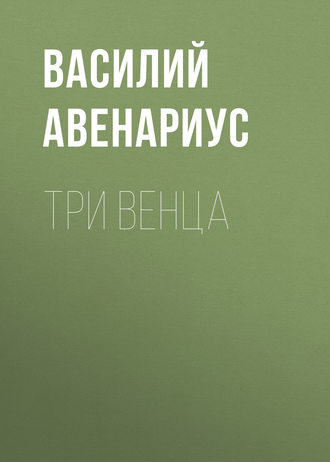
Василий Авенариус
Три венца
Глава двадцатая
Гадалка
– Скатертью дорога! – крикнула вслед рыцарю старуха-цыганка и с умильно осклабленным, беззубым ртом приблизилась к оставшимся. – Повадка-то рыцарская, а на поверку – первый озорник. Ну, панночка милая, полно тебе злобиться на него: право ж не стоит! Лучше покажь-ка мне, позолоти рученьку: погадаю тебе про суженого-ряженого.
Маруся, едва успев немного оправиться, опять смутилась, опять зарделась и украдкой покосилась на стоящего еще тут же гайдука царевича. Михайло понял ее взгляд как молчаливый вопрос и отвечал:
– Что ж, пускай погадает.
– А ты… то есть вы…
Она запнулась. Он помог ей.
– Мы, Марья Гордеевна, слава Богу, оба – русские, а русские доселе по простому говорят еще друг другу «ты». И царевичу своему говорю я не иначе.
– Так… ты себе после тоже погадать дашь? – проговорила молодая девушка уже несколько смелее.
– Пожалуй; хотя по правде сказать, сам я не очень-то верю в науку этих гадалок.
– Эко слово молвил. Не моги говорить так, сударик, – обидчиво вмешалась задетая за живое цыганка и стала божиться, что наука ее редко когда в обман введет; на вопрос же Михайлы: откуда у нее ее наука? – ворожея объяснила, что то не ее слабого ума Дело, а переняла она науку свою – хиромантию – от покойной бабки своей, которая ее до тонкости произошла; что по чертам-де ладони человеческой, по ходу и свету светил ночных можно почти без ошибки Истолковать и настоящее, и прошедшее, и будущее, ибо судьба человеческая вперед уже определена и начертана на всякой ладони и в звездах небесных. От себя она ни словечка-де не прибавляет, а говорит только то, что очами видит; предвещания же ее почитай что завсегда сбываются, и сама она уже в них уверовала.
– Коли вру – не видать мне царствия небесного! – заключила убежденно старуха.
Молодые люди переглянулись. Даже Михайло уже не улыбался, а Маруся нерешительно протянула гадалке руку. Но вдруг она ахнула и принялась вертеть во все стороны и разглядывать свои пальцы, усеянные дорогими кольцами; потом наклонилась к земле, ища там что-то.
– Бог ты мой! Вот беда-то!
– Что такое, сударушка моя! Аль перстенек потеряла? – спросила цыганка.
– Перстень, да, и лучший мой, заветный!.. От матушки покойной.
– Голубушка ты моя! Да ты его, полно, не ищи: все равно не разыщешь.
– Что так?
– Унесен, маточка моя, прикарманен.
– Унесен? Кем же?
– Да тем самым паном, кого даве ты так лихо проучила.
– Паном Тарло!
– Вот, вот. Перстенек, верно, велик тебе был?
– Велик, точно.
– Ну, так. Как ручку свою отдернула, так с пальца, знать, его и обронила. Ну а пан-то этот, сама я видела, с земли что-то в карман положил.
– И то ведь правда! Мне самой так показалося.
– Да и зло еще он так усмехнулся! – подхватил Михайло. – Никто, как он! Но мы этого ему так не спустим.
– Ах, нет, ради Бога оставь его в покое! – всполошилась Маруся.
– Но с виду-то перстень каков был?
– Золотой ободочек с бирюзой в горошину крупную, да кругом весь алмазной змейкой обвит…
– Стало, драгоценный! – воскликнула цыганка, и черные глаза ее жадно разгорелись.
Маруся подавила вздох.
– Не в цене дело, – сказала она, – дорог он мне тем, что от матушки родимой! Умирая, сама мне на палец надела: «Смотри, мол, Маруся, не теряй, никому не отдавай, окроме… окроме…»
– Окроме суженого своего? – с лукавой улыбкой досказала сметливая гадалка. – Чего краснеешь, что маков цвет? От меня ничего не скроешь: все знаю, все вызнаю, маточка моя! А ладошку покажешь, так я по ней и судьбу твою, как по писанному, необлыжно доложу. Давай-ка сюда, солнышко мое красное, давай! Небось, не замараю. Ишь, белая какая!
Маруся опомниться не успела, как костлявые бронзовые пальцы цыганки овладели уже ее рукою и повернули ладонью вверх. Потом, не отводя с этой загадачной для других рукописи своих ярко тлеющих, как два горящие угля, глаз, гадалка заунывно затянула стародавнюю шабашную песню ведьм, кивая под такт своею косматою, седою головой.

Костлявые бронзовые пальцы цыганки овладели уже ее рукою
День был ясный, светлый: золотые солнечные лучи там и сям пробивались сквозь густые верхушки дубового бора и резво скользили, прыгали, играли по окружающей зелени и земле. Но суеверный страх овладел Марусей. Ей сдавалось, что из руки колдуньи в ее собственную руку переливается какая-то жгучая, таинственная сила, и что отдернуть руки своей она уже не может, что она и плотью и духом отдалась во власть старой ведьмы.
– Вижу, вижу… ай, ай! – участливо провещала тут старуха, водя когтистым указательным перстом по жилкам белой ладони девичьей, – рученька-то маленькая, а жилочки – во какие кудреватые… Разумом девица острая, сердцем жалостливая: много за нее Господа молят; довольством девица презобильна… Но три неладные черточки замешалися; три молодца – прямо, справа да слева – к девице подбираются… Правый, вишь, сразу обрывается: рукой, стало, махнул. Левый вьюном вьется, подбирается с речами затейными, прямому дорожку перебегает: без боя-кровопролития, стало, не обойдется. А прямой-то ни валко, ни шатко, ни на сторону – все, знай, вперед да вперед: сухоту навел на сердце девичье. Только баба вон сторонняя какая-то путь молодцу загородила, не пускает… Да нет, пробился! Дай Бог вам любовь да совет!
Ворожея с умильной ухмылкой заглянула снизу в опущенные очи девушки и повторила:
– Любовь да совет! Удоволена ли, сударушка?
– Но скажи мне, бабушка… – заговорила шепотом Маруся и опасливо оглянулась на Михайлу, стоявшего поодаль в каком-то раздумьи.
Цыганка замахала рукой гайдуку.
– Отойди, отойди, сударик! Не смущай девицы. Михайло отошел еще далее.
– Что же, маточка моя? Аль не выразумела толком? Аль не любо? Сказывай, спрашивай: коли можно, без ответа не оставлю.
– А когда ж то будет, бабушка?
– Когда свадьбу сыграешь? Ну, уж не прогневайся: заверное прознать мне это не дано. Но ежели смелости, храбрости в тебе хватит, соберись, красавица моя, в полночь на погост, да к церковным дверям – не услышишь ли пения венчального: услышишь, так через год тебе, значит, быть под венцом.
– Да ведь подслушивать этак под церковным замком, бабушка, можно, кажись, только о святках.
– О святках, вестимо, еще вернее; но и новолуние – время для чар всяких способное. Как нету луны-то, в темень непроглядную, под самую полночь, все чаровницы – по-вашему, ведьмы – на Лысую гору улетают и к свету только домой ворочаются. Вот тут-то и ворожи, гадай, сколько душеньке угодно.
Маруся узнала, должно быть, все, что ей нужно было: она тороплтво достала кошелек и не глядя сунула старухе несколько мелких монет.
– На вот; тут и за него, – тихо сказала она, кивая на гайдука. – Погадай и ему.
– Ну, соколик, пожалуй-ка теперь и свою ручку, – обратилась гадалка к Михайле.
Михайло грустно улыбнулся и покачал головой.
– Для чего? От судьбы не уйдешь.
– Нужды нет: а знать-то, небось, все же занятно, что на роду написано радость иль горе?
– Про себя я и без того уже знаю.
– Эвона! Что же ты, касатик, знаешь?
– Что радости мне не видать, а горя не избыть.
– Неладны твои речи. От себя никак этого не узнаешь. А коли, точно, правда, то я тебе тоже так напрямик скажу, не скрою: ты – молодец, слава Богу, не красная девица, пугаться тебе не след.
– Да и денег у меня с собой не взято, – продолжал отговариваться Михайло.
– И не нужно, сударик! Все заплачено. Не отвертывайся, светик мой, давай, что ли, руку.
Маруся молчала; но, украдкой взглянув на нее, молодой человек по глазам ее понял, что ей куда как хочется послушать, что предскажет ему гадалка.
– Только сделай милость, без этой чертовщины, – сказал он, нехотя протягивая руку старухе.
Та бросила на него исподлобья недоброжелательный взгляд, но перечить не смела.
– Твоя воля, соколик… Ох, ох, ох! Прогневил, знать, молодец Господа! – зловеще затянула она. – Горе ему, горе! В огне гореть неугасимом, в крови тонуть неутолимой; а все бабы да бабы: вон одна, вон другая – схватилися, переплелися… Не двоежен ли уж ты окаянный?
Михайло живо отдернул руку.
– Из ума ты никак, старая ведьма, выжила! – сурово оборвал он ее предсказание и неестественно рассмеялся. – Я в жизнь себя женитьбой не закабалю…
– Эх, парень милый! Для че чураться? Заговорит ретивое – станешь сохнуть да сокрушаться, окрутят голубчика – и оглянуться не успеешь.
– Городи безделицу! – прервал он ее снова. – Не до того теперь. Не обессудь, бабушка, за горячее слово. Не со злобы – с горя молвилось. Ты, Марья Гордеевна, дозволь спросить: домой ведь собралася?
– Домой, – отвечала Маруся.
– До ворот замковых на всяк случай я тебя провожу. Не след мне, может, не пригоже, холопу, навязываться, но надо, вишь, во чтоб то ни стало перемолвиться еще с тобою.
Девушка полуудивленно, полузастенчиво воззрилась на него, но ничего не возразила.
– Прощай, бабушка! – сказала она цыганке и быстро пошла вперед.
– Первым делом, Марья Гордеевна, поклон тебе от дядюшки твоего, – услышала она около себя голос Михаилы, нагнавшего уже ее.
– От дяди? От которого?
– От Степана Маркыча.
Маруся вся всполохнулась и вскинулась на говорящего звездистыми очами.
– Да где он? Где ты повстречался с ним?
– Повстречался на этих днях в корчме жидовской, на перепутье. Считал он тебя в Самборе и ехал прямиком на Самбор. Но прости, – продолжал Михайло, видя, что племянница Степана Марковича готова засыпать его вопросами, – есть у меня до тебя дело куда спешнее и важнее… Напало на меня, вишь, сомненье, а ты, своя же, русская, православная, меня не выдашь.
Наскоро сообщил он ей «за великую тайну» о кознях иезуитов противу отца Никандра и преосвященного Паисия, и о том, как ему покамест удалось спасти последнего.
– Но куда мне теперь с ним? – заключил он. – Нельзя ли укрыть его хоть у этого кузнеца Бурноса? Надежный ли то человек?
– Совсем надежный, – уверила Маруся, слушавшая гайдука с затаенным дыханьем, и стала торопить его скорее вернуться к больному владыке, пока Юшка как-нибудь не высвободился и не напал опять на его след.
Молодые люди вышли в это время из гущины леса в открытое поле перед замком, и так как здесь, на виду у всех, Маруся могла считать себя уже совершенно безопасной от дальнейших любезностей пана Тарло, то Михайло оставил ее, и она продолжала путь одна.
Шла она не спеша, потупившись. Вдруг она остановилась, приложила руку к волнующейся груди, и как бы ослепленная ярким блеском солнца, зажмурилась; голова ее затуманилась, в очах пошли круги. И было от чего: в какие-нибудь полчаса времени она пережила, переиспытала более, чем прежде в течение целых годов: сцена с паном Тарло, вмешательство Михайлы, предсказания гадалки, наконец преследование и бегство православного епископа, который, по ее же совету, должен был найти теперь временный приют у кузнеца Бурноса, – все это вихрем кружилось в ее голове. И над всем этим носилось, преобладало одно смутное еще, но неотразимое чувство, что между нею и гайдуком царевича установилось уже нечто общее, связывавшее их как бы родственными узами.
«Ну, да! У нас с ним общая тайна… Мне нет покою только – что-то сталось с преосвященным? Как бы разведать скорее…»
Узнала она о том от Михайлы же за подвечерком в столовой. Как всегда, он стоял опять за сиденьем своего царственного господина и, казалось, ждал только, когда девушка обернется в его сторону. Уловив ее взгляд, он сделал ей успокоительный знак головой; Маруся поняла, что все улажено и архипастырь в безопасности.
Юшка оказался в числе княжеской прислуги тут же за столом и имел какой-то виноватый, понурый вид: стало быть, Михайло, пустив его на волю, не на шутку пригрозил ему держать язык за зубами, и хлопцу за такое упрямое молчание его, верно, порядком-таки уже досталось от пана Тарло, а, может статься, и от самого светлейшего.
Что Вишневецкий, а раньше его еще, конечно, оба иезуита знали уже от пана Тарло о неудачном обыске последнего в доме отца Никандра, Маруся догадывалась по нервному настроению князя Константина и по тем выразительным взглядам, которыми тот по временам обменивался с обоими патерами. Окончательно же утвердилась она в своей догадке, когда вошедший прислужник доложил князю, что отец Никандр пожаловал-де по его приказу, чтобы явиться пред его пресветлые очи.
– Добре! – буркнул князь Константин, и глаза его из-под хмурых бровей зловеще засверкали. – Проведи его на мою половину…
Сердце в груди у Маруси сжалось. Кабы хоть в щелочку заглянуть, одним ушком подслушать у дверей князя! Но об этом и помыслить нельзя было. Там торчали всегда двое: дежурный маршалок и дежурный гайдук. Но из кабинета княжеского был прямой выход на небольшое крылечко во двор; а одна боковая горенка выходила окном как раз на это крылечко. Здесь можно было по крайней мере увидеть отца Никандра тотчас после объяснений его с князем. Едва только Вишневецкий, по окончании трапезы, удалился на свою половину, как Маруся поспешила в намеченную горенку, растворила окошко и присела за занавеской.
Окна княжеского кабинета, к сожалению, были закрыты, и до слуха Маруси доносился только смутный гул спорящих голосов. Отец Никандр, очевидно, дал чересчур увлечь себя своим духовным рвением, потому что его старчески дребезжащий фальцет пронзительно то и дело прерывал густой бас князя Константина. Вдруг дверь на крылечко шумно распахнулась, и, словно силой вышвырнутый оттуда, выскочил на крылечко, а с него, спотыкаясь по ступеням, сбежал во двор отец Никандр. Редкие серебристые пряди волос в беспорядке рассыпались по его плечам; сухое, строгое лицо его было необычайно разгорячено, возбуждено. Эта-то возбужденность и была, очевидно, тою силой, которая вытолкала его из дому. Сделав несколько шагов, он пошатнулся и, балансируя в воздухе руками, едва удержался на ногах.
Оборотясь назад, он угрожающе потряс высоко поднятой десницей и пробормотал что-то. Он был жалок, и все же в нем было что-то мученически величественное.
На крылечке показалась изящная фигурка молодого княжеского секретаря.
– На одно слово, батюшка!
Он был уже около пастыря, взял его под руку и, участливо заглядывая ему снизу в лицо, стал ему что-то настоятельно нашептывать.
– Не может раб работать двум господинам: единого возлюбит, а другого возненавидит! – возразил отец Никандр словами священного писания; но по смягченному тону его Маруся поняла, что старик начинает сдаваться.
– Отчего же обоих не любить? – подхватил пан Бучинский. – Ласковый теленок двух маток сосет. И не сам ли Спаситель наш Иисус Христос велел нам любить врагов наших, как самих себя, и отпускать им прегрешения?
– Истина твоя, добрый человек, и победил ты меня сим своим словом. Скажи своему князю, чтобы и меня, старца, простил, буде лишнее с языка сорвалось: возгордился я своей твердой верой. Но сатана возгордился – с неба свалился; фараон возгордился – в море утопился; а мы возгордимся – куда погодимся?
Глава двадцать первая
Девушки «подслушивают», но не то, что ожидали
– Что это ты, Муся, какая странная нынче? – говорила панна Марина Марусе, разоблачаясь перед большим «венацким» зеркалом в своей опочивальне. Другую фрейлину свою, панну Гижигинскую, и двух своих прислужниц она выслала уже вон, чтобы поболтать перед сном наедине со своей любимой наперсницей.
Маруся в ответ тихо вздохнула. Панна Марина быстро обернулась.
– Это еще что за новости? Ты, детка моя, вздыхаешь?
– Я сведалась нынче от… (Маруся на минутку запнулась) от одного слуги царевича, что дядя мой в дороге сюда, и завтрашний день, может, будет уже здесь. Его воля, вы знаете, теперь надо мною.
– И тебе жаль расстаться с твоей панночкой? – с живостью подхватила панна Марина. Она крепко несколько раз чмокнула подругу в обе щеки и в губы. – Ах ты, милочка моя! Нет, я не отпущу, ни за что не отпущу тебя так скоро! И не думай.
Маруся безмолвно и как бы безучастно принимала ее ласки. Панна Марина за плечи отодвинула ее от себя и зорко заглянула ей снизу под опущенные ресницы.
– Нет, голубонька, по глазам вижу: тут не в дяде дело. Сказывай, признавайся: ну, что у тебя на душе?
Маруся покраснела и принужденно рассмеялась.
– Да пустяки! Цыганка эта…
– Цыганка? Что такое? Проговорилась, так изволь и договаривать. Я все равно не дам уже покою.
Марусе ничего уже не оставалось, как откровенно рассказать, по крайней мере, о встрече своей в лесу с ворожеей-цыганкой и о предсказании последней. О Михайле, да и о пане Тарло, от которого освободил ее Михайло, она, конечно, умолчала: язык у нее не повернулся произнести имя молодого гайдука. Когда она, наконец, упомянула о совете гадалки – послушать в полночь под замком церковных дверей, панна Марина радостно ударила в ладоши.
– Это чудесно! Какая жалость, право, что меня с тобою не было! Я спросила бы и о себе… Непременно прикажу завтра же разыскать мне эту цыганку! А подслушивать у церковных дверей пойдем вместе.
– Да я и сама-то, панночка, не совсем еще решилась…
– Вот на! Ты всегда такая бесстрашная… Или черта вдруг испугалась? – подтрунивая, добавила панна Марина. – Его же в ту пору не будет дома: он в пол-Ночь с бабкой своей тоже на Лысой горе.
– Кто его ведает? – задумчиво отвечала суеверная Маруся. – В полночь (на Украйне у нас бают) черт с бисом у погоста на кулачках дерутся.
– Ну, и подсмотрела б! – рассмеялась неугомонная. – Бабка их, точно, всякого перемудрит; ну, а с ними, мужчинами, еще мы сладим. Сам-то черт, говорят, хоть и черный, да бис рябенький: не выдаст черному братцу.
– Ах, панночка милая! Нешто можно на ночь говорить об этой нечисти! – вполголоса укорила Маруся, оглядываясь на темные окна. – Коли вам самим не боязно, так что же вы сейчас не пойдете одна-то?
– А что ты думаешь: не пойду я? Долго ль завернуться в капеняк (плащ без рукавов), накинуть кап-тур (капюшон)?
– Да ведь гляньте же: ночь глухая! И вам ли, воеводской дочери, идти темным бором на кладбище…
– Тебе, деточка, знать, самой тоже идти загорелося?
– Да уж вернее, вестимо, вместе идти…
– Ну, разумеется! И веселее. Я, так и быть, дам тебе даже первой послушать. Не опоздать бы только…
– Нет, еще рано: до полуночи больше часу времени.
– Так обождем.
Всякие дальнейшие возражения наперсницы оказались бесполезны: своенравная дочка сендомирского воеводы, ухватившись раз за мысль послушать в полночь у церковных дверей, не дала уже выбить у себя этой затеи из упрямой головки и своеручно еще закутала верную наперсницу в собственный свой черный квеф (газовое головное покрывало), чтобы ее ненароком как-нибудь тоже не узнали.
Ночь, как уже сказано, была безлунная; изредка только сквозь непроглядный мрак вспыхивала из-за парка зарница. При мгновенном блеске ее, незадолго до полуночи, можно было различить две легкие женские тени, скользнувшие со ступеней выходившей в парк замковой террасы под сень вековых буков и грабов. Но некому было заметить их, потому что все обитатели замка, казалось, почивали уже мирным сном.
– Ни зги, однако, не видать: как раз шишку на лбу себе настукаешь, – говорила шепотом Маруся.
– Дай же сюда руку: я тут каждый уголок знаю, – отвечала точно так же панна Марина. – Лишь бы мимо караульного у ворот на дорогу выбраться.
Минуту спустя они обогнули боковую башенку замка к воротам. За темнотою, караульного в сторожке не было видно; но доносившийся оттуда густой храп свидетельствовал, что с этой стороны им нечего пока опасаться. Затейницы наши тихонько шмыгнули мимо сторожки, в калитку, к подъемному мосту, выводившему через ров на большую дорогу. Тут зарница на миг один озарила снова всю окрестность. В некотором отдалении, по ту сторону моста, выделились как бы две темные человеческие фигуры. Панна Марина, не выпускавшая все время руки Маруси, скатилась по дернистому скату в глубокий, но сухой ров, увлекая туда с собою и свою спутницу.
– Да ведь это никак патеры? – прошептала Маруся. – Ну, как они нас заприметили?
– Навряд: мы были еще за кустами.
– Но чего им так поздно разгуливать-то?
– Чш-ш-ш! Молчи. Стало, надо. Дай пройти им.
Обе притаились, как убитые. Недолго погодя послышались шаги по деревянной настилке подъемного моста, а потом над самыми головами девушек и голос старшего патера:
– Ваша совестливость, reverendissime, доходит иногда ad absurdum; вы вечно забываете основной закон наш: что цель оправдывает средства.
– Но закон, clarissime, как хотите, не в меру жестокий и несправедливый, – возражал младший патер.
– Dura, lex, ced lex (закон жестокий, но закон). Не будет храма – не будет и проповедника. Или у вас для этого есть другое средство?
– Средств у меня нет; но боюсь я, как бы не попутал нас дьявол…
– Коли без дьявола не обойтись, то мы и дьявола возьмем за рога…
Шаги и голоса удалились, все кругом опять стихло.
– Вот и черт с бисом: один черный, другой рябенький! – с возвратившеюся смелостью заговорила Маруся, выбираясь с панной Мариной изо рва на дорогу. – Но что они, греховодники, затевают? Самого дьявола ведь за рога взять норовят…
– Не наше с тобою женское дело, Муся! – оборвала ее панна Марина, – о патерах же наших, сделай милость, не изволь так отзываться. Идем-ка скорее; как раз еще полночь упустим.
Как ни храбрились две девушки одна перед другою, но, вступив в лесную чащу, которую приходилось миновать им, обе крепче переплелись пальцами рук, плотнее прижались плечами друг к дружке и не шли вперед, а бежали. Густой дубовый бор кругом глухо гудел и шумел, словно со всех сторон сошлись здесь, столпились лесные духи, чтобы творить суд и расправу над дерзкими нарушительницами полуночной тайны. Хоть кому жутко станет…
Уф! Слава тебе, Господи! Благополучно выбрались-таки на ту сторону бора. Экая темень какая! Хоть глаз, право, выколи. Даже кузни Бурноса у опушки не видать, а про церковь в отдалении и толковать нечего. Но страшного этого говора лесного по крайней мере уже не слыхать, а в траве придорожной, вместо того, весело таково звенят кузнечики, в сторонке где-то, в поле, поскрипывают, перекликаясь, дергачи.
Ободрившись, две подруги куда уже храбрее продолжали путь. Вот они и у подошвы холма, на котором высится старый православный храм.
– Да ведь вы же, панночка, не православная? – хватилась тут Маруся. – Может, вам и слушать здесь негоже?
– Не православная, а все такая ж христианка! – с обидчивою гордостью возразила панна Марина.
– Простите, голубушка: опаски ради слово молвилось…
– Черту я, милая, слава Богу, как и ты, не поклоняюсь!
– Не поминайте его здесь, дорогая, врага Божьего! Ведь мы же среди мертвых на погосте… Да куда же вы?
– А тут ближе.
Подсмеиваясь над своей чересчур уже суеверной подругой, панна Марина, впереди ее, перелезла через низкую ограду и смело стала подниматься в гору, между могильными насыпями и покосившимися крестами.
– Смотри-ка, Стожары (созвездие Большой Медведицы) как горят-то! – говорила она, – все кругом видно.
Видать всего кругом, конечно, не было, но ночное небо, действительно, сплошь вызвездило, замерцало бесчисленными алмазными точками, и мерцанье это настолько озаряло пологий скат холма, что позволяло без большого затруднения пробираться вперед к мрачной громаде храма, черным силуэтом выделявшейся теперь на звездном небе.
Маруся нагнала свою панночку только у паперти.
– Смотри! – шепнула та, нервно хватая ее за руку, – ведь церковь-то не закрыта… кто-то есть там…
Двери храма точно были слегка только приотворены, и в щель виднелась бледная полоска света.
– Не тати ли грабители? – сказала Маруся, в которой мысль о совершающемся здесь, может быть, святотатстве поборола разом суеверный страх. – Побежим на село сзовем народ…
Но в это самое время свет в храме уже потух и послышались приближающиеся шаги. Бежать на село было уже поздно: когда-то еще было добудиться спящих крестьян! И, совершенно безотчетно, Маруся бросилась с паперти и схоронилась за выдающийся угол церкви вместе с панной Мариной, ни на минуту не выпускавшей ее руки. Ночные посетители храма вышли на паперть, тщательно замкнули двери и, тихо беседуя, стали спускаться под гору. Не имея возможности за темнотою разглядеть их, Маруся, тем не менее, тотчас узнала их по голосам.
– Там-то его ведь, я чай, никто уже искать и взять не посмеет? – говорил кузнец Бурное.
– Не должен бы, – отвечал отец Никандр, – ибо вход во Святая Святых неверцам строжайше заказан. Да и не попустит всемилостивейший Господь наш заклания верного слуги своего, агнца неповинного…
Дальнейших слов обоих Маруся уже не расслышала; но одно ей было ясно: что последнее убежище свое преосвященный Паисий нашел в святилище храма, и что панна Марина, вместе с нею, слышала разговор удаляющихся. Но поняла ли их панночка так же, как поняла она? Ведь о кознях патеров ей вряд ли что ведомо? Надо было притвориться, отвести глаза.
– Ах, какие же мы с вами трусихи! – рассмеялась Маруся. – Батюшку чуть не за грабителя приняли…
– Н-да… – как-то нерешительно отозвалась панна Марина.
– У меня и из ума-то вон, что дары святые вносятся у нас в храм в новолуние… – продолжала болтать Маруся, а сама про себя подумала: «Что я горожу такое! Господи, отпусти мне мое кощунство!» – А что, панночка моя, подслушаем еще у дверей, аль нет?
– Нет, детка моя; всякую охоту отбило.
На возвратном пути Маруся прилагала все старания, чтобы отвлечь мысли своей панночки от того, что слышали они на погосте, и, по-видимому, ей это удалось, потому что панна Марина на шутки ее отшучивалась, правда, довольно рассеянно, о слышанном уже не заикнулась, и сама же взяла с подруги слово отнюдь ни душе не проболтаться о их ночной прогулке, чтобы как-нибудь до ушей царевича не дошло.
«Ну, и слава Богу! Кажись, ни о чем не домекнулась, – соображала про себя Маруся, – сама, небось, боится огласки: стало, промолчит; на утро же дам знать через Бурноса отцу Никандру…»
Исполнить свое намерение, однако, ни поутру, ни после ей не было уже суждено.







