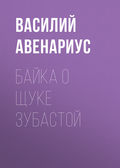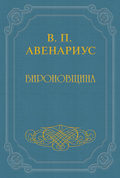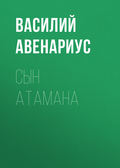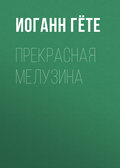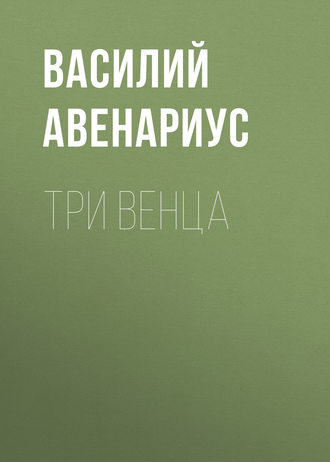
Василий Авенариус
Три венца
Глава тридцать четвертая
Еще о Марусином перстне
Придворный врач пана Мнишка чересчур уже поторопился похоронить молодого русского князя. Благодаря своему крепкому телосложению, Курбский пережил не только следующее утро после знаменательного придворного бала, но и недели, и месяца. Правда, жизнь его долго висела на волоске, и выздоровление шло крайне медленно.
Мокрая, непогодная осень буйно стучала и хлопала ставнями его опочивальни, а в палисаднике перед его окнами обрывала с дерев пожелтевшие листья. В полупотемках, за спущенными подзорами больной беспомощно был распростерт на своем ложе под шелновым одеялом то мечась в горячечном бреду и бормоча бессвязные слова, то изредка приходя в себя, чтобы вслед за тем снова впасть в забытье.
Зимние вьюги заунывно завыли в печной трубе, зазвенели снежными хлопьями по расписным «шкляным» окнам, а в палисаднике намели целые сугробы снега. Курбский продолжал лежать и только временами, очнувшись, видел потухшим взором, точно сквозь дымку, участливо склонявшееся над ним лицо доктора или фельдшера.
Наконец, в болезни произошел перелом к лучшему. Курбский стал довольно быстро поправляться, сидел уже в постели.
Но когда его в первый раз одели, усадили в кресло и, по желанию его, подкатили в кресле к окошку, его охватило невыразимо тоскливое чувство – чувство глубокого одиночества. Зима, зима снежная, студеная, бесприютная и на дворе-то, и на душе у него; ни листика не осталось…
А царевич? Тому, знать, и горя мало: по неделям, слышно, разъезжает по воеводству, побывал и в Варшаве, пирует то там, то сям…
В таком-то грустном, подавленном настроении сидел опять Курбский перед окошком, когда скрипнула дверь и послышался вкрадчивый голос:
– Дозволите войти?
Курбский оглянулся. В дверь просунулась продувная размалеванная рожа в дурацком колпаке с бубенцами. Больной слабо улыбнулся.
– А, Балцер! Войдите.
Шут колесом перекувырнулся через всю комнату до Курбского и в знак особого почтения опустил перед ним до полу свой дурацкий жезл.

Шут опустил перед ним свой дурацкий жезл
– Честь имею поздравить вашу княжескую милость с воскресением из мертвых! Только напрасно не закрыли еще этих гробов.
Он ткнул жезлом на лоб Курбского. Тот провел рукою по лбу.
– Каких гробов?
– А морщин на челе. Аль храните в них дорогих покойничков и зарыть жалко? Уберите их, уберите, пока не поздно. Будет время, иней старости убелит вам голову и бороду, мелкие дневные заботы, тайно грызущая скорбь изрежут, избороздят вам все лицо ваше, и те маленькие детские гробики вы возьмете, увы, с собой уже в могилу!
– Я думал, Балцер, доктор прислал вас посмешить, позабавить больного. И без того-то, поглядите, какая непогода, поневоле взгрустнется.
– Виноват, ваша милость! Нарочно ведь и пришел попросить прощенья за непозволительную погоду. Не поставьте в вину! Слышите, как соборный колокол бьет? Дрожмя ведь тоже дрожит! Холодом, видно, отморозило язык. Придворный маршал наш и то обещает принять возможные меры.
– А не слышно ли чего нового из Кракова?
– Нового-то покуда ничего нету, а старого – сколько угодно, – отвечал шут, не раз побывавший в королевской резиденции вместе с паном воеводой и, с присущим ему даром подражания, тут же представил перед Курбским необыкновенно наглядно сцену в приемной королевского дворца в Кракове. Изобразил он дежурного рыцаря перед кабинетом короля и, с заложенными за спину руками, принялся расхаживать около входной двери с педантическою равномерностью часового маятника, отбывающего свою положенную службу и не волнуемого никакими посторонними мыслями.
Но вот начинают прибывать один за другим разные более или менее высокопоставленные лица, допущенные к приему. Людям поменьше воображаемый дежурный слегка только кивал, отвечал отрывисто и коротко, перед сановниками же и вельможами он кошкою изгибал спину и нелепейшие вопросы их удовлетворял с заискивающей восхищенной улыбкой. Все эти разнообразные оттенки шут передавал так артистически тонко, что Курбский наслаждался его игрой, как художественным зрелищем. Расхвалив его, он выразил удивление, что тот, такой прекрасный лицедей, не пойдет на королевскую сцену, где заслужил бы и славу, и деньги.
– Да, деньги – великое дело! – подхватил Балцер Зидек, у которого при одном упоминании о деньгах глаза разгорелись. – Это – цель, к которой все мы стремимся; это – орех, который всякий бы разгрыз; это – яблоня, которую всякий бы потряс; это – цветок, который всякий бы понюхал… А кстати, – прервал сам себя шут, – не богат ли нынче ясновельможный князь пенензами?
На ответ Курбского, что деньгам у него в последнее время неоткуда было взяться, Балцер Зидек покачал головой.
– А жаль: перстенек-то этак, пожалуй, из рук уйдет.
Курбский встрепенулся.
– Перстень? Какой перстень?
– А тот самый, изволите знать, из-за которого у вас с паном Тарло тогда эта свара вышла.
Курбский чувствовал, как кровь горячо хлынула ему от сердца в голову.
– Да где ж он теперь, этот перстень? – спросил он, стараясь, хотя и не особенно успешно, принять равнодушную мину. – Не у вас, Балцер?
– Куда мне с ним! Да и капиталов у меня таких нет.
– Так у кого же?
– А вы, князь, не выдадите меня?
– Разумеется, нет.
– Назвать этого человека я лучше все же не назову. Скажу только, что это – один еврей-ростовщик здешний…
– Пан Тарло продал ему, видно! – воскликнул Курбский.
– Нет, нет, пан Тарло тут право же ни причем! – перебил Балцер Зидек, точно испугавшись, как бы пан Тарло не узнал от Курбского о месте нахождения перстня. – Сказал я вашей княжеской милости о перстне потому, что не нынче – завтра его повезут на продажу в Краков; а вам, сдавалось мне, перстенек-то приглянулся…
Пронырливый шут украдкой вскинул на молодого князя такой острый взгляд, словно хотел проникнуть в тайник его души. Курбский овладел уже собой и проронил небрежно, как бы только из любопытства:
– А много ли требует за него этот еврей?
– Да сто дукатов, слышно.
– Ну, таких денег у меня и в заводе нет!
– Может статься, он сделает скидку.
В это самое время к Курбскому вошел прислужник с докладом, что пан Тарло желал бы его видеть.
– Пан Тарло? – удивился Курбский и нахмурился. – Скажи, что я еще болен и никак не могу его принять.
Но, едва только слуга вышел исполнить приказание, как в горницу, без дальнейшего уже доклада, ворвался сам пан Тарло.
– Сидите, князь, сидите! – крикнул он еще от дверей и с каким-то насильственным прямодушием протянул Курбскому руку. – Вам ходить, я знаю, еще трудно. А вы, Балцер, извольте-ка оставить нас одних.
Шут нехотя повиновался. Курбский, не принимая протянутой руки, холодно заметил:
– Не понимаю, пане, что вам еще угодно от меня.
– А вот, если позволите, сейчас вам изложу, – отвечал гость, с тою же развязностью, без приглашения, пододвигая себе стул. – Вы, может быть, удивлены, что я не в отъезде вместе с другими? Во-первых, я отбывал здесь, из-за нашей стычки с вами, двухмесячный арест; во-вторых, я тоже инвалид, – прибавил он, указывая на свою повязанную щеку, – из-за вас же поплатился…
– Слышал; но все же не понимаю, пане Тарло…
– Будьте милостивы выслушать до конца. Та кон-фузия учинилась между нами так нежданно-неоглядно, что ни вы, ни я сам не взвесили хорошенько наших слов и поступков. Скажите: вы, верно, подметили тогда в жалосцском лесу, как я поднял с земли перстень панны Биркиной?
– Не сам я заметил, а цыганка…
– Ну, так! Теперь все ясно, как день. Вы знали, что я завладел перстнем и не только его не возвращаю, а проигрываю даже в ставке. Понятно, что у вас должно было зародиться подозрение… Но клянусь вам Пречистой Марией, – торжественно продолжал щеголь, поднимая для клятвы три перста, – мне хотелось только наказать, помучить панну Биркину. Но тут она ночью, ни с кем не простясь, исчезает; перстень ее остается у меня залогом на руках. За игрой, каюсь, я теряю голову. Проигравшись дотла, я, как в чаду, поставил перстень, чтобы вернуть проигрыш… Было это легкомысленно, согласен, но что поделаешь с дикою страстью? В страсти человек уже сам не свой. Притом же перстень временно был как бы моею собственностью, арендной статьей, и я имел в некотором роде даже право располагать им, чтобы впоследствии, разумеется, возвратить в целости кому следует. Удержать его навсегда у меня, понятно, никогда и на уме не было. Вы, надеюсь, верите мне, любезный князь?
Он говорил с жаром и, по-видимому, вполне убежденно в правоте своей. Не разделяя его своеобразного взгляда на чужую собственность, Курбский не мог почти сомневаться в его искренности.
– Положим, что и поверил бы, – сказал он, – но…
– Пожалуйста, без всяких «но!» Скажите прямо: верите вы мне или нет?
– Верю…
– Вот за это слово вам великое спасибо! Представьте же себе, как должно было взорвать меня, рыцаря, когда перед целым обществом таких же рыцарей вы обозвали меня лжецом! Я – ратный человек головой и сердцем; более того, без неуместной скромности, – я горд и лют, как лев: не дай Бог кому раздражить меня! Тогда я – кровожадный царь пустыни, и обидчику моему нет пощады! Вы, может быть, спросите: «да где же теперь перстень?» А ей-Богу же, руку на сердце, не ведаю! С игорного стола тогда он как в воду канул. Где бы он теперь ни был, я омываю уже руки. Черт с ним! Сгинь он совсем, и знать про него не хочу!.. Покаяние мое кончено. Но, «кто старое вспомянет, тому глаз вон», говорят у вас на Руси. Сам я на вас ничуть уже не злоблюсь, а напротив того, душевно даже жалею, что причинил вам такую неприятность, хотя пострадал гораздо больше вас.
На лице Курбского он прочел, должно быть, некоторое недоумение, потому что решился на акт геройского самоотречения.
– Вы, пожалуй, думаете, что мне мою рану легче переносить, чем вам вашу? Так извольте же: в виде особого доверия, для конклюзии, я покажу вам то, чего до сего часа ни единый человек в мире, кроме врача моего, еще не видел.
Он стал осторожно снимать со щеки своей повязку. В пальцах его заметна была нервная дрожь; сжатые губы его передергивало; но он выдержал свой «рыцарский» характер – и повязка спала.
– Ну, что? Хорош?
В натянутом смехе щеголя слышалась какая-то удалая, хриплая нотка.
Курбский, взглянув, в самом деле испугался. Вдоль всей левой щеки пана Тарло, от угла рта до самого уха, зияла глубокая рана, хотя и сшитая, казалось, но потом как будто опять растравленная, потому что цвет ее по середине был ярко-пунцовый, а к краям она переливала цветами радуги от бледно-желтого до темно-лилового.
– Бог мой! Кто вас лечит, пане? – спросил Курбский. – Ведь рану-то вам совсем разбередили.
– Правду сказать, и моя тут отчасти вина, – сознался пан Тарло, старательно перед зеркалом налагая себе опять повязку. – Кто мазь советовал, кто присыпку, примочку…
– И вы, небось, слушали всякого, пытали всякую дрянь? Побойтесь Бога! За что вы терзаете себя? Промывали бы себе щеку по несколько раз в день просто студеной водой – в неделю бы зажило. По себе сказать могу: видите шрам на лбу?
– Тоже от поединка?
– Н-нет, – замялся Курбский, – в лесу раз недобрые люди напали, до кости череп раскровянили…
Пан Тарло чуть-чуть усмехнулся: припомнил, видно, что слышал от покойного Юшки про участие молодого князя в разбойничьей шайке.
– А теперь вот только малый след остался, – сказал он. – Так вы думаете, любезный князь, и у меня так зарастет?
– Хоть, может, и не так: очень уж запустили, но все же куда скорее, чем от мазей и присыпок.
– И показаться в людях скоро можно будет? Курбский понял, перед кем тот так опасливо скрывал свою изуродованную щеку.
– Отчего же нет? – отвечал он. – Для очей женских нет ничего краше, как этакий изрядный шрам на лице рыцаря.
Рыцарь просветлел.
– И то правда! Вы, князь, душа-человек! А я-то, признаться, к вам вот зачем. Царевич ваш доселе на меня из-за вас косо смотрит. Не замолвите ли вы ему при случае дружеское слово за меня?
Заискивающий, притворно задушевный тон, которым была произнесена эта просьба, охладил снова минутное участие Курбского к пострадавшему через него врагу.
– После того, что было между нами, пане Тарло, о дружбе у нас с вами не может быть и речи, – сухо отвечал он. – Да и нуждаетесь ли вы в чьем-либо заступничестве?
– Ну, полноте, князь! Ваше слово для всякого ценно. Я твердо рассчитываю на ваше рыцарское отношение к вашему прежнему врагу.
И, поцеловав Курбского по польскому обычаю в плечо, гость, наконец, удалился.
Балцер Зидек, должно быть, стоял за дверью, потому что тотчас за уходом пана Тарло юркнул опять в комнату.
– А! Каков перстенек-то? – говорил он, повертывая во все стороны надетый у него на указательном пальце алмазный перстень, который от этого так и сверкал, так и переливался разноцветными огнями.
– Дайте его сюда, Балцер! – отрывисто сказал Курбский, которому было невыносимо видеть Марусин перстень на руке балясника.
– Извольте, ваша милость! Еврея-то я уломал-таки: отдает за пятьдесят дукатов.
– И это для меня, признаться, много.
– Рассрочит! Покуда ваша милость надумаетесь, он вас не будет тревожить. Прошу прощенья: меня звали.
И с тою же поспешностью Балцер Зидек скрылся из комнаты, оставив заманчивый перстень в руках молодого князя. А Курбский? Первым побуждением его было – крикнуть назад шута; но голос у него замер в горле. С какою-то скорбною радостью стал он разглядывать перстень.
«Что за прелесть! Надо возвратить Марусе, непременно возвращу. Но через кого? Случай найдется. А до времени…»
Он расстегнул у себя ворот, достал тельный крест с образком своего ангела и, сам перед собой краснея, на одной цепочке с образком прицепил «заповедный» перстень.
Глава тридцать пятая
В ком сила
– Да ты, князь Михайло, совсем, я вижу, молодец-молодцом! – сказал царевич, возвратившись опять из многодневной отлучки. – Из лица только маленько еще бледен. Поправляйся, поправляйся, – пора; ты мне более чем когда-либо нужен.
На вопрос Курбского: как он доволен своим объездом воеводства и поездкой в Варшаву, Димитрий немного замялся: потом нехотя отозвался, что принимали-то его паны вообще радушно, даже пышно, «чисто по-польски…» Но раздумчивый, озабоченный вид его показывал, что ожидал он еще чего-то иного.
– Да тебе же, государь, посулили, что они все горой как один человек, станут за тебя на сейме? – прямо поставил уже вопрос Курбский.
– Сулить-то сулили…
– А на поверку-то не то выходит?
Царевич взял друга своего за руку и усадил его на диван рядом с собою.
– До сегодня, Михайло Андреич, жалеючи тебя, больного, я не хотел тебя своими делами тревожить: не расхворался бы еще пуще…
– Да ведь я же, государь, сам видишь, все равно, что здоров.
– Вот потому-то мне и охота бы теперь побеседовать с тобой душевно. Хоть и с высокими людьми я вожусь тут, а опричь одного тебя, у меня здесь нету доселе (что греха таить!) ни единого истинного доброжелателя. У всех у них одно лишь на уме: покорыстоваться от меня, будущего царя московского. Ты же – человек совсем верный, тайны никакой не выдашь…
– Сроду этого не делывал! Всякая тайна у меня в груди, что искра в кремне, скрыта.
– Знаю. А ты же человек рассудливый, смышленый: пособишь мне, может, думы мои избыть. Считаться мне надо, изволишь видеть, в особину и с королем-то в Кракове, и с сеймом польским, и с братьями-иезуитами. Король Сигизмунд, как ведомо тебе, родом королевич свейский; ему куда хотелось бы свей-скую корону сохранить за собой да за юным сыном своим Владиславом; но дядя его, Карл, норовит утянуть ее, и идет у них ныне бой смертный в Ливонии: чья возьмет.
– А ливонцам-то в чужом пиру похмелье? – вставил Курбский. – Паны дерутся, а у хлопцев чубы трясутся.
– Судьба, значит. Да что нам до ливонцев! Кто их ведает: за кого они! Доселе же счастье ратное клонилось более к полякам: великий гетман коронный, Замойский, бывалый, старый вояка, поотобрал у свейцев всякие города ливонские: и Вольмар-то, и Феллин, и Белый камень (Вейсенштейн); а гетман литовский Ходкевич месяц назад штурмом взял последний оплот их – Юрьев (Дерпт). Все бы, кажись, ладно, да сам Сигизмунд этот себе и народу своему враг: спознался, хороводится, вишь, с колдунами заморскими, алхимиками, что железо да медь в золото претворяют – и уходит у него подлинное золото в трубу паром! Паче же того, слышь, гульба его одолела: до всяких затей придворных, потех рыцарских зело падок; на дело-то свое государево не удосужится, а по пустякам, на ветер, что пыль, казну свою королевскую пускает! Глядь, на рать-то в Ливонии и гроша медного уже неоткуда взять; и ропщет рать, не покорствуют гетманы. А тут еще намедни на большом сейме варшавском отрешил старца Замойского, произвел в великие маршалы коронные прихвостня своего Мышкоского; ну, и замешалось все, прахом пошло!.. Сколько их теперь от него отшатнулося!.. Довелось мне побывать на этаком малом их сейме. Что у шляхты этой там деется! Все как есть врозь: кто за кого, кто за что; ни ладу, ни толку; слушаться никому не в охоту, а в региментари, в гетманы всякий метит.
– Но отчего эти сеймики у них такую силу взяли?
– На то Речь Посполитая! Ведь король-то здешний без воли сейма ни единого ратника в поле не поставит, ни единой подати не наложит, не отменит. Намекал мне по тайности хозяин наш Мнишек про короля Сигизмунда, что не прочь бы он, пожалуй, и руку мне подать противу Годунова; как воссел бы я на царство, так пособил бы ему в свой черед осилить свейцев; долг платежом красен. Да и с Русью-то нашей московской на двадцать лет, вишь, крепкий мир у них слажен, и сейм вряд ли соизволит ныне же идти на Годунова. А тут и с Ливонией еще не порешили. Где ж им для меня рати, денег взять?
– Была б охота – все найдется! – с уверенностью сказал Курбский. – Нагляделся я, чай, как живут они здесь; всякий шляхтич – маленький воевода, а воево-Да – тот же круль польский. Так у них ли деньгам не найтись? А что до рати, то только клич кликнуть; всякий шляхтич – рыцарь, всякий себе, коли нужно, хоругвь ратников наберет. Была б охота, государь: «Хочу» – половина «могу».
– То-то вот и есть! – промолвил Димитрий, и в голосе его послышалась затаенная горечь. – Сам Мнишек, пожалуй, все для меня сделает – не из-за меня, конечно: что ему в русском царевиче?
– А из-за дочери своей, панны Марины?
– Знамое дело. Скажу прямо: нужен ему для нее царский венец. А откажись я от нее – и он для меня, москаля, палец о палец не ударит.
– Не во гнев молвить твоей царской милости: опостылела она, значит, самому тебе?
Царевич помолчал, потом глубоко вздохнул.
– Эх, милый ты мой! Совсем она, злодейка, напротив, извела меня…
– Так зачем же, прости, дело стало? Не русская она, правда, не нашего закона; но ради мужа, коли точно любит, за верой не постоит.
– «Коли любит!» В этом-то и загвоздка… Слышал, я чай, что ее второй месяц в Самборе уже нет?
– Сказывали мне, государь: скоро после приезда нашего занемогла, мол, да лекарями к сестре княгине в Жалосцы услана.
– Так, верно. Но чем занемогла, отчего? Ведаешь ли?
– Не ведаю, государь.
– И тебе бы ни словечком не промолвился – да невмоготу! На другое же утро после того праздника, что задал мне пан воевода и где ты, бедняга, так поплатился, с дочкой его что-то совсем неладное учини-лося, словно кто обошел ее. Не то, чтобы хворь какая лютая напала на нее, нет; но девичью резвость с нее разом как ветром свеяло, головушку повесила, из очей ясных свет выкатился… И отвезли ее тут к Вишневецким – другим-де воздухом подышать. Да и точно воздуху не хватало ей…
– Прости государь, в толк не возьму.
– Сам я тоже спервоначалу уразуметь не мог, уныло продолжал Димитрий. – Да затейник этот, шут Балцер Зидек, глаза мне открыл: рассказал такую притчу…
– И денег при этом выклянчил?
– А ты-то, Михайло Андреич, почем знаешь?
– На себе изведал.
– Да, сребролюбец! Но притча его все же как бы на правду похожа. За голубкой-де, говорил он, гнался могуч орел: откуда ни возьмись тут ясен сокол, из-под когтей орлиных унес ее… А кому ж и быть тем соколом, как не пану Тарло? Все кружился около моей голубки, доколе крыл ему не обкарнали. Устыдился он, укрылся от всех очей. А она с того же часу стосковалася: унес он, знать, сердце девичье!
– Нет, царевич, догадка твоя (не в зазор молвить) не на одну ножку – на обе хромает. Буде этот пан Тарло точно люб ей, статочное ли дело, чтобы она в беде покинула его? Хоть не видела б, да с порога его не сходила б, чтобы ежедневно, ежечасно знать, каково-то ему, бедному. Она ж, словно ей и горя мало, живет себе за тридевять земель, и ни слуху от нее, ни духу. Это ль любовь верная, горячая?
– Да что же тогда было с ней? По ком она горюет?
– Во всяком разе не по пане Тарло. И горюет ли еще, полно? Мне же, государь, сдается совсем иное.
– Что же?
– Ведь она, как ни есть, ляхитка…
– Ну?
– В иезуитской тоже школе побывала: хитрости-мудрости ее не учить стать. Видит, что сухоту навела на сердце орлиное, и у самой в жилах кровь, не вода; любовь – пожар: загорится – не потушишь. Да у орла-то крылья еще подпешены, нету полета орлиного. Вернее, стало, у моря погодку ждать: взлетит он в поднебесье – ладно: с собой голубку орлицей унесет; не взлетит – просим не прогневаться: голубка и соколом не побрезгает.
Димитрий немного ободрился и в волненьи зашагал по комнате.
– Дай Бог, Михайло Андреич, чтобы догадка твоя верна была… Такая, я тебе скажу, присуха напала, что просто жизнь не в жизнь! Без брачного венца с ней не надо мне и царского венца!
– А ей без царского венца к брачному проку нет! – Досказал Курбский. – Как, значит, ни раскидывай, а первым делом тебе, государь, надо заручиться царским венцом.
– Легко сказать! Ни от короля, ни от шляхты, сам видишь, помоги не жди. Остается одна, последняя сила земная, недобрая, правда…
– Иезуиты? – догадался Курбский. – Берегись их, царевич! Баламуты эти, коли захотят, точно, вознесут всякого, возвеличут; захотят – втянут в беду неизбывную.
– Но они, сам ты говоришь, все могут: и короля-то обойдут, окрутят, и шляхту…
– И тебя самого, государь!
– Меня? Да что им от меня?
– Через тебя они дорожку себе на Русь проторят.
– Ну, проторят, нет ли – это еще вилами по воде писано. Что вперед загадывать? А в них, повторяю тебе, вся сила! Покуда мое дело ни шагу, можно сказать, не двинулось; а почему? Потому что я силы той сторонился. Не даром же и патер этот Сераковский все около меня ходит да бродит, словно поджидает только случая…
– Ну, вот, вот! Как волк, чует уже поживу. Берегись его, право!
Димитрий через плечо оглянулся на своего друга и самонадеянно, гордо усмехнулся.
– А я ему, мнишь ты, в руки так вот и дамся? Лукавец он, верно, какого поискать; но колебать православие мое доселе не пытался. А попытается – так разумом я тоже не совсем плох: погодим еще, кто кого перелукавит.
Горько было Курбскому слушать такие речи царевича; но возражать было уже бесполезно: в иезуитах Димитрий видел теперь единственную свою надежную опору, а при упрямстве своем он, конечно, не отказался бы от принятого раз решения.
«Оберечь бы мне тебя только по мере сил; глядеть в оба!» – обещал себе Курбский. Но, увы, углядеть все никому не дано. Видел он, что царевич не раз сам искал теперь общества патера Сераковского, видел, что между обоими происходили какие-то таинственные совещания; но о чем именно они совещались – Димитрий пока умалчивал, точно опасался влияния на себя своего друга и советчика. Вскоре один из подначальных Сераковскому иезуитов отбыл в Краков; но в какой связи отъезд его был с планами царевича – для Курбского точно также оставалось загадкой.
Незадолго до Рождества, когда они раз были наедине, царевич не утерпел, казалось, снова поделиться с единственным своим доброжелателем занимавшими его мыслями.
– Помнишь еще, Михайло Андреич, разговор наш о том, в ком вся сила? – начал он. – Вот у меня письменное свидетельство, что я был прав.
– Что сила в иезуитах?
– Да.
В руках царевича оказалось распечатанное письмо.
– Кто тебе пишет, государь?
– Это не ко мне.
Он показал Курбскому надпись. На затыле письма значилось по-польски:
«Преподобному патеру Николаю Сераковскому в Самборе от патера Андрея Ловича в Жалосцах».
Курбский удивленно поднял глаза на царевича.
– Патер Сераковский сам отдал грамоту эту в твои руки?
Димитрий как-то насильственно усмехнулся.
– Нет, друг мой; что она теперь у меня, он, конечно, не знает. Балцер Зидек подъехал опять ко мне с иносказательным сном: приснилось-де ему, что у Сераковского выпала эпистолия, которую он, Балцер, поднял; а как проснулся, так оказалось, что сон в руку. И от пана Тарло было бы ему спасибо; да меня обойти он не счел-де возможным.
– Потому что пан Тарло в долгу, как в шелку, а ты верно не поскупился с ним!
– Да вот, послушай, сам оценишь. Говорили тебе, что панне Брониславе Гижигинской, первой фрейлине панны Марины, выпало крупное наследство?
– Да, после одной дальней родственницы. Слышал как-то.
– В начале тут в грамоте речь идет об ней. Прочту я нарочно тебе все дословно, чтобы ты видел, что за мастера эти красноглагольники улещать простаков.
«Fratre in Deo et Filii et Regina Coeli!
Спешу сообщить вам, что ваша драгоценная инструкция относительно панны Б. (то есть Брониславы, – пояснил царевич от себя в скобках.) привела к результату – если и не самому желанному, то все же благоприятному. Со своей стороны я приложил сперва все возможные старания, дабы воздействовать на наслед-ницу. Указывая ей на такое наглядное непостоянство мужчин, приводя ей многие примеры несчастных супружеств и внушая ей вообще отвращение к брачной жизни, я, вместе с тем, рисовал ей в самых радужных красках святое житие смиренной девственницы, отрекшейся от всех мирских соблазнов и посвятившей себя всецело делам христианского подвижничества.
Успех казался обеспечен; зашла уже речь об отказе всего наследства в пользу нашей общины. Но тут на беду пожаловал сюда этот неисправимый пан Т. (то есть Пан Тарло), который, как оказывается, едва вырвался из когтей своих самборских кредиторов. Богатая наследница была для него находкой. Отказавшись уже от журавля в небе – панны М., которая держит его теперь в почтительном отдалении от себя, он протянул руку за этой синицей, и та разом забыла все мои наставления и далась ему в руки. Пришлось прибегнуть к крайнему средству – напомнить ему, что он связан клятвой с общиной Иисуса, которая, незримая, неуловимая, неуязвимая и вездесущая, к преданным ей сынам церкви милосердна (что сам он неоднократно испытывал уже на себе), но беспощадна к ослушникам и изменникам. По невоздержности нрава он рвал и метал, но в конце концов стал умолять меня, на каких бы то ни было условиях, дать ему свободу. Что оставалось мне, clarissime, делать с этим сумасбродом, от которого общине доселе, правду сказать, более вреда, чем пользы? Памятуя ваши слова, что и половина наследства панны Б., по размерам оного, была бы для нашей кассы ценным вкладом, я решился, на свой страх, освободить пана Т. от его клятвы, но с письменным от него обязательством при женитьбе на панне Б. уступить общине половину ее наследства. И вот сегодня состоялось торжественное обручение обоих. Жду дальнейших инструкций».
– Так вот они каковы, эти господа иезуиты! – заметил тут царевич. – С этой силой, как видишь, нельзя не считаться.
– А о панне Марине в письме ничего более не говорится? – спросил Курбский.
Глаза Димитрия заблистали.
– Говорится: «Настроение панны М. пришло в некоторое равновесие: она беззаботно порою опять шутит, смеется, хотя прежних девичьих дурачеств у нее уже не видать. Перенесенная ею душевная буря прошла для нее, как видно, не бесследно…» Какая ж то «душевная буря», скажи? Мне все думается на пана Тарло!
– А дальше в грамоте нет ничего об этом?
– Ни полуслова. Говорится только, что «ее тешит опять мысль о царском венце, но что и ради этого венца она ни в каком случае не изменит своей римской веры…»
– А что я говорил тебе, царевич? – с живостью подхватил Курбский. – Она, увидишь, не только сама нашего закона не примет, но и тебя еще в свой обратит.
– Ну, до этого еще далеко! – уклончиво отозвался царевич; но в щеки его, тем не менее, поднялась краска. – Буде у панны Марины даже и было что такое в мыслях, – сам, друг любезный, посуди: они для нас еретики; мы для них схизматики. Чья же вера перед Господом угоднее и праведней: их или наша? Кому судить? За нашу восточную церковь, правда, вся Русь да греки; за них же – весь прочий мир христианский…
– Окроме лютерцев, кальвинов, гусситов! – горячо перебил Курбский. – Зачем же те-то от папы римского отступилися? Знать, тоже неспроста!
– Вестимо… – пробормотал, не поднимая глаз, Димитрий и сложил письмо. – Но в иезуитах теперь и спасение мое, и погибель; а гибнуть я не намерен! Так ли, иначе ли, полажу с ними.
– Но русского Бога своего, государь, все же не забудешь?
Царевич смело закинул голову.
– На Бога, милый, надейся, да сам не плошай!