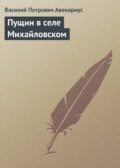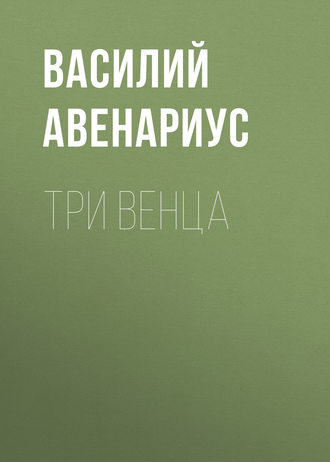
Василий Авенариус
Три венца
Глава семнадцатая
Волк в овчарне
Приложившись ухом к двери, Михайло не пропустил ничего из того, что происходило рядом, в «свитлице». Он слышал, как патер Сераковский, усаживаясь там с хозяином, обычным своим медовым тоном заявил, что, прибыв в эти края, почел священным долгом явиться с братским приветом к собрату по алтарю, ибо оба они идут, хотя и разною стезею, к единой цели – к прославлению имени Божия, оба учат одной великой книге – святому писанию.
– Книга-то хороша, да начетчики плохи, – прошептал за спиной Михайлы старик-епископ.
Отец же Никандр отвечал гостю словами Спасителя:
– Где два или три собраны о имени Моем, там есмь Аз посреди их. Воссиявает же Господь наш лучи солнечные как на лукавых, так и на благих, в гонении и утеснении пребывающих.
Иезуит нашел нужным придать словам хозяина такой смысл, будто тот жалобится на свое собственное «утесненное» положение, и выразил некоторое удивление и «непритворное» соболезнование, что «собрат» его живет столь скудно, что даже референда (ряса) на нем не доброприлична: князю Вишневецкому, «сему мужу нарочито цесарскому», зазорно де, что ни говори, держать в черном теле его, стража Божия, хотя бы и чуждого закона.
Отец Никандр был по-прежнему настороже и отозвался с тою же кротостью, что он благ земных не тщится, ибо и жену, и двух деток давно схоронил; не в гору-де ему живется, а под гору: что ему, маломощному старцу, нужно? Хлебца да водицы – и жив, пока Бог грехам терпит.
Гость согласился, что «мы прах и тень» («pulvis et umbra sumus»), но все же не мог не выразить прискорбия по поводу того, что у досточтимого хозяина не только не имеется, как он слышал, «викария», наместника, на случай его болезни, отлучки и т. п., но по смерти последнего дьячка, последнего пономаря, не дано ему новых, и сам он, отец Никандр, вынужден по воскресным дням с колокольни трезвонить.
Этот удар попал ближе к цели. В голосе отца Никандра звучало уже легкое раздражение, когда он отозвался, что готов смиренно нести свой жребий, выполнять свой священнослужительский долг, доколе слабых сил его хватит; но что одно ему, точно, больно и горько: что князь-то его, коего своеручно он полвека назад вынул из купели, ныне веры истинной отступился и обычаев и дел добрых праотцев своих удалился.
Патер Сераковский выразил полное сочувствие его сетованию, но вместе с тем и благодарность случаю, давшему ему встретиться со столь ревностным поборником восточной церкви, с коим «подиспутировать» он себе в особенное удовольствие поставит. Допуская со своей стороны, что лучшие времена православия в крае миновали, иезуит просил «собрата» оглянуться, однако, на историю церкви. Что являет она? Нудил ли кто литовцев и западных, и южных креститься в римскую веру? Когда Ягайло, князь литовский, два с лишком века назад, женился на королевне польской Ядвиге и обрел с нею польскую корону, не добровольно ли принял он латынство, не добровольно ли, купно с ним, и высшие вельможи литовские признали римского папу, хотя король Ягайло торжественно обещал им – ни веры их, ни обычаев и обрядов стародавних не трогать, лишь бы признали над собою главенство папы.
– Лишь бы признали! Лишь бы отреклися, стало, от своей исконной веры! – видимо все более волнуясь, подхватил отец Никандр. – А кто-де не признает папы – тому все пути навек заказаны? Ну, и признавали малодушные, кто славы ради мимотекущей, кто сребролюбия, кто сладостей мира сего ради. Но благодарение Всевышнему, здешний простой народ, темные миряне, непопорченные иноземною кровию потомки Несторовских древлян, за малыми изъятиями, остались в законе истинном веками непоколебимы, и доныне о папе римском слышать не желают.
Патер Сераковский, нимало сам не возвышая голоса, просил собеседника оставить пока в покое вопрос о происхождении местного населения, в жилах которого течет, пожалуй, также кровь древних дреговичей, а то и поляков; равно не касаться главенства папы – вопроса спорного еще и у западных теологов. В одном пункте, говорил он, – у них все-таки едва ли может быть разноречие: касательно зловредных отщепенцев из немечины – «кальвинов и евангеликов, согласников лютеранского раскола». Эти – общий их, смертельный враг, от коего латынцы, пожалуй, потерпели пуще даже православных: по всей Литве костелы их обращены были в кирхи, монастыри католические позакрыты, ксендзы разогнаны, либо переженены, так что в Жмуди, например, из 700 приходов латынских всего навсего 6 осталося, а в иных местах и того меней. В поддержание-то коренной веры Христовой противу сей новой злокачественной ереси королем Сигизмундом-Августом и учинена была великая Люблинская уния, коей с поляками уравнены и литовцы, и украинцы во всех правах их – и в свободном исповедовании отцовского закона.
– А равно напущена на Литву и Украину эта саранча залетная… – с горечью досказал отец Никандр и вдруг, как бы спохватись, замолк.
– Саранча? – переспросил иезуит. – Вы, брат любезный, кого под сим эпитетом разумеете? Панов и ксендзов польских, которых дотоле здесь почти не бывало? Или же, может статься, вызванных нарочно польской короной с Запада иезуитов?
– Не будем говорить об этом, – уклонился от прямого ответа отец Никандр.
– Отчего же? Сам я, как член ордена святого Бернарда, отнюдь не стою за членов общины Иисуса; но не могу не отдать им честь: они многим монашествующим могут служить примером: умучают и покоряют плоть свою в порабощении и в послушании духу, а ближним своим творят немало-таки добра.
– Упаси нас Боже от даров Данайцев! – вздохнул отец Никандр.
– Timeo Danaos et dona ferentes? Вы, коллега, несправедливы. По правде молвить, нигде иезуиты не оказали учению Христову таких услуг, как именно на Литве: не они ли были главными миротворцами между латынцами и приверженцами восточной церкви? Не чрез них ли и церковная уния на соборе Брестском?
– Вот то-то ж и есть! – воскликнул отец Никандр, на которого слово «уния» упало воспламеняющей искрой. – Не от унии ли, сей прелести пагубной, всем твердым еще в старом православии не стало ныне ни ходу, ни выходу? Ремесла и торг им заказаны; в судах показаниям их нет уже силы; отцам возбраняют своей властью дочерей замуж отдавать, а замужних, являющих права свои на наследие, насильно в римские монастыри заточают! Ослушников же, челобитную приносящих, последнего живота решают, в темницы заключают, всяческой пыткой терзают. А на церковь восточную, на нас, служителей оной, такое гонение воздвиглося, какого и в древние времена у поганских царей не слыхано. Братства наши церковные позакрываны, местности церковные поотобраны, храмы многие униатам порозданы, другие ж – жидам на откуп…
Затаив дыхание, Михайло не проронил ни слова из духовного словопрения двух служителей церкви разного толка, и теперь только, услышав за собою глубокий вздох, вспомнил о преосвященном. Он оглянулся. Старец епископ, судорожно ломая свои изможденные руки, с отчаянием в поднятом кверху взоре, беззвучно шевелил своими иссохшими, бескровными губами, – очевидно, моля Всевышнего обуздать, образумить его брата во Христе, дабы не накликать на них обоих еще вящей невзгоды.
Голос патера Сераковского за дверью заставил Михайлу снова отдать все внимание собеседующим.
– Един Бог без греха… – кротко заметил иезуит и пояснил, что сам он, конечно, душевно скорбит о тех исключительных случаях, где сопротивление, оказанное людьми православными распоряжениям латинских властей, побудило эти власти к иным, чересчур, быть может, крутым мерам. Так, например, добавил патер, – он отнюдь не может одобрить тех жестокостей, коим, как слышно, подвергся «баннированный» из «епископии» своей православный «прелат» веноцкий… как бишь его? Феодосий или Паисий? И что всякого истинного христианина, какого бы толку он ни был, должно радовать, что сему прелату благостию Божиею удалось, наконец, найти выход из места заточения. И где-то он, бедный, пребывает ныне!..
Отец Никандр успел, видно, опять опомниться и отвечал гораздо сдержаннее прежнего:
– Пребывает он в прегорчайшей пустыне, Богом хранимый, нося на теле своем раны мученические.
Гость выведал от хозяина, по-видимому, все, что ему надо было, и стал прощаться. На ходу, однако, он обратился вдруг к хозяину с просьбой дозволить ему обозреть его обитель, чтобы ему легче было посодействовать улучшению стесненного положения любезного собрата.
Долготерпение отца Никандра было, должно быть, истощено. Он сухо, наотрез отказал иезуиту в просьбе, говоря, что в заступничестве его не нуждается.
Между тем патер Сераковский, будто по рассеянности, вместо выходной двери, шагнул к двери пастырской спальни.
– Куда! Это… моленная моя! – растерянно всполохнулся отец Никандр, хотя и мог думать, что с той стороны Михайло напирает на дверь плечом.
Тот, впрочем, и не коснулся даже скобки двери: между «варистою» печью и деревянной переборкой, чтобы последняя как-нибудь не затлелась, была оставлена небольшая щель, сквозь которую, приложив глаз, можно было обозреть добрую половину спальни. Патер Сераковский, само собою разумеется, не прикладывал глаза к щели, однако, мимоходом, вероятно все же углядел в нее столько, сколько ему требовалось, потому что с невозмутимою вежливостью извинился перед хозяином в невольной ошибке и повторил обещание все-таки воззвать к милосердию «светлейшего».
За этим брякнул замок наружной двери: волк окончательно удалился из овчарни. Михайло вздохнул с облегчением и обернулся к епископу:
– Благодарение и хвала Создателю: пронесло над тобой тучу, отче владыко! Но надолго ли? Недомекнулся ли он все же, что ты тут за переборкой…
– Да будет над нами святая воля Господня! – с полною уже покорностью отвечал старец и обратился к входящему отцу Никандру с дружеским укором за отповедь его против унии и иезуитов.
– Правда груба, да Богу люба! – с сердцем возразил тот. – Света во тьму прелагать не тщусь, а сладкое горьким, горькое сладким не называю!
– Но патер этот, по образу и речам своим, был благожелателен и ласков.
– А по делам – вскуе шаташася! «Лучше лоза или жезл неприятеля, – глаголет боговидец Исаия-пророк, – нежели ласкательные целования вражьи».
Как прав был отец Никандр в недоверии своем к «ласкательным целованиям» иезуита – в том убедился вслед затем и сам преосвященный.
Глава восемнадцатая
По свежему следу
Пока дружески пререкались между собю два пастыря, Михайло вышел в «свитлицу» проследить оттуда из окошка за иезуитом, который, как подозревал он, принял уже необходимые меры, чтобы беглый епископ, буде тот действительно оказался бы у своего школьного однокашника не ускользнул опять из рук. Опасение его вполне оправдалось.
У перекрестка, где расходились дороги к селу и бору, патер остановился как бы для того, чтобы перевести дух, не спеша достал из кармана красный фуляр и встряхнул им по воздуху. Это был, без сомнения, условный знак, потому что в тот же миг от лесной опушки по аллее, меж стволами деревьев, показался всадник, сопровождаемый стремянным.
– Пан Тарло и Юшка! – вскричал Михайло. – Сейчас они будут здесь, отче: патер махнул им платком.
Отец Никандр также подбежал к окошку: по аллее быстро приближалось облако пыли.
– Они ли это, полно?
– Они, они! Вон встретились с Сераковским. Отец Никандр наскоро закрыл на железный крюк единственную входную дверь.
– Пана Тарло этим долго не задержишь, – заметил Михайло, – волей не впустим – силой вломится. Отстоять вас обоих на первый случай я, правда, мог бы, да что толку в том? Все знать уже будут, что ты, батюшка, дал отцу-владыке приют у себя.
– И пойдет на тебя через меня лютейшее еще гонение! – подхватил из своей горницы преосвященный. – И по что ты, брат милый, укрыл меня у себя!
– Вместе взросли, вместе и погибнем! – с глухим ожесточением воскликнул отец Никандр.
– Зачем погибать? – вмешался Михайло. – Надо поискать лазу.
– Да где его взять-то? Выход всего один и весь на виду!
– А окна на что?
Гайдук быстро вошел в спальню. Единственное оконце было открыто настежь и заслонено снаружи густыми ветвями раскидистой черешни.
– Куда выходит сад-то? – отнесся он к архипастырю, который сидел с полузакрытыми веками, набожно сложив руки.
– На балку, – отвечал тот.
– А балка куда ведет?
– Балка выходит прямо к тому вон бору, что сам ты миновал сейчас.
Вспомнилось тут Михайле, что, проходя аллеей от лесной опушки, он в самом деле заметил в отдалении сплошную стену древесных верхушек, тянувшихся широким полукругом в обход полей и нив от священнического дома вплоть до бора: там, без сомнения, пролегала глубокая лесная балка.
– Коли так, – сказал он, – то ты спасен: я донесу тебя до бора; в глухом бору схорониться уже не мудрость. Батюшка, подсоби-ка ты малость мне!
Выбора не оставалось: с улицы доносился уже конский топот. Старец-епископ был бережно поднят обоими с ложа и перенесен к окошку. Не без труда протискался широкоплечий, рослый гайдук сквозь тесную оконницу в сад, откуда принял на спину беспомощного старика. Если бы он имел возможность взглянуть в лицо владыки, то увидел бы, что тот судорожно сжал губы, весь побледнел, сморщился от боли; но ни одним вздохом не выдал страдалец испытываемых им телесных мучений.

Гайдук принял на спину беспомощного старика
Между тем конский топот замолк уже у самого крылечка, и наружная дверь затрещала под чьими-то нетерпеливыми ударами.
– Кто там? Чего нужно? – с храбростью отчаяния крикнул отец Никандр, бросаясь к входной двери.
Несмотря на железный крюк, ветхая дверь уступила сильному напору, и отец Никандр очутился лицом к лицу с паном Тарло, за плечами которого выглядывал Юшка. С остатком рыцарской вежливости пан Тарло вполголоса попросил у батюшки извинения за причиненное беспокойство, но оправдывал себя тем, что они хотят уберечь его священную особу от разбойника и душегубца, забравшегося, как есть полный повод думать, в его дом.
Отец Никандр начал было возражать, что у него, убогого служителя алтаря, злым людям поживиться нечем; но непрошеный защитник не дал ему договорить, без околичностей отстранил его рукою и, придерживая саблю, чтобы не гремела, ворвался прямо в священническую спальню. Измятая постель, скатившийся на пол фолиант и открытое настежь окно разом выдали ему, что он опоздал.
– Тысячу дьяблов! Улетел сокол! – вне себя от досады вскричал он и топнул ногой. – Юшка, в погоню за ним!
– Не уйдет от нас! – отвечал ловкий малый и, проскользнув мимо хозяина к окошку, махнул в сад.
Пока отец Никандр изощрял все свое красноречие, чтобы доказать пану Тарло всю бесполезность его поисков, а тот, не слушая его обегал весь дом, шарил саблей во всех углах, во всех шкафах и ларях, – в это самое время юркий пособник пана настигал уже наших беглецов. Сквозь частый лесок, низом балки, он бежал во всю прыть.
«А ну, как прогляжу его?» – хватился он вдруг и побежал на крутой склон балки, чтобы оттуда, с вышины, лучше обозреть местность. И точно, над верхушками орешника вынырнула старческая голова с длинными космами белых волос.
– Стой, отче! Все равно не уйдешь! – гаркнул Юшка и, сломя голову, бросился вслед.
Не мог он знать, конечно, что тот спасается не один, и был потому немало озадачен, когда увидел вдруг перед собою, вместо слабосильного старца, своего давнишнего недруга, молодого атлета-полещука, а на плечах уже у последнего – самого старца.
– Это ты, Юшка? – сказал Михайло. – Чего тебе?
– Как чего? За батюшкой. Подай-ка его сюда. Нечего растабарывать! А будешь еще упираться, братец, так шутить я тоже ведь не стану.
В руках малого блеснул нож. Михайло был безоружен; обе же руки его были заняты. Скрепя сердце, как к крайнему средству, он прибегнул к хитрости.
– Вижу я, что ничего уже не поделать, – со вздохом сказал он. – Прости меня, отче владыко! Что мог, то сделал для тебя. Но ты, дружище, меня не выдашь? – озабоченно обратился он к Юшке.
Тот был приятно изумлен такою сговорчивостью гайдука, осклабился до ушей и приятельски хлопнул его по плечу.
– Так и быть уж, по старой дружбе, ни словечком о тебе не помяну: рука руку моет.
– Но чем связать нам его?
– Небось, найдется.
Запасливый малый полез за пазуху и вытащил оттуда целую связку толстых веревок.
– И чудесно, – сказал Михайло. – Теперь пособи-ка мне, голубчик, сбыть его с плеч.
– А ты, отче, поди, так ему и поверил, что не выдаст? – нагло глумился Юшка.
Преосвященный Паисий в самом деле готов был также верить в измену своего избавителя, и стал тихо творить молитву.
– Молись, отче, молись! Набрался, небось, страха иудейска? – говорил Юшка, вместе с Михайлой спуская старца наземь. – Ты только, знай, не противься – волоска не помнем.
Но торжеству глумотворца настал уже конец. Нож разом вылетел у него из рук в ближний куст: а в следующий миг сам он лежал уже навзничь на земле под коленком Михайлы и хрипел.
– Да ты его задушишь, сын мой! – подал тут голос безмолствовавший до сих пор старец-владыко.
– Рад бы задушить, да совесть не дозволяет. Лежи смирно, что ли, вражий сын! – сурово буркнул Михайло на барахтавшегося под ним Юшку и, выдернув из земли изрядный пучок травы, заткнул им глотку неугомонному. После этого собственной же веревкой малого он накрепко перевязал его по рукам, по ногам, и за ноги, как теленка, стащил всторону под густой ракитовый куст. – Тут и лежи, не дохни, доколе сам я не вызволю тебя. Буде же, паче чаяния, кто набрел бы на тебя – обо мне, чур, сболтнуть не смей, коли жизнь тебе еще мила.
Немного погодя, Михайло, с архипастырем за спиною, забрался вверх по лесистому склону балки в самый бор, который пока должен был служить преследуемому святителю убежищем. Теперь, однако, приходилось толком пораскинуть умом: где затем-то приютить его? Самому Михайле надо было уже думать о возвращении своем в замок, к царевичу; бросить же немощного старца тут, в бору, на произвол судьбы значило предать его в руки его недругов, потому что очень скоро, конечно, – нынче же еще быть может, – начнутся самые тщательные розыски за ним по всем окрестностям. Он передал сомнения свои епископу Паисию, присовокупив, что сам он, Михайло, на беду, здесь человек новый, ни души в околотке не знает. Оказалось, что и владыка, скрывавшийся доселе от людских взоров, никого не знает; слышал только как-то от друга своего, отца Никандра, что меж прихожан есть и верные люди, хотя бы кузнец Бурное, что живет особняком у опушки бора.
– А к нему и пробраться способней, и хорониться у него вернее: живет особняком, – подхватил Михайло. – Аль пойти мне, что ли, повыпытать его? Только тебя-то, отче владыко, одного оставить боязно…
– Иди с миром, сын мой! Обо мне не пекись: как-нибудь пообмогусь.
В глубине чащи уложив терпеливого страдальца на мягкое ложе из пушистого мха, Михайло с напутственным пожеланием старца отправился на разведку. С оглядкой выбрался он до дороги у опушки бора и стал как вкопанный: вдали, от села, показалась опять знакомая ему девичья фигура Маруси Биркиной.
Проходя мимо кузницы Бурноса, девушка приветливо кивнула головкой: верно, в окошке кого углядела, и продолжала путь. «Спросить ее разве о кузнеце?»
Михайло двинулся уже к ней из своей засады, как вдруг остановился и сердито топнул ногой: от дома священника во всю прыть мчался на аргамаке своем пан Тарло.
Глава девятнадцатая
Пану Тарло решительно не везет
Беззаботно вполголоса напевая про себя песенку, возвращалась Маруся Биркина лесом с обыденной прогулки от своих «убогеньких». На душе у нее было так ясно, легко: кому она лекарством, кому вещью, кому деньгой пособила, кого ласковым словом ободрила. И сдавалось ей, что солнышко приветливее еще светит, смолистый лесной дух кругом стал крепче и слаще.
«Чуден мир Божий, – думалось ей, – и где место в нем людской зависти и злобе?»
Вдруг позади нее раздался бешеный конский топот. Она оглянулась, и веселая песня замерла на губах ее: в лихом всаднике она узнала пана Тарло. Лесная дорога была довольно тесна, и молодая девушка с середины ее поторопилась отойти под самые деревья, чтобы пропустить всадника. Но она ошиблась в расчете. Доскакав до нее, пан Тарло разом сдержал коня, с обычной ловкостью спешился и отменно любезно, с самым легким оттенком снисходительной фамильярности, приветствовал «прекрасную пани».
– Гулять изволите? – спросил он.
– Да, – был ему сухой ответ.
– И не боитесь одни?
Маруся отрицательно покачала головой и шмыгнула вперед. Но отделаться от непрошенного спутника было не так-то просто. Сорвав на ходу дубовую ветку и то отгоняя ею неотвязных оводов и слепней от своего аргамака, которого он вел за повод, то сам обмахиваясь зеленой веткой, как веером, пан Тарло своею молодцеватою, эластичною поступью продолжал по-прежнему шагать рядом с девушкой.
– Что это вы, пани, нынче такая тихонькая? По Московии своей стосковались? Даже ответа не дождешься! А знаете ли, ежели вы и уедете туда – ждите меня к себе. Что? Опять головкой мотаете? Не верите? С первым же посольством нашим нарочно прибуду! И скажу вам еще, как вы примете меня. Вы будете тогда, разумеется, уже замужем… По русскому обычаю муж выведет вас ко мне навстречу. Вы нальете чару меду сладкого, сами сперва пригубите, а потом мне поднесете…
Маруся молча еще более ускорила шаги.
– Куда же вы так торопитесь? – продолжал непрошеный любезник и бесцеремонно схватил ее за руку.
Не привыкшая, однако, к ухваткам польских панов, молодая москалька выдернула у него свою руку и сгоряча, о, позор! проехалась ладонью довольно звонко по его благородной щеке.
– Молодца, сударушка, ай, молодца! – раздался поблизости посторонний женский голос.
Теперь только заметила Маруся в нескольких шагах от себя, в чаще, кивающую ей с моховой кочки лохматую старуху-цыганку. На коленях у последней был распушен дырявый платок с объедками хлеба и лука: занятая своей нищенской трапезой, она, полузакрытая кустарником, сделалась, очевидно, невольной свидетельницей описанной сцены.
Пристыженный пан Тарло буркнул проклятье по адресу цыганки, а затем, схватись за саблю, обратился опять к Марусе:
– Благодарите Бога, что вы не мужчина!
– Мужчина тоже найдется! – раздался новый голос.
Молодой рыцарь круто обернулся, чтобы узнать дерзкого, посмевшего вступиться за безумную москальку: перед ним словно из земли вырос москаль же, великан-гайдук царевича.
– Коли пану драться так в охоту, – говорил Михайло, – так я не прочь! Но посмейте еще раз ее тронуть – и вам аминь!
Такой афронт со стороны какого-то хлопца вывел надменного щеголя окончательно из себя. Он выхватил из ножен саблю и сплеча рубанул безоружного по голове. Маруся вскрикнула. Но испуг ее был преждевременен.
Гайдук успел увернуться: лезвие слегка лишь скользнуло по его виску и причинило ему только небольшую царапину. Уклоняясь же от удара, Михайло поймал уже на воздухе руку противника и свернул ее так, что тот должен был выпустить оружие. Овладев саблей, он переломил ее пополам и осколки, как щепки, бросил к ногам рыцаря.
Пистоли пана Тарло остались в седле; другого оружия при нем уже не было. А рассвирепевший увалень-великан, того гляди, ринется на него. Чуть ли не впервые в жизни беззаветно храбрый пан Тарло помертвел и судорожно, как утопающий за соломинку, схватился за висевшие у него на перевязи ножны.
Михайло в самом деле вошел в азарт. Уловив глазами последнее движение молодого рыцаря, он перехватил уже у него ножны и, хотя переломить не переломил их, потому что ножны были железные, не стальные, но без видимого усилия изогнул их наподобие латинской литеры «S».
– Так, сударь, я и вас исковеркаю, ежели вы станете еще поперек дороги мне… или ей!
Марусе даже жалко стало бедного рыцаря: он менялся в лице, шевелил побелевшими губами, но в горле у него будто что осеклось: он не мог выговорить ни слова. Тут потупленный в землю, блуждающий взор его усмотрел, видно, в примятой придорожной траве под ногами брошенную, лишенную клинка, сабельную рукоятку. Будучи позолочена и украшена цветными каменьями, она все еще представляла некоторую ценность. Пан Тарло наклонился за нею. Вдруг рука его приняла другое направление и поспешно припрятала что-то в карман. Затем уже он поднял с земли рукоятку. На растерянном, сумрачном лице его блеснул луч злорадства.
«Что это с ним? – недоумевала Маруся. – Чему он так обрадовался?»
С высоко вскинутой головою молодой воин подошел к своему аргамаку, преспокойно пощипывающему в сторонке сочную листву молодых лесных побегов, и вскочил в седло. Рука его машинально ощупала было под седлом пистоли; но само обладание настолько вернулось к нему, что он отказался уже от простого смертоубийства – хотя бы и холопа. Вонзив в бока коню своему шпоры, он без оглядки поскакал по дороге к жалосцскому замку, побрякивая болтавшимися на боку его инвалидными сабельными ножнами.