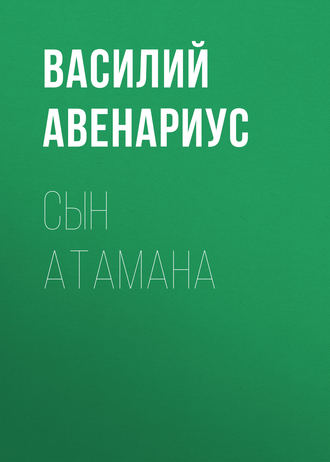
Василий Авенариус
Сын атамана
Глава восемнадцатая
Как прощался старый кошевой и как выбирали нового
Лучшего кругозора на всю Сечь, как с колокольни, в самом деле, нельзя было и желать. Посреди пустой еще площади стоял пока один только довбыш с литаврами. Но все 38 куреней, как пчелиные ульи, готовые роиться, шумно жужжали. Тут войсковой хорунжий вынес из церкви большую хоругвь с изображением белосеребряного орла на ярко-алом поле и стал рядом с довбышем. Тот дал литаврами второй знак – и из всех куреней живым потоком хлынули к родной хоругви толпы запорожцев, успевших снова заменить свою простую затрапезную одежду праздничною. В третий раз зазвучали литавры – и из внутреннего коша показалось процессией сечевое начальство: четыре члена старшины и 38 куренных атаманов – все со своими «клейнотами» (атрибутами своей власти) и с непокрытыми головами. Куренные атаманы стали во главе своих куреней, выстроившихся кругом чинными рядами; старшина же, остановившись у хоругви, отвесила товариществу глубокие поклоны на все четыре стороны. Товариство, в свою очередь, отдало старшине такие же низкие поклоны.
Между тем с церковной паперти спустился, в полном также облачении, церковный причт, чтобы Божьим словом освятить начало рады.
После краткого молебствия духовенство удалилось, и около хоругви перед паном писарем появился стол с грудою книг.
– Это, вишь, книги приходная да расходная войсковому скарбу и росписи куренные, – объяснил Курбскому Коваль, – на случай, что новой старшине угодно было бы проверить войсковое добро.
– Тише, милый! Дай послушать, – прервал его Курбский, потому что старик-кошевой, Самойло Кошка выступил вперед.
Сложив на стол свою шапку и булаву, он снова поклонился на все стороны и начал говорить. Так как звуки снизу вверх доносятся всегда особенно явственно, и ветер дул с площади, то к Курбскому на колокольню долетало почти каждое слово.
– Вы, паны батьки, вы, паны атаманы, и вы, паны молодцы, низовые мои детки! – говорил Кошка, собравшись, видно с силами, чтобы в последний то хоть раз выполнить, как подобало, свою обязанность главы Сечи. – Чем сильно наше славное Низовое товариство? Сильно оно общей всем нам верой православной; сильно еще стародавними свычаями и обычаями казацкими; сильнее же всего тем, что ни у единого из нас нет ни жинки, ни деток, ни имущества, окромя доброго коня да доспехов воинских, ибо сечевые товарищи для нас та же семья: и батьки, и братья, и детки. Нет в целом мире Божьем ничего крепче нашего товариства: всякий из нас, лыцарей-запорожцев, не задумавшись, прольет свою кровь, ляжет костьми за товарищей, за родную Сечь Запорожскую, лишь бы она, кормилица-матушка, не запропала, не сгинула. Но горе Сечи, буде голова ее, старшина, без головы! А ноне горе это близко… Паны батьки, атаманы, братчики мои милые, любезные! Не пановать мне уж над вами… Выбирайте себе нового кошевого.
Неожиданно складная речь выжившего, как думалось всем, из ума старца произвела некоторое впечатление; в ответ раздалось несколько сочувственных откликов:
– Оставайся, пане атамане! Пануй еще над нами! Но голоса немногих его сторонников были заглушены целым хором недовольных:
– Ступай себе, старче! Довольно ты дарма казацкий хлеб ел! Ступай с Богом!
Отставленный кошевой поклонился по-прежнему на все стороны и пробормотал установленную формулу благодарности за оказанную ему доселе честь; но когда он затем с понурой головой вышел из вечевого круга, силы разом его оставили, и, не подхвати старца два казака под руки, он, пожалуй, грохнулся бы наземь.
Теперь остальные члены войсковой старшины: судья, писарь и есаул, по примеру кошевого, сложили на стол, вместе с шапками, знаки своего достоинства: войсковую печать, чернильницу и малую палицу; но вся площадь крикнула единодушно, как один человек:
– Оставайтесь, панове, оставайтесь! Вы нам любы!
Все трое с поклонами поблагодарили славное товариство за доверие и приняли опять со стола свои знаки, а судья Брызгаленко, как временно заступивший начальника Запорожской Сечи, возвысил голос:
– Паны молодцы, кого же вы теперь волите в кошевые атаманы?
Точно ураган налетел на подвижную поверхность сечевого моря. Из тысячи уст вырвался разом, подобно морскому прибою, неистовый рев, из которого, как брызги пены, взлетали к небу отдельные, еще более зычные возгласы:
– Крамаренка волим в кошевые, Крамаренка!
– Лепеху волим!
– К дьяволу Лепеху! Пискуна, братчики, выбирайте, Пискуна!
– К ведьмам Пискуна! Не пищать кошевому, а реветь, рычать! Давай нам Реву!
– Реву! Реву!
– Провалитесь вы с вашим Ревой! Головню, Панове! Вот атаман, так атаман!
– Головню! Головню!
– Головню ему в рот! Лепеху, паны молодцы, Лепеху!
– Лепеху! Лепеху! Лепеху! – подхватил тут и вожатый Курбского с колокольни, да так громко, что у Курбского барабанная перепонка в ухе чуть не лопнула, и он зажал себе ладонью ухо.

– Ну, и голосище же у тебя! Лепеха – твой куренной атаман, что ли?
– Знамо, не чужой, – ответил Коваль. – Всяк кулик свое болото хвалит.
– Но ведь ты – молодик: выбирать тебе еще не положено?
– Не положено, точно… Да ведь я и не стою там, на площади, а кричать отселева кто мне закажет? Лепеху, панове, Лепеху!
Но одинокий крик голосистого молодика с вышины вниз затерялся в общем гомоне целой площади.
Там страсти все пуще разгорались; наиболее отчаянными горлодерами была «сиромашня», успевшая еще за обед чрез меру воодушевиться горилкой и брагой. Во славу излюбленных кандидатов на нескольких пунктах пошли в ход уже кулаки. Начальнику сечевой полиции, есаулу Вороньку, стоило немалых усилий при помощи состоявших при нем дюжих казаков угомонить самых ярых буянов. Той порой судья и писарь выкрикивали во всеуслышание тех кандидатов, имена которых повторялись кругом чаще других.
– Эй, пане Рева! Пане Головня! Пане Лепеха! Ходите до дому!
Названные не без труда протолкались сквозь сплошную стену избирателей «до дому», то есть в свои курени.
– Для чего это? – спросил Курбский всезнайку Коваля.
– А для того, значит, – был ответ, – чтобы и сумленья не было, что не сами они за себя других подбивают. А Лепеха-то мой, смотри, еще выскочит в кошевые! Лепеху! Лепеху!
Вопрос, однако, оставался пока далеко не решенным. Толпа внизу продолжала волноваться. Большая часть куреней, по-видимому, примирилась с мыслью, что их собственный атаман не может ожидать успеха, и примыкала к тому или другому куреню, чтобы провести его кандидата. Так образовалось несколько враждебных между собой кучек, которые ожесточенно спорили, осыпали друг друга всевозможной бранью и временами вступали в рукопашную.
– Как бы не дошло до смертоубийства… – пробормотал про себя Коваль.
– Так и это бывает? – спросил Курбский.
– Да еще на прошлых выборах одному все ребра переломали – Богу душу отдал, а с десяток искалечили. Нынче, может, и так обойдется. Вон верхние куреня от нижних отделились: стало, дело идет на лад: только двое на примете.
В самом деле, из общего гула голосов доносились всего два имени: Ревы и Лепехи.
– Ага! Все верхние курени за моего Лепеху!
Но ликование Коваля было преждевременным; дело приняло совершенно новый оборот.
Глава девятнадцатая
Сечевые батьки молвят свое слово
Кроме простых казаков верхних и нижних куреней, разделившихся на два враждебных стана, на раде присутствовали и «сечевые батьки». То были все сивоусые казаки, которые однажды состояли также в войсковых должностях и пользовались потому у това-риства особенным почетом. Пока молодежь старалась убедить друг друга и языком и кулаком, «батьки» не принимали в шумной сваре никакого участия, а, стоя тесной кучкой с опущенными долу головами, тихонько только меж собой о чем-то совещались. Тут из среды их выступил вперед сановитый старец с необъятным пузом и с белыми усами.
– Паны-молодцы! – гаркнул на всю площадь судья Брызгаленко. – Батьки наши, славные низовые лыцари, хотят тоже слово молвить!
Уважение к «сечевым батькам» было, как видно, очень велико: тысячеголосый гомон кругом разом стих, и несколько голосов выразило общее одобрение:
– Послушаем, братове, батьку Товстопуза! Говори, старче, говори!
Товстопуз расправил рукой свои могучие усища, окинул окружающих орлиным взором и начал:
– Гай-гай вы, детки мои любые! Сменили вы нашего старого кошевого, Самойлу Кошку, а за что, про что? Не он ли ходил с вами походом в инфляндскую землю против свейского короля, голодал-холодал там вместе с вами? Не он ли водил вас на турского султана, на крымского хана, учил вас бить нехристей во славу веры христианской? Не он ли радел всегда о вас, как о родных детках, чтобы каждому досталось в волю и воинской славы и всякого добра? Такого кошевого атамана у нас николи еще не было, да вовек и не будет. Это первый меж нас запорожец! И не жаль вам, детки, у первого запорожца отобрать булаву раньше даже новогоднего срока, словно он в чем перед товариством провинился.

– Жаль-то жаль… как не жалеть!.. – послышалось с разных сторон. – Да коли ему править Сечью невмочь?
– Так обождали бы хоть до Нового года, как испокон веку заведено на Сечи Запорожской. А то ведь это, по совести сказать, и стыд, и срам! Да точно ли он так уж плох? Чай, сами слышали, как умно и складно он давеча речь держал? Многие ль из вас смогли бы говорить так? Правда ведь, паны-молодцы?
– Правда, батьку, святая правда!
– А затеется новый поход, так он, увидите каким еще львом воспрянет! Поход же у нас на носу…
– Куда поход, батьку? Уж не на Москву ль, как слух прошел?
– Коли дошло до вас, так не стану уже попусту таить: да, на Москву Белокаменную! А кто поведет вас туда лучше Самойлы Кошки? За ним как за каменной горой, а за другим – одному Богу еще ведомо. Так время ль ноне, сами посудите, выбирать нам нового кошевого атамана? Мы, сечевые батьки, голосуем все за преславного Самойлу Кошку. Решайте же и вы, детки, вольным голосованием: угоден вам еще Кошка, али нет?
– Угоден! Угоден! Пускай до времени остается! Оставимте, братове, Кошку! – загремело, загудело кругом, и если были, быть может, несогласные, то голоса их затерялись в этом общем громе и гуле, как крик одинокой чайки в бушевании расходившегося моря.
– Привести сюда его ясновельможность Самойлу Кошку! – приказал Товстопуз.
Несколько казаков бросилось исполнить приказ. Было это не так-то просто: будучи отставлен от должности начальника Сечи, Кошка не вернулся уже во внутренний кош, а удалился в свой первоначальный курень; и вот, когда посланные за ним вытащили его оттуда, старик, что было у него еще сил, упирался и руками, и ногами, словно его вели на плаху, а не булаву свою принимать. Дюжие молодцы, разумеется, справились со слабосильным старцем. Когда тут Товстопуз объявил ему нерушимую волю войсковой рады, чтобы он продолжал пановать над сечевыми товарищами до Нового года, Кошка беспрекословно подчинился такому решению, принял обратно булаву и с земным поклоном на все стороны поблагодарил славное товариство за доверие. Приведшие же его на раду казаки подняли его на руки, а все товариство единодушно огласило воздух восторженными кликами:
– Пануй еще над нами, ясновельможный пане! Дай тебе, Боже, лебединый век и журавлиный крик!
– И все? – спросил Курбский своего вожатого. – Конец раде.
– Конец, – ответил Коваль. – Только вот еще подписать старшине грамоту, что изготовляет пан писарь[3].
– Стало быть, теперь нам и на площадь можно?
– Тебе-то, княже, можно, а я лучше погожу.
Сойдя вниз с колокольни, Курбский, сквозь раздавшуюся перед ним толпу, беспрепятственно добрался до середины площади. Но что бы это значило? Рада будто еще не кончилась? Восстановленный в должности кошевого, Самойло Кошка стоит еще там же, у хоругви; стоят около него и судья, и писарь; не расходится и все товариство. Все глядят в одну сторону – в сторону пушкарни, словно ждут оттуда кого-то.
Глава двадцатая
Суд правый и скорый
«Гришука и Данилу судить будут!» – понял вдруг Курбский, и сердце в нем захолонуло.
И точно: вот идет пан есаул, а за ним, под конвоем пушкаря и двух простых казаков, оба заключенника. Данило выступает смело, оглядывает вызывающе своих товарищей судей, как бы говоря:
«Ну, что же, и судите! Пощады просить не стану».
На мальчике же лица нет; он глубоко-глубоко опустил голову и рад бы, кажется, сквозь землю провалиться.
– Подойди-ка сюда, хлопче, подойди! – подозвал его старик-кошевой скорбно жестким тоном. – Чего очи в землю утопил? Смотри прямо в очи, коли говорят с тобой, ну!
Гришук поднял взор. Сколько трогательной стыдливости, сколько горького чувства было в этом увлажненном, умоляющем взоре! И окаменевшее сердце Самойлы Кошки дрогнуло; как бы чураясь от злого наваждения, он замахал на Гришука руками:
– Господи, помилуй! Катруся! Аль из могилы встала?
Мальчик не тронулся с места и прошептал побелевшими губами.
– Нет, батечку, мама лежит в могиле и николи уже не встанет. Но я на нее, сказывают, с лица очень схожа, как была она дивчиной.
– Так ты… ты – дочка моя, Груша?
Старик простер к ней руки и зашатался. Дочка рванулась к отцу навстречу и подхватила его в объятья.
– Таточку, батечку любый, милый! Узнал меня, узнал!
Она прижалась к нему, припала на грудь его головкой, как птенчик под крыло наседки; а он, в порыве внезапно пробудившегося родительского чувства, гладил ее по щекам, по волосам, говорил непривычным расслаблено нежным голосом:
– Голубонько ты моя! Дитятко риднесенько!
Ни отец, ни дочь не замечали, что небывалое на Запорожской Сечи зрелище – появление на войсковой раде молоденькой дивчины, да еще переряженной в хлопца – переполошило все присутствующее войско. Кругом пробежал угрожающий ропот, а сечевые батьки сбились снова чупрынями в кучу. Тут представитель их, Товстопуз, махнул шапкой в знак того, что хочет опять говорить.
– Угодно вам, детки, еще стариков послушать?
– Угодно, угодно! Говори, батько! – пронеслось со всех сторон.
– На Сечи семейных казаков нема; таков закон стародавний, а кошевой атаман всей Сечи пример. И у пана Самойлы Кошки досель ни жинки, ни деток якобы нема, и был он у нас старшим, был бы им и впредь. Но теперя-то, как признал он сейчас при всей раде свою дытыну, можно ль ему быть старшим, оставаться жить на Сечи?
– Не можно, никак не можно!
Товстопуз обернулся к отставленному кошевому:
– Слышишь ли, пане, решение рады?
Кошка на этот раз и губ не раскрыл. Он взял только за руку Грушу, чтобы удалиться вместе с ней. Но тут вмешался судья Брызгаленко:
– Ты-то, дивчина, годи! С тобою счеты еще не покончены. Но допрежь того нужно нам нового кошевого. Так что же, паны молодцы! Кого вы заместо пана Кошки кошевым поставите: Лепеху или Реву?
– Реву, Реву, Реву! – загремело кругом, и имя Лепехи было в конец заглушено.
– Стало, Реву? Быть же Семену Реве до Нового года кошевым атаманом! – провозгласил Товстопуз. – Нут-ка, детки приведите-ка сюда нашего нового пана принять булаву.
Казалось, будто Реве до крайности не хотелось принять войсковую булаву: вытащенный «детками» из своего куреня, он всеми силами от них отбивался.
– Иди, вражий сын, пановать над нами! Ты нам пан и батька! – орали «детки», продолжая тянуть его за руки, тузить кулаками во что ни попало: в бока, в спину, в шею.
– Помилуйте, паны молодцы! Где уж мне пановать над вами! – возражал Рева, задыхаясь от их не в меру усердных тумаков и подзатыльников.
– Нечего, братику, нечего! Ровно как бык ведь перед убоем упираешься! – сказал Товстопуз, когда нового кошевого приволокли наконец на место. – Вот тебе войсковая булава.
– Благодарствуйте, панове! Дай вам Бог здоровья! Но у меня о том николи и думано не было…
– Ну, ну, не отлынивай!
– Да право же, панове, сия булава не про меня… И он рванулся назад, как бы собираясь улизнуть.
Но несколько дюжих кулаков толкнули его опять вперед:
– Куда, куда! Бери, коли дают!
Рева, как требовал того обычай, вторично еще отказался и уже на третий раз принял булаву.
– Честь новому кошевому атаману! – приказал судья довбышу, и победоносная дробь литавр возвестила запорожскому войску об окончательном выборе нового начальника.
Чтобы тот, однако, не слишком зазнавался и всегда памятовал, что он в сущности такой же простой казак, как и избиратели, званием же своим обязан только товарищам – сечевые батьки совершили над ним еще последний обряд: Товстопуз, а за ним и остальные старики сгребли с земли по горсте песку и насыпали ему на его обнаженную голову. После этого уже Рева, как давеча Кошка, поблагодарил товариство и был приветствован тем же криком.
Теперь только Курбский имел возможность хорошенько разглядеть избранника войска. Если между всеми окружающими воинственными лицами едва ли можно было найти одно без рубца и шрама, то рожа Ревы представляла своего рода крошево: все оно было исполосовано вдоль и поперек, а левое ухо вовсе отрублено. Что громкое прозвище свое Рева заслужил также недаром Курбский узнал вслед за тем. Войсковой судья с поклоном доложил новому кошевому, что тем часом-де, что он, пан атаман, сидел в своем курене, набежало судебное дело: в образе хлопца пробралась в Сечь вот эта дивчина, дочка Самойлы Кошки.
Ударив в землю вновь пожалованной ему булавой, Рева зарычал, заревел подлинно по-львиному:
– Ах, негодница! Задави тебя козел! Чтоб тебя земля не носила! Закопать ее в землю, панове, – и вся недолга!
– Закопать! – подхватила сиромашня из задних рядов.
У стоявших ближе и видевших беспредельный ужас, отпечатлевшийся на миловидном личике дивчины, не достало духу поддержать бесчеловечное предложение нового кошевого. А тут и сам Самойло Кошка пробудился от своей душевной летаргии.
– Побойтесь Бога, детки! – воззвал он к товариству. – За что вы карать-то хотите несмышленую девоньку? За любовь ее детскую? Да сами-то вы нешто не были тоже раз детьми, не любили ваших родителей? И добралась ли бы она одна, маловозрастная, в Сечь, сами посудите, кабы ей заведомо другие не пособляли, вопреки строгому наказу? Коли кого уж карать, так тех пособников!
– А ведь правду говорит он! – согласился Товстопуз, а за ним и прочие сечевые батьки. – Коли карать, так пособников!
– А кто пособники-то? – спросил Рева. – Кто были твои попутчики, дивчина?
– Попутчики мои тут, право, не причем… – пролепетала Груша, не смея поднять глаз на своих попутчиков.
– Твоего ума-разума нам не нужно! – оборвал ее новый кошевой. – Говори толком, как ты сюда попала?
Прерывающимся голосом, но трогательно просто принялась повествовать Груша, как она, узнав о болезни своего батьки, собралась в путь со стариком Якимом.
– Так подать сюда того Якима! – рявкнул Рева.
– Его нет тут, ясновельможный пане: он остался у каменников, под Ненасытцем, – отвечала девочка и стала было рассказывать далее, но атаман нетерпеливо снова перебил ее:
– Стой! Сюда-то, в Сечь, кто тебя доставил?
– Я, – отвечал, выступая вперед, Курбский.
– И я! – подхватил его верный слуга, Данило. – Господин мой – не чета иным прочим: он – благородного корени отрасль, высокородный князь вельможный…
– Молчать, пока тебя не спросят! – так же властно прервал поток его речи Рева. – У нас на Сечи нет князей, все одинаково благородного корени, а вельможны только по выбору товариства.
Затем несколько менее сурово обратился к Курбскому:
– Коли ты, добродию, сам говоришь, что доставил сию дивчину в Сечь, так чем ты можешь себя в том оправить?
Курбский повторил дословно то же, что сообщил накануне Мандрыке, как игумен Самарской пустыни, отец Серапион, упросил его, Курбского, взять с собой в Сечь сыночка Самойлы Кошки.
– И твоей милости и посейчас невдомек было, что то не хлопчик, а дивчина?
Напрасно покрякивал Данило и делал таинственные знаки своему господину. Курбский не умел лукавить и заявил без утайки, что у него по пути и то, мол, возникло сумлительство, да все как-то верить не хотелось…
– И, сумлеваясь, ты все ж таки не убоялся везти ее в Сечь? – воскликнул Рева и развел руками. – Дивлюсь твоей смелости, и жаль мне твоей молодой жизни… Ну, да и то сказать: промеж жизни и смерти и блошка не проскочит.
– Да князь Михайло Андреевич сам себя топит, хошь и неповиннее младенца! – вмешался тут Данило. – Завел он еще вчерась разговор со мной, стал выведывать меня про малого нашего попутчика, а я ему в ответ, что ничегошеньки не знаю.
– А взаправду-то знал?
– Да откуда мне знать-то?
– Хоша хлопца сызмальства на руках качал? – не без ехидства вставил от себя пан писарь.
Уличенный во лжи, Данило прикусил язык.
– И лих же ты брехать, окаянный пес! – загрохотал на него Рева. – Признавайся уж начистоту, пустых речей не умножай.
С тяжелым вздохом Данило почесал в затылке.
– Недюж я врать-то. Был грех, что уж говорить! Солучилось оно второпях неопамятно. А все тот треклятый змей-искуситель.
– Какой змей-искуситель?
– Да вот сейчас доложу вам, паны братчики, по истине, как есть, необлыжно.
И доложил он необлыжно, как змей-искуситель, то есть дядька Яким, сдавая ему, Даниле, с рук на руки дочку атаманову, взял с него, чертов кум, клятву смертную никому не сказывать, что она – дивчина, а не хлопец.
– Не возмог я отказать: пожалел милой девоньки! – заключил он свой доклад. – А на поверку дурак вышел.
– И дурак, и товариству изменник! – заревел Рева, давая опять волю своему гневу. – Гей вы, паны-молодцы! Сей казак, прежний товарищ наш, Данило, по прозванью Дударь, зашибаясь хмелем, творил на веку своем немало прочего тому подобного, стыд приносящего; а ныне пренебрег и стародавними заветами запорожскими, заведомо завез к нам дивчину, Сечь родную опозорил. Заслужил он смерть, аль нет:
– Заслужил! Заслужил! – заголосила единодушно вся площадь от одного конца до другого.
– А сей пан вельможный, именующий себя князем Курбским?
– Тоже заслужил, тоже! Смерть обоим! – заорала беспардонная сиромашня, для которой двойная казнь была и двойным праздником.
– Что, небось, примолк? – с усмешкой отнесся к Даниле довбыш, которому хотелось, видно, раз-то хоть, помимо литавр, подать свой собственный голос.
– Казак не литавры, – отозвался Данило. – Когда его за дело бьют, он молчит.
– Да литавры мои всяк хвалит!
– Литавры-то когда и хвалят, и казака хвалят, а про дурацкие палки твои, как про тебя самого, никто и словечка не проронит.







