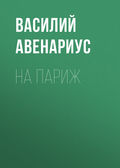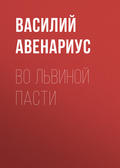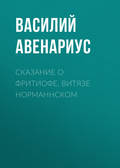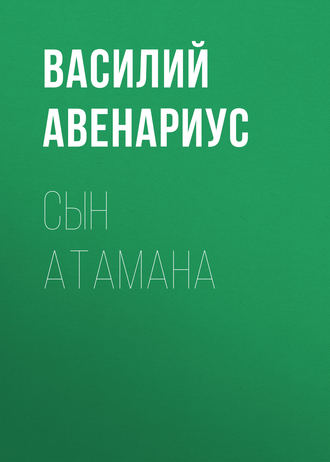
Василий Авенариус
Сын атамана
– Ну, что, детки, довольны ли вы моей дележкой? – в заключение спросил старик.
– Много довольны! Спасибо, дидусю! – раздался хор голосов.
– А довольны, так пора и за почестен пир. Эй вы, кухари! Скоро ль у вас брашно-то?
– Зараз, батьку; не успеет стриженая девка косы заплести.
Глава одиннадцатая
Как пировали каменники
В ожидании «брашна» вся удалая шайка расположилась на каменном, усыпанном песком полу вкруг низкого стола: кто на корточках, кто и врастяжку на животе, подпершись локтями и попыхивая «люльку».
– Ахти! а про честных гостей-то мы и забыли! – спохватился тут Яким-Жигуля. – Дайте им места, детки.
Те послушно раздвинулись и потеснились.
– Неужто, князь Михайло Андреевич, ты станешь кушать за одним столом с душегубами? – шепотом спросил Курбского Гришук.
– Ни за что! – был решительный ответ.
– И я тоже.
Но когда Яким повернулся к ним лицом и пригласил их не побрезговать, чем Бог послал, Курбскому показалось, что тот украдкой подмигнул ему, как бы убеждая не упорствовать.
«А что, как он только притворяется, чтобы тем вернее спасти нас?» – мелькнуло в голове Курбского, и он отозвался вслух:
– Да ведь у нас ноги связаны.
– Так ты все же будешь кушать с ними? – удивился Гришук.
Курбский пожал плечами.
– От хлеба-соли не отказываются.
– Да и голод не тетка, – подхватил Яким, – а идти твоей милости даже не для чего: на салазках подвезем. А нут-ка, детки.
Суровым каменникам грубая шутка пришлась по душе: несколько человек разом вскочили на ноги и со смехом подвезли всех троих на звериных шкурах к столу. Бардадым, чтобы поддержать свою власть над подчиненными, чересчур уж охотно слушавшимися старого есаула, отдал им в свою очередь приказ развязать пленникам на время еды руки, а Даниле и едало, причем, однако, предостерег запорожца, что бы тот не смел уже «брехать».
Первое блюдо состояло из борща, подданного кухарями в огромной деревянной чашке. Вооружившись деревянными же ложками, и хозяева, и гости принялись взапуски хлебать любимую национальную похлебку. По временам только тот или другой из разбойников вешал свою ложку на край чашки, чтобы перевести дух и зачерпнуть себе в кружку серебряным ковшом «горилки» из серебряной же, ведра в полтора, ендовы, как и ковш, очевидно, не купленной на рынке. Данило следовал примеру хозяев; Курбский же и Гришук довольствовались медом, который был подан им после отказа их от «зелена вина». Когда появилось на столе второе и последнее блюдо – верченое (жареное на вертеле) мясо, ендова с горилкой была опорожнена уже наполовину, и разгоряченные лица, невоздержанные речи и пьяный смех всех членов удалой ватаги наглядно свидетельствовали если не о доброкачественности, то о крепости хмельного напитка. Всех громче и разговорчивее был Яким-Жигуля. Он был неистощим в россказнях о былых подвигах гайдамачьих, из которых особенно понравился слушателям следующий:
«Едет жид с ярмонки, остановился у речки коней напоить. Глядь – перед ним гайдамака с кием (дубинкой). Затрясся мой жид, как лист на осине.
– Чего тебе, чоловиче?
– Купи, жиде, кий!
– Да на что мне кий?
Тот тронул его кием по плечу. Видит жид, что не отвертишься.
– А что цена кию?
– Пятьдесят карбованцев.
– Цена сходная: получи свои деньги.
Взял гайдамака деньги, отпустил жида. Поехал жид домой, а жинка ждет уже на крыльце.
– Доброго вечера, тателе!
– Доброго вечера, мамеле!
– Что привез с ярмонки?
– А вот что, – и кажет ей гайдамачий киек. Удивилась жинка:
– Что сие такое?
– Киек.
– Да где ты его взял?
– Купил.
– Купил! Для чего?
– Стало, треба.
– А что дал за него?
– Пятьдесят карбованцев.
– С ума ты сошел, тателе!
– Цыц, сердце! Кабы ты сама торговалась, так дала бы и всю сотню».
Хохотали каменники, хохотал Данило, не могли удержаться от смеха и Курбский с Гришуком. Но голод был утолен, и, по просьбе Курбского, его с двумя спутниками «отвезли» обратно в их угол, предварительно перевязав им опять руки. За столом же старый есаул еще более развернулся.
– Гей, паны-детки! – крикнул он. – Покажу-ка я вам тепереча, как в старину у нас угощались.
Подмешав горилки в ведерную братину с медом, он отпил первым, а затем пустил братину в круговую.
– Да нет ли у вас, детки, бандуры?
Бандура нашлась, и, ударив по струнам, старик затянул своим дребезжащим тенором:
«Гай, гай! Як я бул молод,
Що в мини була за сила!
Ляхив нещадно бьючи,
Рука й раз не зомлила…»
Все бражники дружно подхватили знакомую песню. За первой песней грянула другая, за другой третья.
– Ну вже, дидусю! – заметил кто-то. – Даром, что одной ногой в гробу стоит, а другой, поди, еще гопака пропляшет!
– И пропляшу! – гаркнул Жигуля, топая ногой.
– Ну, где тебе, старина!
– Пропляшу! – повторил он и, забренчав на своей бандуре гопака, пустился, в самом деле, в пляс.
– Ах, Яким, Яким! – укорил дядьку из своего угла Гришук.
– Постыдился бы на старости лет юродствовать, – добавил от себя Курбский.
В ответ Яким, все танцуя, подлетел к ним и шепнул два слова, от которых у тех сердце в груди екнуло:
– Потерпите: выручу.
После чего, как ни в чем не бывало, продолжал свой молодецкий танец.
Глава двенадцатая
Как яким сдержал свое слово
– Слышал, Михайло Андреевич? – тихонько опросил Данило своего господина.
– Мне послышалось: «Потерпите, выручу», – ответил Курбский.
– И мне тоже! – подкрепил Гришук. – Уже коли Яким раз сказал, то так тому и быть.
– Да можно ли дать веру слову разбойника?
– Разбойником он был, но двадцать лет назад, с тех пор он служил нам верой и правдой.
– Панич прав, ваша милость, – поддержал мальчика, со своей стороны, запорожец. – Старый хрыч себе на уме: перво-наперво опоить молодцов, а там сбежать с нами.
– Вот этого-то я и не возьму в толк, – сказал Курбский. – Если он верный человек, то не обманет своего старого товарища Бардадыма. Либо с ним, либо с нами.
– А вот погодим, узнаем; ждать, я чай, недолго.
Ждать разгадки поведения Якима пришлось, однако, довольно-таки долго. В былые времена, как известно, пиры продолжались куда дольше, чем в наш деловой век, где каждый час дорог. А каменники, как народ бесшабашный, и в разгуле не знали меры. Из потайного склада выкатили новый бочонок горилки, а там еще один.
Проникавший в пещеру из отдушины в вышине бледной полоской дневной свет уже потух: очевидно, завечерело, а каменники по-прежнему «гуляли». Кто заснул тут же у стола на каменном полу, кто кое-как дополз на четвереньках до своего общего ложа в глубине пещеры, чтобы тотчас пустить глухой храп.
Наконец, тускло мерцавший на стене одинокий каганец освещал за столом только двух бражников, нежно обнявшихся вокруг шеи, как два неразлучных друга. То были два есаула: старый и новый. Старый охмелел, казалось пуще нового: то лопотал какую-то нескладицу, то мурлыкал песню, то лез целоваться со старым другом. У того глаза хотя также посоловели и слипались, но он видимо бодрился и, точно не совсем еще доверяя старику, не выпускал его шеи.
– Так ты что же, братику Жигуля, так-таки и останешься уже у нас? – спросил он.
– Нехай сатана возьмет мою душу, коли не останусь!.. – был ответ костенеющим языком.
– И злоба на меня совсем уходилася?
– Злоба? На тебя-то злоба? Ах, ты, деревянная душа! Да нет у меня друга милее на белом свете!
– Так побратаемся, как быть следует, поменяемся крестами!
– Поменяемся, сердешненький!
Оба сняли с себя нательные кресты и обменялись ими, после чего запечатлели свой братский союз еще троекратным поцелуем.
– И будем мы отноне стоять брат за брата на жизнь и на смерть? – продолжал Бардадым.
– На жизнь и смерть! – повторил Жигуля.
– Как перед Богом?
– Как перед Богом…
Теперь последнее сомнение, видно, рассеялось у Бардадыма: он освободил свою шею от крепко обхватившей ее руки названного брата, чтобы удобнее приложиться опять к ендове.
– Смотри, князь, смотри! – испуганно шепнул Гришук Курбскому. – Яким заснул!
И вправду, точно лишившись последней опоры, старик бессильно склонился отяжелевшей головой на стол. Бардадым докончил сперва глоток, потом с глубоким вздохом припал щекой к плечу названого брата и мерно захрапел.
Гришук с горя-досады чуть не всплакнул:
– Ну, вот, ну, вот! Что же теперь с нами будет? Курбский стал было его утешать; но на полуфразе замолк. И было с чего. Яким внезапно зашевелился, бережно снял шапку с макушки Бардадыма, подсунул ее ему под щеку и обеими руками с той же осторожностью опустил голову спящего на край стола, после чего тихонько сам приподнялся, сунул в карман себе лежавший еще на середине стола кошелек Курбского с дуваном на церковь и прогул, приблизился на цыпочках к своим трем спутникам и, не говоря ни слова, проворно распутал веревки, которыми панич его был связан по рукам и ногам; потом развязал Курбского и напоследок Данилу. По молчаливому знаку старика, все трое последовали за ним к выходу из пещеры, причем у очага должны были перешагнуть через растянувшихся тут же двух кухарей. Наконец-то они опять на воле! И дышится-то в ночном воздухе как легко и привольно!
– Припрячь-ка, княже, – сказал Яким, подавая Курбскому его кошелек.
– Но часть ты отделил ведь на церковь? – возразил Курбский.
– Как разживешься, так сам можешь вернуть церкви. А в пути каждый алтын дорог.
– Но темень какая! – заметил Гришук. – Хоть глаз выколи.
– Зато, коли пошлют в погоню, не так скоро разыщут, – возразил Яким. – Не знаю вот только, в каком месте у них поставлены кони…
Точно в ответ, неиздалека донеслось конское ржанье.
– Вон и сами голос подают! Ахти! – спохватился он вдруг. – А оружие-то мы забыли в пещере!
– И то ведь! – сказал с досадой Курбский. – Ну, Данило, нечего делать, идем назад.
– Нет, нет, княже, Бога ради!.. – вскричал Гришук, хватаясь за рукав своего молодого защитника.
– Тише, милый! Неравно услышат.
– Умоляю тебя, княже, Христом Богом!
– Но как же мне явиться в Сечь без всякого оружия?
– Там у кого-нибудь новое купишь. Я, право, не пущу тебя…
– Так я один схожу, – сказал Данило. – Не осердись, Михайло Андреевич; мне, вишь, одна мысль сейчас в голову залетела: людишки они, эти каменники, что ни на есть последние, а спят теперича все мертвецким сном…
– Ну, так что же?
– А то, что всю шайку при сем самом раз в ангельский чин снаряжу. Нож в бок – и делу конец.
– Что ты, Данило! Креста на тебе нет! Убивать во сне безоружных…
– А скольких людей они сами живота уже решили! Не чини мне только помехи; я один с ними управлюсь.
– Нет, Данило; нам они оставили жизнь, и мы на них волоска не тронем. Недаром отец Серапион предрекал мне, что ты еще натворишь мне бед!
– Прости, государь, по простоте слова молвилось. Из твоей воли я не выйду. Они и без нас, я чай, до палачовых рук дойдут. А за оружием-то все же вернуться надыть…
Но тут вступился в дело старик Яким:
– Нет, братику, теперя и я тебя не пущу! Кто тебя ведает, что у тебя на уме!
– Да дерзну ли я без своего господина? Я трясусь за ним как хвост за бараном.
– Заговаривай зубы! Мы с Бардадымом побратались, я поклялся перед Богом не выдавать его с товарищами – и не выдам.
– А коней-то все-таки уведешь у них? – сердито усмехнулся Данило.
– За коней мы рассчитались дуваном. Ну, а теперя ступайте-ка все за мной.
Несмотря на почти непроглядный мрак, старый каменник шел по отлогому скату лесистой балки совершенно уверенно. Вскоре они очутились перед входом в другую пещеру, из глубины которой донеслось еще явственнее то же призывное ржанье.
– Ты, Данило, иди-ка со мной, – сказал старик, а вы, паничи, обождите тут.
Немного погодя, оба вывели из пещеры трех оседланных коней.
– Да ведь нас четверо? – заметил Курбский.
– Трое вас, – отвечал Яким с тяжелым вздохом. – Я не еду.
– Боже ты, Боже мой! – вскричал Гришук. – Клятва тебя держит?
– Клятва, да. Знать, такое уж мне предопределение вышло.
– Но ведь клялся ты разбойнику…
– А я чем же лучше? Свой своему поневоле брат. О себе же, касатик мой, не полошайся: князь Михайло Андреевич не откажет доставить тебя до места.
– Но ведь ты знаешь, Яким… коли пойдет в огласку…
– Знаю, радость моя, все знаю, что ты хочешь сказать. Но я сейчас вот поверил все Даниле…
– И тайна твоя в груди у меня, что искра в кремне, – подтвердил запорожец.
– Но ты, Яким, остаешься здесь на верную смерть…
– От смерти, миленький мой, не спрячешься, – отвечал со вздохом дядька. – А может, Господь еще и помилует: ведь я же не убег с вами, а яко бы сплю теперича с ними в непробудном хмелю. Почем мне знать, как вы трое вызволили друг дружку, как раздобыли коней? Выведу я вас сейчас на большую дорогу – и с Богом!
Говоря так, Яким подсадил своего панича в седло, взял коня его под уздцы и пошел вперед. И вот они в открытой степи.
– Отсель, Данило, дорогу по звездам ты и сам найдешь? – спросил Яким.
– Еще бы не найти! – был ответ.
– А ты, княже, как пойдешь обратно из Сечи, не завернешь ли опять в Самарскую пустынь?
– Коли будет время, – отвечал Курбский. – Хотелось бы повидать еще раз отца Серапиона…
– Ну вот. Так от него, может, и оружие свое получишь: к нему прямо вышлю, буде Господу угодно будет еще дни мои продлить. Ну, а теперича храни вас всех Бог!
Он наскоро приложился к руке своего панича, и тот почувствовал на руке своей горячую слезу. Тут бедный мальчик не выдержал и с седла обнял за шею дядьку.
– Ну, полно, не махонькой ведь! – говорил растроганный старик, насильно отрываясь. – Авось, еще и свидимся… Прощай, княже! Прощай, Данило! Не забывай обещанья-то… Да коней, чур, не пускайте вскачь, чтобы паничу моему больного плеча не растрясло…
– Яким! Погоди еще, послушай… – в отчаяньи крикнул Гришук вслед уходящему.
Но тот уже не слышал, или не хотел слышать, и пропал в темноте ночи.
Глава тринадцатая
«Пугу! Пугу!»
Утреннее солнце сияло уже на небе, а наши три путника ни разу еще не сходили с коней. Пока заря не рассеяла сумрака безлунной ночи, движение их немало замедлялось пересекавшими степь извилистыми балками и выбалками, речками и речонками. Но и теперь им приходилось ехать только мелкою рысью, а то и шажком, так как недавно лишь сросшаяся ключица Гришука не выносила сильных толчков. Настроение же мальчика, несмотря на бессонную ночь и разлуку со стариком-дядькой, с первыми лучами дня разом переменилось. Как будто робея сам заговаривать с Курбским, он обращался с разными вопросами к Даниле и заливался звонким смехом над его, по большей части, шутливыми ответами. Так, спросил он запорожца, отчего у него одна только правая шпора.
– А на что мне другая? – отвечал Данило. – Как пришпорю коня в правый бок, так левый все равно бежит рядом.
– А нагайка у тебя для чего? – продолжал, смеясь, допытывать Грищук.
– Нагайка-то? Чтобы конь мой не думал, что не одни птицы по воздуху летают.
И в доказательство он нагайкой заставил своего коня сделать такой воздушный прыжок, что сам едва не вылетел из седла.
А солнце поднималось все выше и выше; становилось жарко.
– Хоть бы водицы испить! – вздохнул Гришук.
– А что, Данило, – сказал Курбский, – погони, верно уже не будет? Можно бы сделать и привал.
– Можно и должно! – согласился Данило. – В животе у меня самого словно на колесах ездят. Пропустили мы, жалко, два, а то три зимовника. Но вот никак опять один.
В самом деле, в отдалении, над зеленым ковром степи показалась небольшая землянка. Данило вонзил единственную шпору в бок заморенного коня, подскакал к окружавшему землянку плетню и издал условный запорожский клич:
– Пугу! Пугу!

Обычного отклика, однако, не последовало. Запорожец повторил крик, – то же молчание.
– Хозяин, знать, в отлучности, – сказал он, оборачиваясь к подъехавшим спутникам. – Обойдемся и так: у доброго хозяина все найдется в доме.
– Но как же нам брать без спросу? – заметил Курбский, сходя с коня, меж тем как слуга снимал с седла мальчика.
– Без спросу? – усмехнулся Данило. – На то и дверь настежь оставляется, а на столе страва: кто заедет, – вари сам себе обед. Таков уж свычай запорожский.
И точно: при входе в низенькую землянку наши спутники нашли на столе пшено и малороссийское сало, а на лавке целый мешок с бураками. Пока Данило разводил на очаге огонь. Гришук сбегал с ведром к колодцу за водой, а потом стал помогать запорожцу готовить полдник. Курбский не мог надивиться той сноровке, с какой хлопчик чистил ножом бураки и месил пшено, точно то было для него совсем привычное дело. А тут он надумал еще поучать запорожца, как варить похлебку, и тот (дело дивное) беспрекословно делал по указанному.
– Тебе и книги в руки, – говорил Данило и, украдкой покосившись на Курбского, прибавил еще шепотом что-то такое, от чего Гришук смущенно рассмеялся и весь зарделся.
Та же мысль, что и накануне, шевельнулась снова в голове у Курбского, но он поспешил ее отогнать.
Полдник был неприхотливым, но голод, как известно, лучший повар: все трое ели с одинаковым аппетитом, а двое младших с неменьшим удовольствием пили ключевую колодезную воду. Не совсем доволен хозяином остался один Данило, зачем тот не озаботился также каким-нибудь более крепким пойлом.
– Ну, да Господь с ним! – сказал он. – У Богдана Карнауха ужо наверстаем.
– А кто этот Карнаух? – спросил Курбский. – Приятель твой по Сечи?
– Приятель, точно. Человек обстоятельный: дом – полная чаша.
– Так в Сечи он бывает, значит, только наездом?
– И наездом не бывает. Женатый казак – отрезанный ломоть. Как обзавелся своим хуторком, так и засел как Адам в раю, никаким калачом его оттоль не выманишь.
Недаром Данило назвал жилье своего приятеля раем: когда они часа через два добрались туда, Курбский невольно задержал коня и залюбовался. Живописно раскинувшись на пологом скате балки, хуторок утопал в плодовом саду; сквозь свежую зелень кое-где лишь на солнце ярко белели вымазанные известью стены, а над соломенной крышей чернели деревянные дымари с разными крышками.
– Пугу! Пугу! – раздался снова оклик Данилы.
– Пугу? Пугу? – донесся вопросительно в ответ из глубины сада густой мужской голос.
– Казак с лугу.
Тут у изгороди вынырнула стройная фигура краснощекой, чернобровой дивчины, но, завидев позади Данилы двух молодых спутников его, пугливая красотка крикнула только: «Батька просят!» и юркнула обратно в гущину сада.
– Галя! Ей же ей, Галя! – удивился Данило и, в знак одобрения, щелкнул языком. – Эк ведь пышно распустилась, что твой цветочек!
– За одно погляденье гривны не жаль, – подхватил Гришук. – Что это – дочка Карнауха?
– Дочка. Аль краса девичья и тебе по сердцу ударила?
– Как не ударить! – весело рассмеялся мальчик. – Очи сокольи, брови собольи!
– Все ведь подметил! Хочешь, сосватаю?
– Сосватай! Посаженным отцом позову.
Между тем Галя подняла уже на ноги весь дом, и встречать гостей вышел сам Карнаух.
Жилось ему в своем «раю» и то, должно быть, очень сытно. Он был еще дороднее Данилы; жирный кадык так и выпирал у него из расстегнутого ворота, а богатырски выпуклая грудь, как можно было разглядеть под распахнутой рубахой, вся обросла черными, как смоль, волосами – такими же, какие вылезали у него из ноздрей и ушей, чернели на жирных пальцах. Эта обильная растительность и медлительная неповоротливость движений придавали ему вид дикаря-увальня, а то и медведя.
Когда Данило назвал ему князя Курбского и объяснил причину их поездки в Запорожье, Карнаух не высказал на своем ленивом лице никакого впечатления, а промолвил с зевком и щурясь от солнца:
– Счастье же ваше.
– А что? – спросил Курбский.
– Что днем одним не опоздали: завтра войсковая рада[1] как раз в сборе.
– Завтра! Да ведь она сбирается, кажись, только для выборов к новому году?
– Верно; но ведь без головы Сечи быть полгода тоже не приходится.
– Так батька мой помер?! – вскричал Гришук.
Карнаух не спеша повернул голову на своей толстой шее, чтобы оглядеть мальчика, которого, казалось, еще и не заметил. Испуганный вид хорошенького хлопчика тронул, должно быть, и заплывшее жиром сердце толстяка, и он спросил уже не без некоторого участия:
– А кто твой батька?
– Батька мой – Самойло Кошка.
– Э-э! Помереть он не помер, но впал в некое онемение, а «до булавы треба головы».
– И ведь какой казак-то был! – воскликнул Данило. – Татарки, бывало, именем его ребят своих стращают: «Цыц, вы, чертенята! Самойло Кошка придет, с собой унесет!» Да что же мы тут заболтались? Проси-ка, братику, гостей в светлицу.
– Прошу, – сказал хозяин и сам пошел вперед.
Глава четырнадцатая
Хлопчик или дивчина?
Хата Богдана Карнауха, как у большинства тогдашних малороссов, была разделена на две половины: одна, предназначенная для жилья самих хозяев, состояла из «пекарни» (кухни) с «комнатою» (спальней), другая – для гостей – из «светлицы», точно так же с «комнатою».
По стенам светлицы тянулись деревянные лавки со спинками, покрытые цветными ковриками. На потолочных брусьях, украшенных узорчатой резьбой, имелись надписи из Священного Писания. Но гордость хозяина составляли, без сомнения, стены: на двух из них были развешаны пищали, «аркебузы» (немецкие ружья с фитилем), пистоли и «сагайдаки» (татарские луки), сабли, шашки и кинжалы, чешуйчатые кольчуги и шитые золотом конские уборы; по двум другим стенам, на резных дубовых полках, красовалась всевозможная драгоценная посуда, золотая, серебряная и хрустальная.
– И все-то, куда ни глянь, с великой нужей с бою взято! с неподдельным восторгом, не без тайной, пожалуй, зависти говорил Данило, указывая Курбскому на отдельные трофеи своего приятеля, – что у немчуры ливонской отбито, что у шляхты польской, что у погани басурманской… Ну-ка, Богдане, развязывай язык: ты лучше меня упомнишь. Князь Михайло – тоже ратный человек.
Тема и для степенного Карнауха была слишком заманчивая: начал он свои пояснения будто нехотя, выматывая из себя слова, но сам понемногу увлекся боевыми воспоминаниями. Курбский, по званию своему, хотя и был «ратным» человеком, но в настоящей битве ему никогда еще быть не доводилось, и чем далее бывалый вояка повествовал о том, кого он при такой-то оказии пристрелил или изрубил, какой хутор или замок разгромил или дотла сжег, тем тяжелее становилось на душе Курбского, тем более омрачались его светлые черты. Карнаух не мог не заметить происшедшей перемены, но объяснил себе ее иначе.
– А свое оружие, княже, ты забыл все у каменников? – с видимым уже состраданием спросил он.
– Забыл… В Сечи у кого-нибудь, авось, новое раздобуду.
– Почто в Сечи? Сам я в ратное поле навряд еще соберусь; сыновей своих у меня тоже нет: так и быть, бери себе тут, что облюбовалось.
Чтобы не стеснять гостя в выборе, он деликатно отошел к открытому окошку и зычно гаркнул:
– Жинка! Скоро ль там у тебя?
– Скоро, Богдане, дай убраться… – отозвался откуда-то оторопелый женский голос.
– Бери, бери! – говорил меж тем Данило Курбскому, видя его нерешительность. – Всякое даяние благо.
– Не могу я, право, – отвечал ему шепотом Курбский, – сколько одним ведь человеком крови пролито, сколько ближних обездолено!..
– «Ближних!» Еретиков-немцев да ляхов, собак-татарвы да турчан? Да ты сам, Михайло Андреевич, скажи, православный аль нет? Бери говорю! Он тебя, чай не прочь бы и в зятья взять. Да как бы не так, шалишь!
– Не бери, не бери! – вмешался тут молчавший до сих пор Гришук.
– «Не бери?» – вскинулся хозяин, подошедший к ним опять в это самое время от окошка. – Ты-то, щенок, чего тявкаешь? Аль нет у меня тут про вас ничего хорошего?
– Все хорошо безмерно! – поспешил Данило предупредить неуместный отказ своего господина. – И мне то за редкость, а ему на диво. Как же нам без оружия в Сечь показаться? Возьмем-ка для тебя, Михайло Андреевич, эту штуку, да вон эту и эту… А себе я возьму эту да эту…
– Губа-то у тебя не дура! – проворчал Карнаух, как бы сожалея о своем порыве великодушия. – Ну, да сказал раз, так пятиться не стану. А теперечки пожалуйте в сад.
В саду под тенистым навесом был накрыт уже стол, на котором вслед за тем появились также многие из драгоценных кубков, глечиков, чаш и чар с полок светлицы. Вокруг навеса сушились на веревках пучки разных весенних трав и кореньев, из которых со временем должны были быть настоены целебные домашние средства, а перед самым навесом была разведена грядка цветов. Солнечный воздух кругом был напоен их благоуханием, к которому примешивался еще вкусный запах жареного лука, тянувшийся из окон пекарни. Шедший отдельно от других Гришук наклонился к грядке, сорвал себе цветок ромашки и с какой-то, словно женской, ухваткой стал обрывать белые лепестки, беззвучно шевеля губами; но уловив тут пристальный взгляд Курбского, весь вспыхнул и бросил цветок.
Курбскому, впрочем, было уже не до мальчика, потому что в это время в калитке показалась хозяйка, а за ней дочка. Обе разрядились для гостей, как говорится, в пух и прах. Карнаухиха свой будний «очипок» (чепчик), свою полинялую плахту и поношеную запаску заменила дорогим головным убором – бобровым «корабликом» с бархатными кистями и парчовым кунтушом с золотыми галунами. Галя же в своей пунцовой «кирсетке», в светло-голубом девичьем кунтуше с широким на груди вырезом для пышной белой сорочки, расшитой золотым шнуром, и в монисте из бурмицких зерен и жемчуга, сама алая, как маков цвет, и с чинно потупленным взором под черною бровью, – была писанной картинкой, – ну, глаз не отвести!
– Не чинитесь, люди добрые! – пригласила хозяйка, и все разместились вокруг стола.
Обед состоял из нескольких перемен, и каждая запивалась либо брагой, либо медом.
– А не угодно ли пожевать нашего домашнего пряничка? – предложила красавица Галя Курбскому, озаряя его своими звездистыми очами.
– Что пряничек! – сказал отец. – Поднесла бы ты ему нашей домашней настоечки.
Дочка послушно встала и взяла со средины стола большой золотой кубок. Поскрипывая новыми козловыми черевичками, она обошла стол к Курбскому, сперва сама пригубила кубок, а потом с низким поклоном попотчевала гостя.
– Что с тобой, соколику? – участливо спросила Гришука Карнаухиха, заметив как тот вдруг изменился в лице. – Аль с дальней дороги притомился?
– Да как не притомиться, – вступился Данило, – ведь всю ноченьку, поди, с коня не сходил.
Хозяйка захлопоталась и увела мальчика в дом.
– Да и тебе, мосьпане, не соснуть ли? – предложил Курбскому хозяин. – Угоститься, а потом поваляться – разлюбезное дело.
Курбский не отказался: с дороги и с сытного обеда его сильно также клонило ко сну.
Проспал он, видно, довольно долго: когда он, освежив себе лицо водой, поставленной тут же в кувшине, подошел с полотенцем в руках к окошку, тени в саду совсем, оказалось, уже передвинулись.
Вдруг руки его с полотенцем невольно опустились, и он прислушался; из глубины сада долетели к нему звуки молодого голоса и сдержанные всхлипы.
– Ну, не плачь же, моя доночко, моя ясочко! У меня есть уже свой на примете, и ни на кого я его не променяю.
Чей это голос? Никак Галины. Но кого она утешает? Так ведь и есть!
Из увитой хмелем беседки вышла на дорожку Галя, ведя за руку Гришука. Курбский быстро отступил назад от окна. Тут в комнату к нему вошел Данило.
– Встаешь, Михайло Андреевич? Пора, пора! Пожалуй, что засветло и в Сечь уже не поспеем.
Курбский его не слушал.
– Скажи-ка, Данило, – промолвил он задумчиво, – кому на Малой Руси говорят: «моя доночко, моя ясочко?»
– Как кому, княже? Кого обласкать хотят.
– Это-то я знаю. Но дивчине или и хлопцу?
– Вестимо, что… Да кто кому говорил так?
– Говорила так сейчас вот в саду хозяйская дочка Гришуку…
– Не Гришук ли хозяйской дочке? Голос у него такой же тонкий, бабий.
– Нет, нет, Гришук о чем-то горько плакал, а та его утешала.
Запорожец презрительно усмехнулся.
– Да он и есть баба: то и знай хнычет!
– Послушай, Данило, – еще серьезнее заговорил Курбский. – Вспомнилось мне теперь, что Яким тебе на прощанье сказал тебе что-то за великую тайну… Может, клятву с тебя взял?..
– А кабы с тебя клятву взяли, – прервал Данило, – так ты бы сейчас, небось, по всему свету растрезвонил?
– Понятно, нет.
– А коли понятно, так чего ж ты меня пытаешь? Но Яким мне ничего по тайности не сказывал, никакой тайны не брал.
– Так ли, полно? Кому лучше знать, как не тебе, Данило, что женщинам впуск в Сечь строго заказан…
– И что преступившему такой наказ от петли не уйти? Как не знать! Да что мне жизнь моя, что ли, постыла? Чудак ты, право, Михайло Андреевич! Уж не сон ли тебе какой приснился? Настоечка была куда добрая.
– Ничего мне не приснилось…
– А не приснилось, так пойдем вместе к Гришу-ку, – продолжал запорожец тем же насмешливым тоном, – спросим самого: хлопчик он али дивчина?
– Еще что выдумал!
– При всех так и спросим: при хозяевах, при Гале. То то смеху будет!
И он закатился во все горло.
– Перестань дурачиться, Данило! – сказал, не то рассердившись, не то смутившись, Курбский.
– Так и сам дурака не валяй, прости. Собирайся-ка поскорее. Право же, в пути еще заночуем, не поспеем на раду.