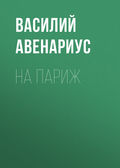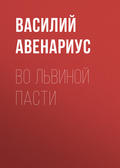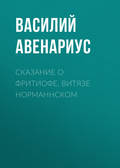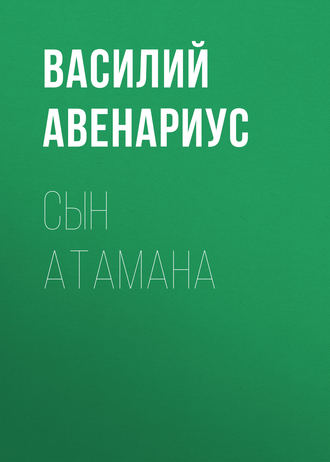
Василий Авенариус
Сын атамана
Глава седьмая
Кто был дядька Гришука
– Так ты, сыне, не одумался? – начал отец Серапион, когда они с молодым господином остались одни. – Знаю, знаю! – прервал он, когда тот стал было объяснять опять неотложность своей миссии. – Отговаривать тебя, вижу, было бы втуне. А снабден ли ты королевским универсалом?
– Королевским – нет, – ответил Курбский, – но имею грамоту от царевича.
– Гм… Лучше бы от самого короля Сигизмунда. Ну, да делать нечего; и так, чаю, признают тебя в Сечи. А где она у тебя спрятана, грамота-то?
– В шапку зашита.
– Правильно. Мало ль что дорогой может приключиться! А в шапке искать никому невдомек! И с попутчиком уже столковался?
– Давеча договорились с ним и его прислужником.
– С прислужником… ох, уж этот мне прислужник!
– А что, отче, разве он ненадежен? Настоятель немного помолчал, видимо, колеблясь, посвящать ли молодого гостя в свои сомнения; потом, решившись, заговорил:
– И власы на главах наших изочтены суть! Но береженого и Бог бережет. Скажи-ка: разглядел ли ты его хорошенько?
– Якима? Как же! У него еще совсем особые приметы: на лбу шрам, а правая рука изувечена: пальцы обрублены.
– И он ее не прятал!
– И то ведь, будто прятал!
– А ведомо ли тебе, отчего?
– Отчего, отче? Не в честном бою, что ли, срубили ему пальцы, и совесть берет?
– Догадлив ты, сыне! Каков ни есть человек, а совести не заглушить. Изволишь видеть: тому лет двадцать, коли не боле, стали у нас тут по Днепру гайдамаки пошаливать, разграбили не один зимовник, угнали целый табун войсковой. Ну, и поднялось тут на них все товариство запорожское, перехватало всю молодецкую шайку, да и расправилось по-свойски… Но одного молодца все же проглядели. Случись тут нашему вратарю занемочь, а был я в те поры еще простым иноком, и выпала мне очередь заступить болеющего. Ночь же выдалась осенняя, бурная: ветер так и воет, дождь – как из ведра. Сижу я в своей сторожке, как вдруг – чу! словно в било бьют? Только слабо таково, еле слышно. Али ветром било качнуло? Пойти, посмотреть! Засветил фонарь, запахнулся рясой, пошел.
«Эй, кто там?»
Из-за врат же в ответ мне только стон тяжкий. Посветил фонарем, глядь, – человек распростертый да весь кровью обагренный. Сила с нами крестная!
«Кто такой? – вопрошаю, – да отколь?» А его дождем так и хлещет, от дождя да ветра насквозь продрог: зуб на зуб не попадает.
«Смилуйся! – лепечет, – смерть моя пришла…» «Да что, – говорю, – с тобой?»
«Гонятся за мной… как собаку убьют…» – молвил и очи завел, обеспамятовал.
Коли гонятся за ним, убить хотят, – стало, недаром: преступник! Но несть человека без греха, токмо один Бог. Сам Христос поучал нас: «Аще кто отвержется Мене пред человеки, отвержуся и Аз пред Отцом Моим Небесным». А был я в те поры еще на двадцать лет моложе, был зело мягкосерден и – пожалел горемыку! Поднял с земли, но куда с ним? Отцу лекарю сдать, вся братия проведает…
Настоятель глубоко перевел дух.
– И ты отнес его к себе в келью? – досказал Курбский.
– Отнес, да; обмыл ему раны, перевязал тряпицами (благо в шпитале обучился); а там пошел прямо к отцу игумену, разбудил и в ноги повалился:
«Так и так, мол, отче, каюсь: призрел, кажись, татя-душегуба, на душу грех взял».
Осерчал на меня немало игумен, за неблаговременное сердоболие епитимию наложил, а сам все же не отвергся бедняги; воспретил мне кому-либо в обители о содеянном сказывать, велел безмешкотно по всем переходам, где проносил я своего гайдамака, следы крови смыть с полу, да ходить за страждущим у себя в келье, как за родным братом. Выходил я его ровно через шесть недель, а там взял с него игумен клятву смертную – гайдамачество навеки бросить, и выпустили мы раба Божья глухою же ночью тихомолком за врата монастырские на все четыре стороны. С тех пор о нем ни слуху, ни духу не было с лишком двадцать лет. «Не ушел, думаю, – от плахи, алибо от петли!» Вдруг, недели три тому, пожаловал он к нам с сынком Самойлы Кошки. Не сонное ли то видение? Да шрам и срубленные пальцы выдали молодца, хоть уж и не молодец он, а согбенный старец.
– Так вот кто этот Яким! – воскликнул Курбский. – А он тебе, отче, разве не сказался?
– Спервоначалу нет. Но как стал я его выпытывать с глазу на глаз, как, мол, попал он в дядьки к своему паничу, поведал он мне все начистоту. Напросился он-де слугою в дом к ним в Белгороде еще тогда, когда панича его и на свете не было. Опосля же на своих руках мальчугу вынянчил, как родное детище досель холит и любит. Рад бы я ему веру дать, да чужая душа потемки; бирюка как не корми, а он все в лес глядит. Так будь же ты, сыне милый, щитом малому Григорию. Обещаешь ли всемерно и ежечасно пещись о нем?
– Обещаюсь, отче.
– Храни же вас обоих Господь и Его чудотворцы! Скорбно мне пускать и тебя, и его, скорбно тем паче, что намедни к нам сюда слухи дошли, будто бы на Низу около Пекла каменники опять проявились. Мало ли что праздные языки болтают! А все же надо опаску держать. Ну, а теперь снаряжайся, коли засветло вам еще в Сечи быть. Донеси вас Бог, Никола в путь!
Глава восьмая
По днепровским порогам
– Ну, вот и Днепр; а где же, Данило, твои хваленные пороги, где?
Так говорил шаловливо Гришук, подсаживаясь в лодке-дубе к запорожцу, усевшемуся уже у руля. Окружающая водяная поверхность по всей своей шири, в самом деле, едва колыхалась, отражая, как в зеркале, и зеленые берега, и голубое небо с молочно-белыми облаками.
– Ишь, загорелось! – добродушно усмехнулся в ответ Данило. – От самого Киева до сих мест – до земель запорожских, батюшка Днепр наш течет плавно, чинно; а как хлебнет тут хмельной браги – Самары запорожской, так старая кровь, поди, заиграет в жилах; почнет он метаться из стороны в сторону как шальной, запрыгает по лавам, забурлит, зарычит, что бешенный зверь, – держись только.
– А что такое «лавы», Данило?
– Лавы-то?.. А это, вишь, милый мой, поперек реки такие уступы скалистые, гряды каменные от гор, что тянутся к нам издалеча – из Галичины. Как их, бишь?.. Карпаты, что ли.
– А товарищ твой, братику, куда девался? – спрашивал между тем старик Яким одного из двух гребцов, нанятых до Сечи. – Долго ли нам его дожидаться?
– За хлебушком пошел… Черт старый! – огрызнулся тот на него сквозь зубы, искоса поглядывая в ту сторону, где скрылся его товарищ за береговыми камышами.
В это время, сажен на сто ниже по реке, выплыла из заводи лодочка-каюк с двумя гребцами.
– Что это, рыбаки, видно? – спросил Курбский, поместившийся на боковой скамейке насупротив Якима.
Гребец сделал вид, что не слышит.
– Что глухаря корчишь? – заметил ему Яким. – Тебя, чай, его милость спрашивает: кто такие будут.
– Кто будут? – нехотя повторил тот. – Знать, рыбаки…
– Рыбаки-то рыбаки, да за какой рыбицей? Не за Двуногой ли? Вон как на весла налегли и назад в камыши, словно бы от кого хоронятся. А, приятелю! наконец-то. Где это ты запропал? – обратился ворчун-дядька к подбежавшему второму гребцу.
Этот не счел даже нужным отвечать. Отпихнув сильным толчком лодку от берега, он вскочил в нее и схватился за весло. Несколько дружных взмахов веслами – и наших пловцов вынесло на середину реки. Гребцы не прилагали почти никаких усилий, а лодку несло быстрым теченьем, как на полных парусах, навстречу какому-то смутному, гулливому шуму.
– Что, сынку, слышишь? – отнесся Данило к Гришуку. – Это первый порог наш – Кодак – голос подает… С версту еще туда ведь, а каково поет-то?
По мере приближения шум все усиливался, перед самым же порогом стал так оглушителен, что своего собственного слова, произнесенного обыкновенным голосом, нельзя было расслышать.
– Держись крепче, паничу, да и ты, княже! – крикнул Данило.
Не спуская глаз с фарватера перед собой, он уверенно правил рулем, а свободной рукой снял с головы шапку и набожно перекрестился. Примеру его последовали все сидевшие в лодке; все разом примолкли, а лица у всех стали необычайно серьезны, как перед чем-то роковым, неизбежным.
Вдруг лодку захватило будто сверхъестественной силой. Среди пенистых брызг и ошеломляющего плеска и гула ее несет неудержимо вниз с уступа на уступ. Бессчетные каменные груды мгновенно то вырастают над волнами, то исчезают под ними и толкают, подбрасывают лодку так, что надо всеми силами держаться за борт, чтобы не быть выброшенным.
Минута – и они уже в плесе под порогом, и плывут по-прежнему мирно, спокойно.
– Ну что, небось, жутко было? – с улыбкой спросил Данило Гришука.
– Как не жутко!.. – должен был признаться мальчик, на побледневших щеках которого снова выступил румянец. – Сердце так и захолонуло… А много их счетом?
– Порогов-то? Девять.
– Девять! Помилуй Бог! И далеко до следующего?
– Верст семь будет: отдышаться поспеешь. И батюшке Днепру тоже надо дух перевести, не все же бесноваться. Да это что – вниз по течению плыть!
– Так разве и вверх плывут?
– Не то что плывут, а тягой идут. Как шли мы это походом в инфляндскую землю, так чайки свои канатами через все пороги вверх тянули, а чайка-то каждая, шутка сказать, человек на пятьдесят-шестьдесят.
Наблюдательный панич, набравшись опять смелости, не отставал с расспросами, и болтливый по природе запорожец охотно удовлетворял его любознательность. Старик Яким же и Курбский, сидевшие посередине лодки друг против друга, оба молчали, погруженные в раздумье.
– Яким и всегда-то больше молчит, – тихонько заметил Гришук Даниле. – Но что с твоим князем, скажи? По родным, что ли, взгрустнулося?
– Есть ли у него еще где родные – сказать тебе не умею. Но что у него есть зазноба сердечная, краля писаная, – это верно. Диво ль, что молодцу по суженой взгрустнется!
Смуглые щеки миловидного мальчика залило огненным румянцем, черные брови его сумрачно сдвинулись.
– Но на руке его нет колечка, – отрывисто пролепетал он, – значит, он с нею еще не сосватан?
– Эх, ты, глупыш, глупыш милесенький! Меняйся кольцами, не меняйся, – от суженой, как от смерти, не отчураешься, не спрячешься.
– Так он бежал от нее? Где она теперь, да из каких? Боярышня тоже московская?
– Ишь ты, прыткий какой вопросами, что горохом, засыпал. Много будешь знать – состаришься.
– Ну, скажи, пожалуй, Данилушка, скажи!
– Спроси его сам: авось, скажет.
– Чтобы я его спросил? Что еще выдумал!
– Да и спрашивать не к чему: что в сердце глубоко от себя самого хоронишь, о том никому не промолвишься, особенно мальчуге, у коего и молоко на губах не обсохло.
Безбородый молокосос обиженно надул губы, но в это время лодку подхватило опять стремительным потоком и втянуло во второй порог, Сурский. Этот падает всего двумя «лавами», поэтому Гришук не успел даже ахнуть, как порог был уже за спиною.
– И вот уж не жутко! – захрабрился он.
– Покуда-то что!.. – пробормотал запорожец с озабоченным видом. – Дал бы Бог только миновать Ненасытец…
– А тот разве очень уж ненасытен?
– И-и! Сколько душ христианских на нем сгибло, – и не перечесть. По всему берегу могила у могилы. Зовут его тоже Дидом, затем, что он всем порогам дед, только дед куда лютый. Как попадешь к нему в Пекло, так пиши пропало: «Попавсь у Пекло, буде тоби и холодно, и тепло».
– И сейчас вот он и будет, этот Ненасытец?
– Нет, теперь пойдут еще два других порога: Лоханский и Звонецкий; а там уж он сам – пятый. Смеяться тогда забудешь!
Мальчику и то было уже не до смеху: их помчало Лоханским порогом. Только когда они с двухаршинной высоты благополучно соскользнули опять на спокойный плес, он перевел дух. Здесь Данило обратил его внимание на две огромные каменные глыбы:
– Вот и камни-Богатыри. Сошлись здесь однажды на смертный бой два богатыря: турка и русский. Да чем даром кровь им лить, порешили меж собой на том, что кто камень через реку перебросит, тому и владеть всей речною округой. Размахнулся турка с левого берега на правый, да неладно: не докинул. Размахнулся русский с правого берега – как раз на левый угодил. Так-то вот с тех пор и лежат те камни-Богатыри: русский на сухом берегу, а турецкий в воде. Только турку и видели!
От Лоханского порога до Звонецкого целых семь верст.
Перед Звонцем подвижная картина бушующей воды оживлялась еще бесчисленными крячками, низко перепархивающими с камня на камень и мелькавшими на солнце своими белыми крылышками. Впечатлительный мальчик забыл уже о Ненасытце и крикнул Курбскому, перекрикивая шум воды:
– Смотри-ка, княже, смотри, сколько крячек! Вот бы выпалить в середку!
– Одной пулей? – улыбнулся в ответ Курбский. Гришук покраснел.
– А что ж, и одной пулей можно уложить их десяток!
– Попытайся.
И Курбский подал ему свое немецкое ружье.
– А ты думаешь, я не умею стрелять? – вскинулся мальчик, еще более вспыхнув, и принял ружье.
В это самое время с ближайшей гранитной глыбы поднялась на воздух громадная птица.
– Орел, орел! – заликовал Гришук и взвел курок. Данило схватил мальчика за руку и насильно отнял у него ружье.
– Упаси Бог! Нешто можно на порогах трогать царя птиц?
Борьбы между ними почти не было; но лодка была уже выведена из равновесия, наскочила на подводную скалу и, подброшенная следующею волной, поднялась дыбом. Опытные гребцы, точно предвидя подобный случай, разом оттолкнулись веслами. Хотя нос лодки благодаря этому опять и опустился, но сама она уклонилась уже в сторону от узкого фарватера и с треском села на подводный камень.
Один из гребцов не спеша снял с плеч свитку, разулся и полез в воду. Оттого ли, что вода доходила ему выше пояса, и от быстрого течения ноги его не находили твердой опоры; оттого ли, что киль лодки врезался меж подводных камней, – но все усилия гребца привели только к тому, что лодка повернулась боком. Сидевших в ней стало качать, как в бурю на море, и беспрестанно еще обдавать с головы до ног пенистыми брызгами.
Пришлось и второму гребцу спуститься в воду на помощь товарищу. Не мало времени провозились они так, пока не сняли лодки с мели. Яким не переставал брюзжать на обоих; Данило ему вторил; но за неумолкаемым шумом порога слова их почти нельзя было разобрать. Зато, когда оба гребца влезли обратно в лодку, и ее вынесло снова из пучины в полую, тихую воду, те принялись наперерыв отчитывать «лодарей», которые с умыслом-де гребли неровно, чтобы сесть на «скелю», а как сели, так нарочно загомозилися.
– Ну, ладно, будет! – сказал Курбский. – Какой же у них был расчет?
– А такой, значит, расчет, – отвечал Яким, – чтоб нам не нагнать тех рыбаков.
– Твоя милость не видел разве, – подхватил Данило, – как один толкал лодку в одну сторону, а другой в другую?
Оба гребца до сих пор угрюмо молчали. Тут один из них не выдержал и напустился на Данилу, что тот не умеет править рулем, а другой добавил, что виноват панич, что хотел стрелять орла.
– Ну вже так! Мы же и виноваты! – вскричал запорожец. – Но наперед говорю вам, любезные: коли что стрясется над нами, так и вам несдобровать, не будь я Данило Дударь!
Глава девятая
У «Дида» в «Пекле»
Наступило общее молчание. Впереди был Ненасытец, порог из порогов, и никому не было уже до перекоров. Первые четыре версты от Звонца река постепенно расширяется до двух верст с лишком и течет поэтому медленно, ровно, будто собираясь с силами. Но на пятой версте ее путь заграждается сперва одним большим островом, потом другим, и в стесненном русле она вдруг ускоряет свой бег. Еще за целые две версты до Ненасытца явственно доносится глухой гул низвергающихся вод. Гул этот становился все громче и грознее, и вот сейчас должен был настать роковой миг. Смерть чудилась каждому, невидимо витала над ними.
– Прощай, Михайло Андреевич! Прощай, милый, паничу, и ты, старче, и вы, братове! Не поминайте лихом, коли горячим словом обидел! – расчувствовался Данило и, сняв шапку, стал истово креститься.
За ним и все другие начали прощаться меж собой и, обнажив головы, творить про себя молитву.
Гребцы, снявшие свитки и сапоги еще на Звонецком пороге, так и не оделись, не обулись снова, а завернули свои вещи в один общий узелок. Когда же тут лодка стала огибать выдающийся мыс острова, один из гребцов нагнулся зачем-то под свое сиденье и вдруг швырнул с размаху узелок с вещами в прибрежные кусты.
– Ты что это, вражий сын, а? – гаркнул Данило.
Вместо ответа, оба гребца бросили в воду свои весла, и каждый с своей стороны прыгнул вслед, чтобы поплыть к острову, тогда как оставшихся в лодке несло далее со стремительной быстротой. Между тем из днища лодки хлынула вода и стала заливать лодку; очевидно, тот гребец, что наклонился сейчас под свое сиденье, вынул из днища втулку.
Данило разразился, разумеется, самой невозможной бранью, но как рулевой, был прикован к своему месту. Старик Яким, не тратя лишних слов, заткнул своей собственной шапкой, насколько мог, дыру, из которой била вода; Курбский же и Гришук не смели даже пошевельнуться, потому что без весел помочь делу все равно не могли, а всякое движение их, напротив, могло бы оказаться для всех гибельным. Оставалось положиться на искусство рулевого да милость Божью!

Оставалось положиться на искусство рулевого да милость Божью!
Вот впереди выросла группа скалистых островков. Кипя и пенясь, река широкой дугой отпрянула от них и налетела на первую лаву – нагроможденный поперек всего ее русла гранитный гребень. С налета перенесло лодку через гребень, чтобы низринуть с крутого уступа.
А там все новые и новые преграды: гранитные глыбы, скалистые мысы, отвесистые утесы. И мечется старик Днепр меж них из стороны в сторону, как ошалелый; снова низвергается с головоломной лавы, и еще, и еще, и все мчится вперед, крутится, разбивается огромными валами, рассыпается пенистыми брызгами, взвивается к небесам облаками водяной пыли, и ревет, и воет, и стонет… А вот и самое «Пекло» – зияющий водоворот…
Когда Курбскому впоследствии случалось вспоминать про Ненасытец, из всех захватывающих ощущений, испытанных им здесь в течение каких-нибудь двух минут, особенно ярко выступало одно это мгновение, неизбежно и неумолимо страшное, как сама смерть. И, что всего удивительнее, одного этого мгновения ему все-таки было довольно, чтобы охватить взглядом все окружающее и заметить за водоворотом, в тихом плесе, три лодки, в том числе ту самую с «рыбаками», которая давеча их опередила.
«Они нас поджидают!» – молнией мелькнуло у него в голове мимо главной мысли, которая, без сомнения, была у каждого из сидевших в лодке: «Пронеси, Господи!»
И Господь пронес их. Неудержимым напором падающих в «Пекло» вод лодку, как щепку, выбросило опять из клокочущего водоворота. Но другая опасность зато возвратилась: при отвесном падении лодки в «Пекло» старик Яким не мог уже сохранить своего наклоненного положения, чтобы зажимать шапкой отверстие в днище лодки, и ее тотчас начало заливать. Тут вовремя, однако, подоспели подстерегавшие в плесе три лодки. Стоявший на носу передней здоровенный детина отчаянного вида приветствовал наших пловцов грубым торжествующим смехом:
– Милости просим, дорогие гости!
Курбский, вместо ответа, выхватил из-за пояса пистоль, взвел и спустил курок. Но старик Яким успел толкнуть его под локоть, и пуля пролетела через голову разбойника.
– Ай, да старина! – захохотал тот опять. – Ты с нами, вижу, заодно?
– А то как же? – был ответ. – Как не выручить старого приятеля Бардадыма! Ну, княже, сдавайся-ка подобру-поздорову: сейчас и так потонем.
Положение, действительно, было безвыходное. Лодку залило уже наполовину. Миг еще – и они начнут тонуть. Но Курбский был еще очень молод. Он не думал уже о том, что их всего двое – он да Данило – против целой шайки, ни о том, что погибни они – погибнет, пожалуй, и все дело царевича Димитрия. Он обнажил свою турецкую шашку и прыгнул в лодку Бардадыма. Прыгнул, но недопрыгнул: Яким на лету обхватил сзади его ноги, и Курбский грохнулся ничком в разбойничью лодку. Бывшие там не замедлили навалиться на него, и как он ни барахтался, а был скручен по рукам. Что пользы, что верный друг его, Данило, накинулся на изменника Якима и схватил его за горло! Кто-то из ближайшей лодки хватил самого Данилу веслом по голове, и он со стоном повалился в свою лодку, или, вернее сказать, в наполнявшую ее воду, потому что лодка шла уже ко дну.
Глава десятая
Как каменники дуван дуванили…
Описанная сейчас сцена произошла гораздо быстрее, чем можно было ее рассказать. Теперь, когда всякое сопротивление было сломлено, все пошло, как по щучьему велению. Все три спутника Курбского были живо вытащены из воды и размещены по трем разбойничьим лодкам. Даже все почти пожитки их были спасены, все, кроме ружей Курбского и Данилы, что особенно огорчило Данилу. Он стал опять браниться, но Бардадым тотчас распорядился заткнуть ему «тряпицей» крикливую глотку.
– А теперь завяжите-ка всем глаза.
– Только не мне, – возразил Яким. – Я – свой брат. Аль все еще не опознал?
– Жигуля! – узнал его тут наконец и Бардадым. – С того света, что ль, повыявился?
– С того, нарочно ведь вам в сети эту важную рыбку заманил.
– Так ли, полно, чоловиче?
– Э-эх, Бардадымушка! Фофан же ты, фофан! Ведь ты кем тут, в молодецкой шайке, ноне состоишь-то? Должно, атаманом?
– Атаманом не атаманом (атаман в отлучке), а все же есаул я…
– Ну, и я тоже двадцать лет тому был есаулом; не хуже тебя в здешних пещерах все ходы и выходы знаю. Как хотел, так давным-давно бы вас предал.
– Так чего же ты двадцать лет к нам глаз не казал?
– Да я ведь калека: какой же я вам был бы товарищ?
– А нынче зачем порадовал?
– Затем, что старость одолела со всякой хворью и немощью: похотелось перед концом своим старые места повидать, старых товарищей проведать: не жив ли еще кто? И вот, не даром, вишь заглянул! С тобой, другом сердечным, встретился! Да чтобы не прийти с пустыми руками, привел вам и живого мясца: молодого князя русского, посланца царевича Димитрия московского: возьмете за него богатый выкуп.
– Коли так, то спасибо тебе, друже милый. А хлопчик этот чей будет?
– Хлопчик – сынок кошевого атамана запорожского, Самойлы Кошки…
– О? Так и за него сорвем не малую толику. Ну, братику Жигуля, исполать тебе! Дай, поцелую.
У Курбского глаза были завязаны, но он слышал весь разговор, а теперь до слуха его долетел и смачный товарищеский поцелуй двух есаулов: нового и старого.
Лодки причалили к берегу, и трех пленников, как беспомощных слепцов, высадили под руки на сушу, после чего повели за руку же далее. Курбского, как самого почетного гостя, вел сам начальник шайки. Обиталище разбойников находилось не на самом Днепре, а в одной из выходящих к нему балок. Шли туда чуть ли не целый час. В действительности, прямой путь был, конечно, значительно короче; но Курбский не мог не заметить, что его ведут умышленно окольной дорогой, чтобы сбить с пути: они то карабкались вверх по откосу, то спускались в глубокий овраг, сворачивали то вправо, то влево, то как будто возвращались даже несколько назад и кружились на одном месте. Наконец им пришлось пробираться сквозь густой бурьян, и когда они тут остановились, на них пахнуло, как из погреба, холодом и сыростью.
– Ну, вот, мы и дома! – объявил Бардадым. – Только ты, княже, нагнись-ка маленько: чертоги у нас не княжеские, ворота не про твой рост.
Курбский наклонился; тем не менее шапка его задела не раз за низкий свод прохода в пещеру, а плечи за стены.
– Эй, огня! – крикнул Бардадым и снял повязку с глаз пленника.
Сначала Курбский не мог почти ничего различить, потому что единственный свет, проникавший в скалистое подземелье, исходил из небольшой расщелины где-то в вышине. Но когда вспыхнула лучина, а затем затеплился и каганец, он разглядел отчетливо всю пещеру. Она была довольно высока, выше сажени, и просторна: до пяти сажен в длину и до трех в ширину. Как раз под расщелиной было приспособлено нечто вроде очага с большим котлом, вокруг которого завозились теперь кухари – два дюжих молодца с засученными рукавами. Дым от разведенного ими на очаге огня выносило сквозь расщелину наружу: весь утесистый свод вокруг нее был уже закопчен дымом. Середину пещеры занимал большой стол, но ножки его, или, вернее сказать, заменявшие их древесные обрубки были так низки, что сидеть за столом на лавках было бы очень неудобно: поэтому ни лавок, ни каких-либо иных сидений не полагалось. В стороне на каменистом полу было устроено одно общее ложе из прошлогодних листьев и циновок.
«Неужели и нам придется спать здесь вместе с ними!» – не без отвращения подумал Курбский.
Но начальник шайки уже позаботился о «дорогих гостях»: по его знаку, один из разбойников полез в какое-то темное отверстие в отдаленном углу пещеры и достал для них оттуда пару звериных шкур.
Хотя Бардадым и начальствовал только временно за отсутствием атамана, но пока подчиненные не выходили у него из повиновения. Когда же тут на столе были разложены оружие пленников и их дорожные вещи (кстати сказать, насквозь промоченные), всякая субординация была забыта: вся хищная орава наперерыв накинулась на то, что кому более приглянулось. Поднялся крик и гам; не обошлось бы, вероятно, и без потасовки, не вступись в дело Яким-Жигуля.
– Эх вы, каменники-горе! – перекричал он всех. – Забыли, знать, стародавний завет наш: делить дуван по совести, по-божески?
– По совести, по-божески! – передразнил его Бардадым, который, благодаря своей телесной силе, захватил из «дувана» львиную долю. – Ноне, брат Жигуля, у каменников нет ни совести, ни Бога.
Против этого, однако, запротестовали хором все остальные каменники и пристали к Жигуле, чтобы тот объяснил им, какой это такой «божеский» дележ.
– А вот такой, – отвечал Жигуля, – простого прохожего, бывало, и пальцем не тронем: что за корысть? «Иди себе, миленький, с Богом!» Убогому же странничку сунем в руку еще алтын денег, положим в котомку краюху хлеба: «Помолись, мол, святым угодникам за нас, грешных!» Зато как подвернется раз толстосум-купчина, с товарами заморскими, либо вельможный пан, так его, голубчика, облупим, как липку! Ежели же поведет себя смирненько, не станет перечить, так и царапинки ему не причиним, не токмо крови не пустим, угостим еще на прощанье, чем Бог послал; только заклятье возьмем перед святой иконой – держать язык за зубами.
– А с дуваном-то как же? – спросил один из слушателей.
– Погоди, о том сейчас речь пойдет. Добычу, кому бы ни досталась, на общий стол. Все по ряду, по чину. Богу свечку затеплим, вкупе образу помолимся… А у вас тут, поди, ни свечки, ни образа и в помине нет?
Рассказчик окинул пещеру до самых темных углов внимательным взглядом.
– Нет, нет, еще не обзавелись… – не то смущенно, не то сердито пробурчал Бардадым. – Ну, а далей что же?
– Далей уже набольший – атаман, есаул ли, буде атамана нет на месте, зачинал дележ: первую долю – на церковь Божию (потому, кому болей грехов замаливать, как не нашему брату); другую долю – на прогулы; а третью уж – в дележку, всякому по заслугам в деле.
– И все оставались довольны? – спросил опять кто-то.
– Все до единого. Всяк знал же, что делено по совести.
– А что, паны-молодцы, не дать ли нам Жигуле поделить наш дуван тоже по совести, по-божески?
Предложение нашло общее сочувствие. Сам есаул Бардадым, из уважения ли к своему почтенному предместнику или в предвидении неуспеха возражения, не промолвился ни словом.
– Спасибо вам, детки! Останетесь довольны, – сказал Яким-Жигуля, низко кланяясь на все стороны; затем с таким же поклоном обернулся к Курбскому, который, расположившись вместе с Данилой и Гришу-ком в стороне на звериных шкурах, был молчаливым свидетелем совещания разбойников. – Ну-ка, ваша милость, не обессудь, коли тебя трошки побеспокоим. Одежи на тебе мы не тронем, не бойся! Как же тебе, князю вельможному и посланцу царевича московского, явиться перед раду запорожскую голяком, либо в обносках? По платью встречают, по уму провожают. Да и шашки твоей и пистолей, кинжала покуда не поделим. Сложите-ка, детки, в сторонку. Может, царевич даст нам за них еще лишний выкуп. Но вот что у тебя, княже, в кошеле, то и царевичу твоему неведомо, – прибавил с усмешкой старик. – Занятно бы туда заглянуть! Где его у тебя искать велишь? Кажись, за пазухой.
И, не выжидая ответа, он залез уже рукой за пазуху Курбскому. Значительная часть денег была спрятана у того на теле в особом поясе, который снаружи нельзя было даже нащупать: на текущие же расходы он имел еще почти полный кошелек, который, действительно, хранился у него на груди во внутреннем кармане кунтуша.
– То-то я еще в обители заприметил, как твоя милость нищую братию оделял! – с той же самодовольной усмешкой продолжал старый разбойник, высыпая на стол из кошелька Курбского целую груду золота и серебра. – Эге! Да тут на всех нас хватит.
– Особливо, когда ты прибавишь еще казну твоего панича! – не без колкости подхватил Бардадым, который, по-видимому, не мог простить своему сопернику общее доверие к нему шайки. – Али себе все оставишь?
– Зачем себе, – отвечал Жигуля, доставая из голенища своего сапога затасканную мошну и вытрясая из нее точно также на стол все содержимое: несколько золотых, серебряных и медных монет. – Ну, а теперь, Данилушко, твой черед. Где казна у запорожца, и спрашивать нечего. Ну, ну, не брыкайся, друже милый: ведь у нас где лаской, а где и таской.

– Ну, а теперя, Данилушко, твой черед… Не брыкайся, друже милый
Локти у запорожца были скручены за спину; рот у него был заткнут тряпкой, завязанной еще для верности узлом за затылок: ни руками, ни языком он владеть не мог. Насколько это его возмущало, видно было по его лицу: все оно побагровело, жилы на лбу налились, глазные яблоки готовы были выскочить из головы. Но ноги у него были свободны, и одной из них удалось ему нанести наклонившемуся над ним Якиму такой удар в живот, что старик отшатнулся и скрючился от боли.
– Ох, сатана! Чтоб те на Страшный Суд не встать! Подите-ка сюда, детки, стреножьте его покрепче, чтобы не брыкался.
«Детки» не замедлили исполнить приказание старого есаула, а кстати в усердии своем «стреножили» и двух других пленников. Без затруднения достав теперь из шаровар Данилы горсточку мелкого серебра да медяков, Жигуля приобщил их к общей массе, подлежавшей разделу.
– Ну, а теперя, детки, доложите-ка мне толком один за одним, чем кто отличился в этом деле.
И стали те по очереди докладывать, перебивая и поправляя друг друга. Все они сбились в кучу около низкого стола; поэтому Курбскому из его угла не было хорошенько видно, что там происходило. Но он слышал как весь допрос, так потом и распоряжения Жигули при самом дележе: часть денег была отделена на церковь Божию, другая – на прогул, а остаток уже, вместе с пожитками Курбского и Гришука, был распределен между удалыми молодцами по соразмерности их заслуг.