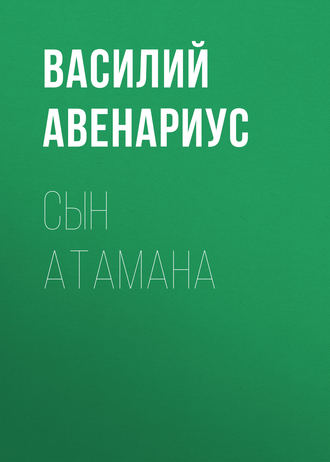
Василий Авенариус
Сын атамана
Глава пятнадцатая
Ложь – на тараканьих ножках
Название свое Запорожская Сечь получила по месту своего нахождения: на Низу Днепра – «за порогами».
По пути туда к нашим путникам примыкали все новые небольшие партии запорожцев, живших на вольностях запорожских, вне Сечи, и оповещенных о чрезвычайной раде.
И вот, в последних уже лучах заходящего солнца, замелькал меж дерев высокий, сажен шесть вышины, земляной вал с бойницами и внушительно выглядывавшими из них «арматами» (пушками), а над валом деревянная башня также с бойницей и арматой. Под самой башней в валу был вход в Сечь – «пролаз» шириною не более аршина.
Приставленный к пролазу старый караульный казак, по имени Иван Чемодур, знал, оказалось, в лицо всех вновь прибывших членов сечевого «товариства» и приветствовал каждого его прозвищем. Каких-каких прозвищ не услышал тут Курбский! Были тут Кисель и Куроед, Трегубый и Куронос, Лихопой и Быдло.
Когда очередь дошла до самого Курбского, он заявил, что он такой-то и имеет особую грамоту к войску запорожскому.
– Могу сейчас показать, – прибавил он.
– Опосля пану Мандрыке покажешь, – отозвался Чемодур. – Нас Господь не умудрил наукой.
– А Мандрыка все еще войсковым писарем состоит? – спросил Данило.
– Кому же и состоять, как не ему? Такого доку поискать! Каждый год выбирают.
– И подначальных строчил этих: писарей да под-писарей, канцеляристов да подканцеляристов, я чай, еще целый полк себе понабрал?
– Хошь и не полк, а отрядец будет. При боку пана судьи для караула и послуг всего на все 10 человек, у пана есаула – 7, у него же три десятка – без малого, поди, столько ж, сколько у самого кошевого атамана! А этот хлопчик, верно, при твоей особе? – указал караульный Курбскому на Гришука.
– Нет, это сынок самого Самойлы Кошки, – отвечал Курбский. – Нас просили доставить его к родителю…
– Гм, так… Да примет ли его еще родитель? Никого, вишь, до себя не пускает. Потерпи малость: ужо, как меня сменят, так сам вас до пана писаря сведу.
Сумерки на Малой Руси наступают, как известно, тотчас по закате солнца. Когда Чемодура сменил другой караульный, совсем почти стемнело. Но по мерцавшим из окон огням можно было судить об общем расположении куреней вокруг сечевой площади. Кошевой курень, вместе с сечевой церковью, стоял отдельно за каменной оградой во внутреннем «коше»[2].
В этом курене в отличие от остальных была отведена особая большая камера для войсковой канцелярии, куда Чемодур теперь и ввел Курбского с его двумя спутниками.
Войсковая «старшина» (старшее начальство запорожского войска) состояла из четырех лиц: кошевого атамана – главы и официального представителя войска; войскового судьи, ведавшего всеми гражданскими и уголовными делами, войсковым скарбом и «арматою» (артиллерией) и командовавшего в Сечи в отсутствие кошевого; войскового писаря – генерального секретаря и войскового есаула – обер-полицеймейстера войска.
Несмотря на поздний час, канцелярия оказалась все-таки в полном сборе. Начальник ее, пан писарь Мандрыка, невысокого роста, худенький человек, с быстрыми, острыми глазами, заложив руки за спину, ходил взад и вперед между столами и диктовал что-то, – должно быть, какой-нибудь общий по войску приказ; а подначальная ему писарская команда взапуски скрипела перьями. Увидев входящих, он остановился посреди комнаты, на ходу оглядел их вопросительно, не отнимая рук от спины. Когда же тут он узнал от Курбского, что имеет перед собой уполномоченного московского царевича, то, в сознании, видно, своей власти, не подверженной случайностям выборов, с вежливым поклоном, но без всякого раболепства, попросил его садиться, а затем тотчас приступил к делу:
– У твоей милости есть и цидула к войску запорожскому.
– Есть универсал за царскою печатью, – отвечал Курбский и, выпоров кинжалом из подкладки своей собольей шапки зашитый там документ, подал его начальнику войсковой канцелярии.
Тот внимательно перечел документ дважды. Осмотрел печать и промолвил:
– Печать-то царская, но приложивший оную подписался в универсале не царем, а царевичем.
Курбский покраснел за своего царевича.
– Да будь он уже царем, так и не беспокоил бы теперь войска!
– Та-а-ак, – протянул писарь, складывая документ. – Ну. Дай ему Бог. – А то универсал в порядке. О царевиче Димитрие Ивановиче мы уже наслышаны от старосты истерского Михаилы Ратомского.
– Но посланец его не был выслушан?
– Нет: о ту пору кошевой атаман наш тяжко занемог. Твоей же милости более посчастливилось: на завтра назначены новые выборы войскового старшины.
– Но, может статься, их теперь даже и не потребуется.
– Это почему?
– А потому, вишь, – не утерпел тут вмешаться Данило, – что мы вот доставили сюда пану атаману любимого сыночка: как увидит, так, может, опомнится опять, оправится.
Мандрыка оглядел говорящего свысока через плечо и сухо заметил:
– Тебя-то, забубённая голова, отколе принесло?
– А я при князе… Да и сам по себе тоже хотел к вам опять гостем побывать.
– Гость гостю рознь: иного хоть брось, – процедил сквозь зубы пан писарь и перевел глаза на Гришука. – Так ты, стало, родной сын его вельможности пана атамана?
Гришук не выдержал его пронизывающего взора и, смутившись, пролепетал только:
– Родной…
– Знамо, родной! – подтвердил Данило. – Сам я панича на руках качал.
Гришук вскинул удивленный взгляд на зарапортовавшегося в своем усердии защитника. Взгляд этот не ускользнул от писаря.
– Ты, значит, и в дядьках у панича состоял? – спросил он.
– В дядьках, само собой…
– И чего ты путаешь, Данило? Для чего все это? – заметил Курбский. – Старика-дядьку его, изволишь видеть, мы дорогой утеряли, – обратился он к писарю и в немногих словах рассказал о первой встрече своей с Гришуком в Самарской пустыни и о том, что после того было.
– Твоей милости я верю, – сказал Мандрыка, на которого, как и на всякого другого, прямодушие молодого князя произвело неотразимое действие. – Но вот этому гусю лапчатому я вот столечко веры не дам!
Данило обиженно ударил себя кулаком в грудь.
– Да что я не запорожец, что ли, чтобы мне вовсе не верить! Не всякое же лыко в строку…
– То-то вот, что ты лыком шит. Ложь – на тараканьих ножках: того гляди, обломятся. А теперь, делать нечего, пойду спрошу пана атамана: угодно ли ему еще видеть сынка.
С этими словами Мандрыка повернулся к выходу. Гришук с умоляющим видом загородил ему дорогу.
– Чего тебе?
– Возьми меня с собой!
– Да, может, батька твой тебя и не признает.
– Признает, признает! Пусти меня к нему только одного…
– Поспеешь.
И пане писарь уже вышел вон.
– Владычица многомилостивая! – прошептал мальчик, у которого из побледневшего лица исчезла последняя кровинка.
Курбский сказал ему несколько одобрительных слов, но он, точно в оцепенении, не сводил глаз с двери.
И вот дверь опять растворилась. Еще с порога начальник канцелярии кликнул одного из своей команды, чтобы сбегал за пушкарем; затем схватил Гришука за ухо, да так больно, что бедняжка запищал.
– Да что он сделал, – спросил Курбский.
– Что сделал? – повторил Мандрыка, отталкивая от себя мальчика с такой силой, что тот чуть не свалился с ног. – Назвался, вишь, сыном Самойлы Кошки, а у того вовек и сына-то небывало!
– Он много лет меня не видел, и болезнь ему память отшибла, – продолжал стоять на своем Гришук, взглядывая при этом на Курбского полными слез глазами. – А что он мне родной батька, клянусь вот перед ликом Христа Спасителя и всех Святых! – прибавил он, осеняясь крестом перед освещенными лампадами киотом в переднем углу.
– И я клянусь тоже! – сказал Данило с таким же крестным поклоном.
Теперь у Курбского не осталось уже сомнения, что они оба лгали: Самойло Кошка был, действительно, отцом Гришука, но он-то сам, Гришук, был отцу не сыном, а дочкой! Да как об этом заявить? Сами они молчат, а тут их жизнь на волоске.
Искушенный в житейских лукавствах войсковой писарь со своей стороны не придал, казалось, торжественной клятве обоих особенной веры.
– По совести ли дали вы вашу клятву, али нет, – сказал он, – об этом судить не мне: новый старшина разберется с вами. А дотоле, други милые, посидите в войсковой яме… Где ж это пушкарь-то?
– Здесь, пане писарь! – отозвался входящий в это самое время запыхавшийся пушкарь.
– Где это ты, братику, опять застрял? В шинке, верно?
– Виноват, пане…
– То-то «виноват!» Убери-ка вот к себе в пушкарню этих двух молодцов. (Пан писарь указал на Данилу и Гришука). Да смотри: ты головой ответишь, коли они у тебя убегут.
– Не убегут, ваша милость: к пушке прикую.
– Михайло Андреевич! Радетель! Будь нам заступником… – взмолился к Курбскому Данило, когда пушкарь на всякий случай связал ему веревкой руки.
Гришук не промолвил уже ни слова, с безнадежной покорностью протянул также пушкарю свои руки, и, только выходя из дверей, еще раз оглянулся на молодого князя, но так, что у того сердце в груди перевернулось.
– Но их в пушкарне истязать же не станут? – спросил Курбский пана писаря.
– Поколе нет, хоша маленько вреда бы и не было. А как выйдет декрет о законном истязании – так прошу не прогневаться! За ложную клятву по головке у нас не гладят.
– Но к чему их могут осудить?
Мандрыка пожал плечами, и губы его искривились недоброй усмешкой.
– Кому на колу торчать, того не пожалуют двумя столбами с перекладиной! – отвечал он, очень довольный, по-видимому, своим острословием; но тотчас, приняв опять серьезную мину, переменил разговор. – Твоя княжеская милость тоже, я чай, с долгого пути притомился? Для знатных гостей у нас здесь, при кошевом курене, есть особое панское жилье. Пожалуй-ка за мною.
Глава шестнадцатая
Прогулка по сечи
Проведя «знатного» гостя в «панское» жилье, пан писарь озаботился, чтобы ему подали туда и ужин; после чего пожелал ему доброй ночи и удалился, оставив ему для послуги одного из своих молодиков, Савку Коваля (молодиками назывались в Сечи молоденькие казаки, записанные, в качестве служителей, к какому-либо куреню, чтобы приготовиться к казачьему званию).
От разговорчивого молодика Курбский услышал, что поутру до рады будет еще торжественная служба в войсковой церкви.
– Прикажешь разбудить тебя к самой службе? – спросил Коваль.
– Пораньше, пожалуйста, если б я сам не проснулся. Занятно было бы мне перед тем еще и Сечь вашу осмотреть.
– И крамный базар тоже?
– А это что такое?
– Да это, вишь, «крамницы» (лавки) с «крамом» (товаром). У всякого куреня там своя крамница для собственного обихода.
– А вольных торговых лавок у вас разве нет?
– Как не быть: есть у нас там и приезжие гости (купцы) и жиды-шинкари, есть пришлый народ всякого ремесла и мастерства; там же состоят при них и базарные атаманы, и войсковой контаржей, что хранит меры и весы. Больше твоей милости нынче ничего не потребуется?
– Ничего. Спасибо, голубчик. Можешь идти.
Давно ушел молодик, а Курбский все не мог заснуть, все ворочался на постели: неопределенная участь, ожидавшая Данилу и Гришука (или как там его зовут, если он, в самом деле, дивчина), не давала ему покою.
«Поутру первым делом загляну к ним в пушкарню, спрошу напрямик: что можно для них сделать?» На этом решении Курбский наконец заснул.
Проснулся он от того, что кто-то сильно тормошил его за плечо. Он открыл глаза и увидел перед собой Савку Коваля.
– Твоя милость хотел еще до церковной службы оглядеться в Сечи и на крамном базаре…
– Да, да! – опомнился разом Курбский, и быстро приподнялся.
Четверть часа спустя, они вместе выходили из дверей.
Во внутреннем коше, как уже упомянуто, находилась, кроме кошевого куреня с пристройками, еще и соборная сечевая церковь. Около колокольни молодой вожатый обратил внимание Курбского на высокий столб с железными кольцами.
– Знаешь ты, княже, что это за столб?
– Это – коновязь, – отвечал Курбский. Молодик рассмеялся, но тотчас сделался тем серьезнее.
– Не коней тут привязывают, а воров и убийц.
– Так это позорный столб!
– Позорный столб, да… Не дай Бог кому стоять у него! – понижая голос, продолжал Коваль. – Привяжут тебя, раба Божьего, прочтут решение при всем товаристве, накормят, напоят: «ешь, пей, не хочу», а там всякий казак подойдет, выпьет тоже чашку горилки, а либо меду, возьмет кий, да как хватит тебя со всего маху: «Вот тебе, вражий сын, чтобы вперед не крал, не убивал!»
«А что, как и Данилу, и Гришука ожидает то же?» – подумал Курбский, и при одной мысли об этом у него мурашки по спине пробежали.
– Где у вас тут пушкарня? – спросил он.
– А сейчас тут, на сечевой площади.
Они вышли из внутреннего коша на сечевую площадь, которая, особого дня ради, была вся усыпана песком. Курени, числом 38, были расположены на площади широким кругом. Это были огромные избы, совершенно одинакового вида. Позади каждого куреня стояли принадлежавшие к ним скарбницы (амбары для «скарба» казаков), а также небольшие жилья для тех членов куреня, которые прибыли из зимовников только на раду и для которых не оказывалось мест в самом курене. Далее же во все стороны виднелся высокий вал, отовсюду замыкавший Сечь.
– А вот и пушкарня, – указал Коваль на стоявшее в ряду куреней каменное здание с решетчатыми окнами.
Курбский направился прямо к пушкарне. У входа на голой земле преудобно расселся вооруженный запорожец, поджав под себя по-турецки ноги и попыхивая люльку. На приветствие Курбского с добрым утром, запорожец оглядел его представительную особу не без некоторого любопытства снизу вверх, потом сверху вниз, но не тронулся с места, не вынул даже изо рта люльки, а кивнул только головой.
– Ты что же тут, любезный, стережешь, видно? – продолжал Курбский.
– Эге, – был утвердительный ответ.
– Вечор вот сдали сюда двух моих людей. Мне бы их повидать.
– Без пана писаря не токмо я, а и сам пушкарь тебя к ним не впустит.
Этого-то и опасался Курбский. Обратиться к самому Мандрыке значило – возбудить в нем новые подозрения.
– Кликнуть тебе пушкаря, что ль? – нехотя предложил запорожец, которому, видимо, очень уж трудно было расстаться со своим насиженным местом.
– Не нужно, сиди, – сказал Курбский. – А что, каково им там.
– Спроси волка: каково ему на цепи? Данилка и то, как волк, зубами лязгает.
– А хлопчик?
– Хлопчик крушит себя, слезами заливается, не ест, не пьет.
– Но кормить их все же не забыли?
– Зачем забыть: хлеба и воды нам не жаль. А дойдет дело до киев, так не так еще накормим! На весь век насытим! – усмехнулся запорожец.
– Ну, что же, княже, – спросил Коваль, – пойдем дальше?
– Пойдем, – сказал Курбский, подавляя вздох: волей-неволей ведь приходилось бездействовать!
Из открытых окон куреней доносился к ним оживленный говор обитателей. Проходя мимо, Курбский заглядывал в окна, а молоденький вожатый на словах пояснял то, чего на ходу нельзя было разглядеть.
Так узнал Курбский, что каждый курень состоит из двух равных половин: сеней и жилья. Середину сеней занимала «кабыця» (очаг) длиною до двух сажен. Над кабыцей с потолочной перекладины висели, на железных цепях, громадные «казаны» (котлы) для варки пищи. Хозяйничавшие здесь кухари были из тех же казаков, но звание их почиталось несколько выше звания простого казака, – отчасти также и потому, что кухарь был в тоже время и куренным казначеем.
В стене между сенями и жильем, для отопления последнего, была устроена большая «груба» (изразцовая печь). Во всю длину жилья тянулся обеденный стол со вкопанными в землю ножками-столбами, окруженный лавками. Над стенами же был настлан накат, приспособленный для спанья ста пятидесяти и более человек. Под накатом было развешено оружие обитателей куреня; а в красном углу теплилась неугасимая лампада.
Тут внимание Курбского было отвлечено шумной перебранкой у ворот в предместье Сечи – крамный базар. Два запорожца отчаянного вида норовили прорваться в ворота: кучка же здоровенных молодцов из базарных людей, вооруженных дубинками, не пропускала буянов, наделяя их кстати и тумаками.
– Что у них там? – заметил Курбский.
– А сиромашня! – вполголоса отвечал Коваль. – Это не дай Бог – самый бесшабашный народ.
– Чернь, значит?
– Вот, вот. Настоящие лыцари никого даром не обижают, разве что во хмелю. А сиромашне нечего терять; ну, и озорничает. Вот послушай-ка, послушай!
– Ах, вы, лапотники проклятые! – орали запорожцы. – Что толкаетесь! Нам только бы погулять, пройтись по базару…
– Нечего вам там прохаживаться, – отвечали базарные молодцы. – Поп в колокол, а вы за ковш.
– Да вам-то что за дело? Может, и товару какого купим.
– Вы-то купите? А где у вас гроши? На брюхе шелк, а в брюхе щелк.
– Что? Что? Ах, вы, лычаки! Пенька-дерюга!
– А вы – кармазины!
– Так вам за честь еще поговорить с нами. Кармазин – сукно красное, панское; стало, мы те же паны. А вашей братии красный цвет и носить-то заказано.
– Не жупан красит пана, а пан жупана. Цвета наши те же, что в мире Божием: небо – синее, мурава – зеленая, земля – бурая. Кому еще перед кем гордыба-чить. Проваливайте, панове, подобру-поздорову! Некогда нам с вами хороводиться.
– Хоть бы ясновельможного пана постыдились, – прибавил другой молодец указывая на подошедшего Курбского. – Как расскажет еще вашему куренному атаману… Оба запорожца только, кажется, заметили «ясновельможного пана». Как богатырский рост, так и благородная осанка и богатый наряд Курбского несколько охладили их задор.
– А начхать нам на куренного!.. – пробормотал один из них, переглядываясь с товарищем.
– Ужо, после обеда рассчитаемся! – пригрозил тот со своей стороны, и, молодецки заломив набекрень свои затасканные бараньи шапки с полинялым красным колпаком, оба повернули обратно к своему куреню.
– Что, небось, не задалось! – говорили вслед им базарные молодцы. – Хуже нет ворога лютого.
– Но ведь они только в шинок собирались? – заметил Курбский. – Хотя перед обедней оно, точно, негоже…
– А не слышал ты разве, мосьпане, что они грозились после обедни с нами рассчитаться?
– Ну, это только так к слову.
– То то, что нет. Они загодя уже, знать, хотели высмотреть на базаре, где что плохо лежит. Совсем как те оглашенные, про которых поп говорит в церкви: «Ходят вокруг подобно льву рыкающему, ищуще кого пожрати». Как только кончится рада, пойдет у них по всей Сечи пир горой. Ну, а сиромашня эта, разгулявшись, того и гляди, на крамный базар нагрянет, почнет шинки разбивать, а там и дома громить, лавки торговые. Вот мы тут пред радой денно нощно и стережем наше добро. Беда с ними, горе одно!
Тут со стороны внутреннего коша донеслись мерные звуки церковного благовеста.
– Даст Бог, на сей раз пронесет тучу, – сказал Курбский и, кивнув защитникам крамного базара, вместе со своим вожатым повернул назад, чтобы не пропустить церковной службы.
Глава семнадцатая
На раду!
Из всех куреней посыпались между тем на площадь сотни и тысячи запорожцев в праздничных нарядах и в полном вооружении, чтобы двинуться дружной толпой во внутренний кош, в сечевую церковь. А тут из кошевого куреня показалась и войсковая старшина со знаками своего звания: впереди кошевой атаман со своей булавой, за ним судья с серебряной печатью, за ним писарь с серебряной чернильницей, а за писарем – есаул с малой палицей.
«Боже милостивый! Ужели этот сгорбленный старец – сам Самойло Кошка, гроза татарвы и турок?» – подумал Курбский. Но сомнения не могло быть, и он ускоренным шагом подошел к сечевому начальству.
Мандрыка, выдвинувшись из ряда, представил его своим сотоварищам как полномочного посланца московского царевича Димитрия Ивановича.
Но Кошка глянул на него своими ввалившимися тусклыми глазами так безучастно, точно ничего не понял, и, не обмолвившись ни словом, поплелся далее.
Два другие члена старшины, судья Брызгаленко и есаул Воронько, оба – бравые казаки во цвете лет, обошлись с Курбским любезнее, сказав ему привычные приветствия; но обоим им, казалось, было также не по себе: ведь каждого из них предстоящая рада могла сместить вместе с атаманом.
Один только Мандрыка шел с высоко поднятой головой, кивал направо и налево опережавшим их казакам, словно говоря: «Без меня-то, други милые, вы так ли, сяк ли, не обойдетесь!» Курбскому же он оказывал полное внимание и в церкви предложил ему стать рядом с собой на почетном месте за «бокунами», где стояли обычно только члены старшины, между тем как остальное казачество заполнило плотными рядами всю середину храма.
От своего вожатого-молодика Курбский уже слышал, что сечевая церковь именуется собором Покрова Божьей Матери, как покровительницы запорожского войска; что церковную службу правят два иеромонаха: отец Филадельф и отец Никодим, призванные из Киевского Спасо-Преображенского Межигорского монастыря, в котором братия по всей Малой Руси строгим житием славится, и что дьякон, отец Аристарх, что твоя иерихонская труба, так и гремит.
От густых нот голосистого дьякона, действительно, стекла в церковных окнах дребезжали. Подстать дьякону был и хор певчих, которые, как шепотом сообщил Курбскому Мандрыка, обучались также чтению и пению в особой сечевой школе. Все прилагали возможные старания, чтобы новый атаман – на кого бы ни выпал выбор – остался доволен. В заздравной ектении провозглашались поименно (быть может, в последний уже раз) четыре члена настоящей сечевой старшины, а заупокойная ектения совершалась по павшим в бою казакам, имена которых считывал, стоя перед алтарем, дьякон с особой записной дощечки-лопаточки.
При этом взор Курбского остановился на иконописи над царскими вратами: в вышине был изображен сам Бог Саваоф, а по сторонам Его – два усатые воина в смушковых шапках и с казацкими саблями наголо. На вопрос: кто эти воины, он получил от Мандрыки ответ:
– А небесные воители: по правую сторону от Всевышнего архангел Гавриил, по левую – архистратиг Михаил.
– Но ведь они как будто в казачьих доспехах?
– Да как же им, скажи, лыцарям небесным, и охранять престол Божий, как не в лыцарских доспехах?
В это время отец Филадельф приступил к чтению Евангелия, и все присутствующее товариство забряцало своими саблями, которые обнажило до половины ножен.
– Это значит, – пояснил опять Мандрыка, – что за слово Божье войско наше всегда готово биться с неверными на жизнь и смерть.
Служба кончилась, и все товариство рассеялось по куреням, чтобы подкрепиться еще раз до рады, которая могла дотянуться до вечера, а то до другого дня. Курбский был приглашен к столу в кошевой курень. К недоумению его все куда-то вдруг скрылись, оставив его одного.
– А где же хозяева? – спросил он Савку Коваля, подвернувшегося опять к его услугам.
– К обеду переодеваются.
Каково же было удивление Курбского, когда возвратившиеся члены старшины, точно так же как и столовавшие вместе с ними войсковая канцелярия и нижние служители появились в своей затасканной обыденной одежде! Оказалось, что к обеденному столу все войско, даже в высокоторжественные дни, заменяло свое праздничное платье будничным.
Трапеза состояла из нескольких перемен, которые запивались, разумеется, всякими питьями. Тем не менее, настоящего оживления не замечалось: присутствие угрюмого молчаливого атамана замыкало всем уста, и только судья да писарь поддерживали разговор.
Вот были убраны со стола и остатки «заедков»; одна лишь круговая чаша продолжала обходить трапезующих; но старик Кошка по-прежнему сидел сычом не то в раздумье, не то в забытье.
Мандрыка вопросительно переглянулся с двумя другими членами старшины, затем тронул за плечо атамана и шепнул ему что-то. Тут только бедный Кошка точно очнулся от тяжелого сна и с недоумением обвел всех глазами.
– А? Что ты говоришь? Раду?
– Да, ваша вельможность, не пора ли?
– Пора, верно…
И, встрепенувшись, он крикнул довольно уже громко:
– Ударить на раду!
Сидевший на конце стола довбыш (барабанщик) ожидал только этого приказа: еще перед последним блюдом он успел нарядиться в свое парадное платье и теперь опрометью бросился из дверей.
– Прости за спрос, пане добродию, – отнесся Курбский к Мандрыке, – меня, человека постороннего, не пустят, пожалуй, на раду?
– Гм… на площадь-то нет. Не взыщи. Но коли тебе в охоту поглядеть на нашу раду, то полезай с Савкой на колокольню: оттоле вся сечевая площадь как на ладони.
В это время из-за открытых настежь окон в сечевой площади забила мелкая дробь литавр.
– Это первый знак к раде, – сказал Курбскому Савка Коваль. – Идем-ка, идем скорее, пока вдругорядь не ударили.







