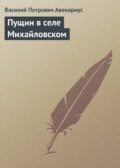Василий Авенариус
На Москву!
Глава одиннадцатая
Перед царем Борисом Годуновым
Под гостеприимным кровом Биркиных, на мягких пуховиках, взбитых при личном участии заботливой хозяйки, спалось Курбскому куда покойнее и слаще, чем на постоялых дворах или просто в санях; а потому, несмотря на свою сердечную кручину, он с дальней дороги заспался до позднего утра. Когда он кончал уже одеваться, к нему постучались в дверь.
– Кто там? – спросил Курбский.
– Скоро ли ты выйдешь, князь? – послышался в ответ голос Ивана Марковича.
– А что?
– К тебе боярин от самого царя.
– Так я и ждал! Сейчас, скажи, выйду.
– Да ты с ним не больно-то того… Ведь знаешь ли, кто этот боярин?
– Кто?
– Сам князь Шуйский Василий Иванович!
«М-да! С этим держи ухо востро. Он и у Грозного царя, слышь, был в большой милости, у царя Федора же хоть и попал в опалу, да у Годунова опять укрепился. Он же, ведь, делал на месте в Угличе розыск об убиении царевича Димитрия; ему, значит, ближе, чем кому-либо другому, ведомо, что убийцы второпях, заместо царевича, закололи одного из его жильцов (пажей); но раз Димитрий скрылся, надо было замести и след, – и хитрец его замел. Посмотрим, каков-то он, как себя теперь поведет?»
В воображении Курбского рисовался высокий старик с колючими глазами, но с вкрадчивой улыбкой. И что же? Навстречу ему поднялся с лавки приземистый, полный мужчина средних еще лет, сурового вида и куда невзрачный. Только богатая «турская» шуба и высокая «горлатная» шапка (из меха горла пушных зверей), которых тот так и не снял, свидетельствовали о его знатном происхождении, а в его подслеповатых, с кровяными жилками, глазах лишь изредка, как бы невзначай, вспыхивал скрытый огонек, выдававший сильный ум, сильную энергию.
Чуть-чуть кивнув головой в ответ на вежливый поклон Курбского, Шуйский прямо заявил, что прислан он от всемилостивейшего государя своего, чтобы принять грамоту того человека, что облыжно именует себя царевичем Димитрием.
Курбскому стоило немалого самообладания, чтобы ответить с должной сдержанностью:
– Не взыщи, боярин, но такова воля царевича Димитрия Ивановича, чтобы грамоту его я передал из рук в руки самому царю Борису Федоровичу.
– То воля твоего царевича, но воля моего царя иная, а у нас на Москве никакой иной воли, помимо царской, не положено.
– Для подданных царя Бориса, точно; но для полномочных послов еще выше воля их монархов.
– Хотя бы таковой монарх и был из беглых монахов?
Но едва лишь Шуйский произнес это, как весь съежился и помертвел, потому что стоявший передним молодой исполин, превышавший его двумя головами, прикрикнул на него громовым голосом:
– Ой, берегись, боярин! Сдержи свой дерзкий язык! Коли не ты, так царь твой Борис хорошо знает, что мой царевич – не беглый монах, а истинный сын царя Ивана Васильевича, спасенный Всеблагим Промыслом от наемных убийц. Это столь же верно, как и то, что я – князь Курбский, сын первого сподвижника его родителя. И горе тебе, боярин, когда царевич мой воссядет на прародительский престол! А раньше ли, позже ли это, верь мне, совершится, и сам ты тогда, как червь, приползешь к его стопам.
Опытный царедворец успел уже оправиться и, не возвышая голоса, отвечал холодно и с достоинством:
– Что ты сын Андрея Михайловича Курбского – я охотно тебе верю. Некогда я не токмо знал его, но и дружил с ним, пока он не пошел своей дорогой, и в память этой-то дружбы, а также ради твоей юности, – прости тебя Бог. Твоих горячих слов я словно бы и не слышал. Так что же, грамоты к царю Борису Федоровичу ты мне так и не отдашь?
– Не могу отдать, боярин, прости, хоть бы и рад был.
– Твое дело. А допустит ли еще государь тебя до своих очей – зело сумнительно. И придется тебе, чего доброго, отъехать вспять ни с чем.
– Не допустит до себя, так на свою же голову! – воскликнул Курбский.
– Тише, тише, князь! Ты все, поди, забываешь, что мы здесь не в Кракове у ляхов, а в первопрестольном граде русского царя. Доложу я государю о твоем отказе; что он порешит – о том тебя в свое время оповестят. А дотоле не изволь-ка выходить за порог дома.
– Но мне по собственному делу неотложно нужно!..
– Мало ли что кому нужно! Да коли таков приказ царский? Его же не перейти.
Старший Биркин, в качестве хозяина, выжидал выхода именитого посетителя в прихожей и с униженными поклонами проводил его до возка, а проводив, влетел в светлицу к Курбскому.
– Помилуй, князь, что ты с нами делаешь? Мы тебя приютили, пригрели, а ты этакому-то вельможе у нас же в доме согрубил! Из-за двери мы с братом все ведь слышали.
– Да, милый князь, не ждали мы от тебя, не ждали! – поддержал вошедший вслед за братом Степан Маркович. – Теперича нас, того и гляди, спровадят из Москвы куда Макар телят не гонял.
– А добро наше в казну отберут, – подхватил опять Иван Маркович, и напустился вдруг на младшего брата. – А все ты, брат Степан, все ты: «породнимся, мол, с родовитым князем, – самих нас за собой в дворянство вытянет». Вот тебе и породнились! Вот тебе и дворянство!
Разгоряченного крупным разговором с царским посланцем Курбского как холодной водой окатило. Оба дяди Маруси, очевидно, оказывали ему до сих пор такое расположение не столько даже из-за своей племянницы, сколько из-за своих личных, честолюбивых расчетов. Но, ради Маруси, он готов был все это забыть.
– Мне самому крайне прискорбно, что через меня тебе, Иван Маркыч, столько беспокойства, – сказал он. – Но не тревожь себя попусту. И тебя и Степана Маркыча я во всем обелю. Шуйский – человек большого ума и должен понять, что с царевичем моим не шутки шутить. Не нынче, так завтра, помяни мое слово, он опять пожалует звать меня прямо во дворец.
Говорил это Курбский так уверенно, что оба Биркина снова приободрились. Когда он тут еще заявил, что, как только ему будет дозволено выйти за ворота, он первым делом поищет себе другого пристанища, радушного вообще хозяина как будто и совесть зазрела.
– Ну, что ж, поживешь у нас еще день другой – не беда, – сказал он. – Семь бед – один ответ.
– Да и беды, даст Бог, никакой не будет, – подхватил младший брат. – А примут тебя во дворце как заправского посла, так наша взяла.
– И самому тебе, послу, будет тогда посольский почет, – добавил Иван Маркович. – Помнишь ли еще, брат Степан, как при царе Федоре Ивановиче прибыло к нам в Москву посольство из неметчины?
И оба брата принялись с одушевлением, наперерыв, вспоминать о въезде немецкого посольства: навстречу послам выехали-де за город два пристава со стрельцами и за двадцать шагов вышли из саней и сняли шапки; то же самое сделали оба посла и выслушали, с непокрытой на морозе головой, приветствия сперва одного пристава, потом другого и, наконец, царского конюшего. Этот предложил послам двух бесподобных белых коней с богатейшей сбруей, а чинам посольства двенадцать других коней; после чего все двинулись в город чинным порядком: впереди двадцать четыре конных стрельца, за ними посольские чины, по три в ряд, за этими трубачи с серебряными трубами, а за трубачами оба посла и по обе руки их – пристава. От самых городских ворот до посольского дома по всем улицам были выстроены два ряда стрельцов. А народу-то, ротозеев, видимо-невидимо… Вот почет, так почет!
Хотя розовые надежды братьев Биркиных и не оправдались, но ожидание не совсем-таки обмануло Курбского. На следующее утро за ним были присланы придворные сани; упряжные кони были рослые, в богатой сбруе, полость была пышная, медвежья, а впереди бежали два скорохода, но тем и ограничился весь почет. Звать Курбского во дворец прибыл теперь уже не боярин, а молоденький боярский сын, Андрей Васильевич Бутурлин. Выказывая такое пренебрежение к посланцу названного царевича Димитрия, Годунов не принял одного в расчет – молодости Бутурлина. Юноша невольно поддался обаянию светлой личности Курбского. Когда кони понесли их по направлению к Кремлю, Бутурлин, чтобы изгладить перед приезжим первое невыгодное впечатление от Москвы, принялся с особенным усердием выхваливать ему все достопримечательности Белокаменной. И вдруг, совершенно неожиданно, спросил его, понижая голос, чтобы кучер не расслышал:
– А что, князь, прости за спрос, ты никогда еще не видал нашего царя?
– Нет, не довелось, – отвечал Курбский, – но много об нем наслышан.
– Что же ты слышал?
– Слышал, что муж он многомудрый, радеет о державе своей, о народе.
– Вот, вот! – радостно подхватил Бутурлин. – Сколько дивного творил он для прославления Руси, сколько добра для народа!
– А все не в прок, – возразил Курбский, – народ все-таки ропщет, клянет Годунова…
– Потому что меж бояр есть у него недруги-завистники, что мутят народ.
– А чем он нажил себе этих недругов? Тем, что ко властолюбию ненасытен, сердцем черств, безжалостен…
– О, нет! Для добрых он и доселе добр; а уж в детях своих: царевиче Федоре да царевне Ксении, просто души не чает; сам обучает их, особливо царевича, всякой книжной премудрости, чтобы было на кого оставить престол свой.
– Ну, этому никогда не бывать! – прервал Курбский. – Этого Господь не попустит!
Бутурлин испуганно взглянул на него со стороны; но, встретив его открытый, честный взгляд, заметил:
– Ты, князь, я вижу, крепко любишь того, от кого прислан; а я еще крепче, может, люблю царя Бориса. О, кабы и тебе его так полюбить, утвердиться при нем!
– Об этом, Андрей Васильич, и разговору быть не может; ты поймешь, разумеется…
– Понимаю, князь, отлично понимаю, а все-таки так, право, жаль… И боюсь я за тебя!
– Да слишком уж ты прямодушен, всякому в лицо правду режешь. Как раз накличешь еще на себя немилость царскую. Козни боярские, нечего таить, ожесточили царя; чает он измену везде, даже там, где ее нет. Остерегись же, Бога ради, в речах своих, не перечь ему!
– Хорошо, хорошо, остерегусь, – улыбнулся в ответ Курбский, которого не могло не тронуть такое теплое участие к нему юноши, видевшего его первый раз в жизни.
И вот они во дворце, и рядом палат проходят в престольную палату. Несмотря на свою возбужденность при входе в эту палату, Курбский вскользь не мог не заметить ее богатого убранства: стены были затейливо расписаны, а пол устлан дорогими коврами. В глубине палаты, под образом Богоматери, сделанным мозаикой из самоцветных каменьев, на возвышении в несколько ступеней, обитом алым бархатом, восседал на троне, в порфире и мономаховом венце, со скипетром в руке, сам царь Борис. Около трона, слева, виднелись на серебряном решетчатом столике держава с крестом, а на столике поменьше – золотая умывальница с расшитым полотенцем. По сторонам трона стояли четыре (по два с каждой стороны) молодых рынд (телохранителей) в белых бархатных кафтанах с горностаевой опушкой, в высоких рысьих шапках, с нагрудными золотыми цепями и с серебряными секирами на плече. Хотя Годунову, как знал Курбский, было уже пятьдесят три года, но на вид он был еще очень бодр, сановит и красив, а торжественная обстановка придавала ему еще большую величавость и мужественную красоту.
Рядом с царем сидел такой же красивый, белолицый и черноглазый, полного сложения отрок в парчовой одежде с непокрытой головой: по семейному сходству с Борисом, в нем нельзя было не признать его сына, царевича Федора[3]; по стенам же кругом, также на уступах, но пониже, сидели на скамьях бояре и окольничие в роскошной одежде из золотой и персидской ткани.
При появлении Курбского, взоры всех присутствующих разом обратились на входящего. Один царь только, казалось, не приметил его и протянул руку к сыну, чтобы взять у него из рук какой-то большой лист. Водя по листу перстом, Годунов начал задавать царевичу вопросы. По долетавшим до Курбского отдельным названиям: «Мурманское море», «Великий Новгород», «Литва», он догадался, что то была географическая карта.

– И все это, сын мой, ты сам начертал? – явственно донесся теперь голос царя.
– Сам, царь-батюшка, – прозвенел ответ царственного отрока.
– Теперь я, стало быть, могу умереть спокойно; у меня есть преемник, знающий свой край[4].
«Он хочет принизить во мне моего царевича перед всеми Царедворцами!» – ударило в голову Курбского, и, забыв уже о придворных обрядностях, которыми обставлен всякий подобный прием, он без приглашения сделал несколько шагов вперед. Такая бестактная смелость видимо озадачила самого Годунова. Он окинул смельчака хмурым, огненным взглядом. Этот его орлиный взгляд и поистине царственная осанка, вместе со всем окружающим величием царского сана, смутили Курбского. Отвесив поклон, он с ненужной торопливостью, захватывавшею дух, произнес обычную формулу приветствия от имени своего царевича; после чего, подойдя к самому трону, с новым поклоном хотел вручить Годунову грамоту царевича – большой пергаментный свиток, завязанный шелковым шнуром и припечатанный сургучной печатью. Никто раньше не догадался предупредить его, что самому царю на Руси из рук в руки даже признанные иноземные послы ничего передавать не в праве, а потому Курбский счел опять знаком пренебрежения со стороны царя что тот обратился к сидевшему с краю старшему боярину:
– Прими-ка, князь Василий Иванович, и прочитай нам.
То был вчерашний посетитель Курбского, князь Василий Иванович Шуйский. Приняв свиток, Шуйский не спеша снял печать, развязал шнур, развернул свиток и стал затем читать его, читать громко, внятно и бесстрастно. Но вот и его голос, вполне, казалось, ему послушный, заметно дрогнул. Да и было от чего! Его устами, великому государю его, Борису Федоровичу, в присутствии всей боярской думы, во всеуслышанье говорились такие продерзостные речи:
«… Жаль нам, что ты душу свою, по образу Божию сотворенную, так осквернил, и в упорстве своем гибель ей готовишь; разве не знаешь, что ты смертный человек? Надобно было тебе, Борис, удовольствоваться тем, что Господь Бог дал; но ты, в противность воле Божией, будучи нашим подданным, украл у нас государство с дьявольской помощью…»
Далее перечислялись преследования, которым со стороны Годунова подверглись все приверженцы прежнего царского рода, а потом описывалось, как он «начал острить нож» и на младенца-царевича Димитрия, и как тот был спасен «по старанию» приставленного к нему врача Симеона.
Заканчивалось послание новым увещеванием:
«Опомнись и злостью своей не побуждай нас к большему гневу. Отдай нам наше, и мы тебе, для Бога, отпустим все твои вины и место тебе спокойное назначим. Лучше тебе на этом свете что-нибудь претерпеть, чем в аду вечно гореть за столько душ, тобой погубленных»[5].
По мере чтения Шуйским этой жестокой отповеди, облако на челе Годунова все более сгущалось, а взоры его, прикованные к губам чтеца, метали молнии. Но всякий раз, когда Шуйский запинался И вопросительно взглядывал на него, царь кивал головой, чтобы он продолжал.
«Хочет ли он до дна испить горькую чашу, – говорил себе, наблюдая за ним, Курбский, – или же, в безграничной гордыне своей, хочет показать и мне, и своим боярам, что он неколебим, как утес среди всяких бурь?»
– Все? – спросил Годунов, когда чтец умолк. – Подай сюда.
И, взяв у него грамоту, он изорвал ее вдоль и поперек, обрывки же смял в комок и комком бросил к ногам Курбского.
– Вот мой ответ!
Вступая, перед тем, в престольную палату, Курбский повторил про себя благоразумное предостережение Бутурлина – не раздражать царя, не перечить. Но теперь, когда грамота царевича Димитрия не только не возымела никакого успеха, но перед всей боярской думой подверглась такому поруганию, кровь хлынула ему в голову, и он вне себя крикнул:
– Государь! Это тебе так не пройдет…
Он прибавил бы, пожалуй, еще много неподобающего, не укажи на него Годунов своим телохранителям:
– Убрать его!
Те кинулись исполнить царскую волю. Курбский уже опомнился и без сопротивления отдался в их власть. Но тут, ко всеобщему изумлению, заговорил царевич Федор, этот безгласный в присутствии родителя, шестнадцатилетний отрок.
– Царь-батюшка! Коли он забылся, так от тяжкой обиды за того, кем прислан…
И, наклонясь еще ближе к отцу, царевич стал ему что-то нашептывать, умоляюще сложив руки. Борьба оскорбленного величия и нежного родительского чувства продолжалась недолго: последнее взяло верх.
– Оставьте его! – приказал Борис рындам, а затем отнесся к Курбскому, – на сей раз, князь, так и быть, тебе это не зачтется. Правду молвил царевич, что твоими устами говорил не ты сам, а приславший тебя. Его же вина, что прислал он ко мне не зрелого мужа, а молодчика, у коего, что на душе, то и на языке. Иди с миром, и да послужит тебе это вперед наукой.
Сознавая сам, что в своей обиде за царевича он хватил через край, Курбский, как провинившийся мальчик, потупил глаза в пол.
– А ответной грамоты не будет? – спросил он.
Годунов переглянулся опять со своим сыном и наследником и, вместо прямого отказа, отозвался неопределенно:
– Первым делом отдохни от пути. Ведь в Москве у нас ты впервой?
– Впервой, государь.
– И на Иване Великом нашем еще не побывал?
– Нет.
– Так вот поднимись-ка туда: увидишь, какова наша Первопрестольная.
Прием, очевидно, был кончен. Курбский откланялся уставным поклоном и, не чуя ног под собой, выбрался вон.
Глава двенадцатая
Медвежья яма
– Ну, князь Михайло Андреич, милостив же твой Бог! – тихонько заметил Курбскому молодой Бутурлин, когда они спускались с Красного крыльца. – Не вступись царевич, по тебе бы хоть панихиду служи. А что, и впрямь, не подняться ли нам сейчас на Ивана Великого?
– А туда недалеко? – спросил Курбский.
– Да вон же он перед нами. Благо, мы раз в Кремле…
Не прошло десяти минут, как оба были уже на исполинской колокольне под самыми колоколами. На все четыре стороны открывался обширнейший кругозор. У Курбского просто глаза разбежались. Да! Отсюда, с высоты птичьего лета, Москва представлялась совсем иной, чем внизу, промеж домов и заборов. Все, что пряталось там за заборами, что заслонялось домами, раскинулось здесь воочию, как на ладони. Бесчисленным крышам и церковным куполам, среди опушенных инеем густых садов, конца-края не видать; только зубчатые каменные стены с башнями отделяют разные части города одну от другой, да Москва-река широкой лентой извивается, охватывая полукругом Стрелецкую слободу.
Долго любовался Курбский молча, пока не выразил своего чувства в одном слове:
– Красота!
– Не правда ли? – оживленно подхватил его юный спутник. – Не даром государю люб этот Иванов столп: ведь по его же, государеву, велению выстроена эта громада в голодные годы, чтобы бедному люду была работа. Да теперь-то что! Зима – все в снегу. А вот посмотрел бы ты летом, когда все сады зелены, крыши красны, а золотые кресты да главы церковные на солнце как жар горят!
– Церквей и то ведь – считай – не сосчитаешь, – заметил Курбский, – есть где помолиться православным!
– Да ведь про Москву нашу так и слава идет, что церквей у нас сорок сороков. Будет ли столько – кто их считал? А близко, надо быть[6]. Вот хоть бы тут в Кремле…
И Бутурлин, войдя в свою роль проводника, начал перечислять кремлевские монастыри и соборы, с надлежащими комментариями, как например, что в Вознесенском монастыре погребаются царицы; а затем, кстати, указал и разные другие здания: дворы боярские (трех Годуновых: Симона, Димитрия и Григория, Мстиславского, Вельского, Шереметева, Сицкого, Клешнина), старый двор самого царя Бориса (того времени, когда он был еще правителем при царе Федоре), дворы: патриарший, оружейный и казенный (казнохранилище царево), посольский приказ, судебные приказы…
Между тем на вышке Ивана Великого, открытой всем ветрам, наших двух молодых собеседников зимнею стужей порядком-таки прохватило. У Курбского, давно закаленного против всякой непогоды, от морозной сиверки теперь только лицо разгорелось; словоохотливый же спутник его успел уже охрипнуть и в заключение раскашлялся.
– Из-за меня ты, Андрей Васильич, чего доброго, еще простуду себе наживешь, – сказал Курбский. – Довольно мы тут нагляделись.
– Одного я тебе только не показал, – отвечал Бутурлин. – Вон, видишь ли, на Москве-реке снежная горка, где народ толпится?
– Вижу.
– Так там у нас медвежья яма. На последней охоте у Шереметева захватили, вишь, живьем медведицу с медвежатами. Шереметев прислал их во дворец для царского стола; а государь, чтобы народ позабавить, велел соорудить для них на льду логово, да кругом его, вроде как бы горки, завалить снегом. Ну, народ туда так валом и валит.
– Да ведь зимой медведи больше спят, – не добудишься.
– Медведица и то носу не кажет; в медвежатах же ее кровь молодая играет; а народ им еще покой не дает; и дразнит-то и бросает разное съестное. Знаешь что, князь: заедем-ка сейчас туда? Посмотришь тоже: потеха!
Курбский уже не возражал, и, спустившись с колокольни, они велели кучеру везти их на Москву-реку к медвежьей яме. Здесь, на вершине невысокого снежного холма, вокруг ямы, скучились живой стеной любопытные обоего пола. Но то были одни простолюдины, которые, при виде наших двух боярских сыновей, тотчас почтительно расступились. Так оба, без всякого затруднения, подошли к самому краю ямы, огороженной деревянными перилами. Тут Курбский к удивлению своему увидел в числе зрителей и своего казачка, Петруся Коваля.
– Как ты сюда попал?
Петрусь раньше у него не отпросился и потому слегка смешался.
– Уж очень много Биркинские люди наболтали мне про этих медвежат, – поспешил он оправдаться, – а я не чаял, что ты так скоро возвратишься из дворца… Не погневись, княже! Сейчас лечу домой…
– Ладно, – сказал Курбский. – Раз ты уже здесь, так оставайся.
Притихшая было кругом толпа, видя такое благодушие молодого князя, пришла опять в движение и принялась кидать в яму кусочки хлеба. На дне ямы копошилось четверо медвежат. Стоя на задних лапах, с поднятой кверху мордой, каждый из них норовил поймать добычу налету. Но это редко кому из них удавалось: остальные трое отмахивали лапой кусок перед самым носом у счастливца, и тогда все четверо, сердито ворча, валились кубарями друг на друга, – к немалому, конечно, удовольствию зрителей, разражавшихся всякий раз дружным хохотом.
Особенно забавлялась этим одна толстуха, судя по холеному лицу – кровь с молоком, и по беличьей шубке – из купчих. В руках у нее был целый каравай ситного хлеба, от которого она отламывала для медвежат кусочек за кусочком.
– Да полно тебе, тетка, зря бросать-то! – укорил ее сосед, тщедушный мужичонка в рваном тулупе. – Дай взлезть которому-либо на колесо; ну, тогда и корми на здоровье: заработал.
Разумел же он колесо, утвержденное на вершине древесного ствола с обрубками ветвей, возвышавшегося из середины ямы до самых перил.
– Так вот для тебя, вохляка, и полезут! – окрысилась купчиха.
– Для меня-то и полезут: старые знакомые.
– Поздравляю! Где ж вы познакомились?
– В берлоге.
– О!
– Верно тебе говорю.
– В их собственной берлоге?
– А ты думала, в твоей?
Дешевая острота пришлась по вкусу серой толпе и даже самой купчихе. Что же до Курбского, то он (как припомнят, может быть, читавшие нашу повесть «Три венца») прожил простым полещуком более года в Полесье и не раз ходил также на медведя, а потому заинтересовался самим мужичком.
– Ты, любезный, что же, верно из Шереметевских? – спросил он.
Мужичок снял шапку и отвечал, что, точно, из Шереметевских.
– Медвежатник?
– Хошь и не медвежатник (много чести!), а все ж из загонщиков.
Говоря так, он приглаживал ладонью редкие волосы на макушке, которые раздувало порывистым ветром.
– Накройся-ка, – сказал ему Курбский, – ветер, вишь, какой холодный.
– Ничего, господин честной, и так постоим.
– Накройся, – еще настоятельнее повторил Курбский и начал затем расспрашивать о последней медвежьей охоте.
Поощренный таким вниманием, загонщик разговорился. Говорил он не очень-то складно и пустился в излишние еще подробности о том, как ночевали они, загонщики, в лесной сторожке с поленом под головой заместо подушки; как подкрепились чарочкой зелена вина да закусили корочкой хлебца; как под утро разыгралась вьюга и замела медвежий след; как увязли они по пояс в рыхлом снегу и как наконец-то уж добрались до берлоги зверя, где он залег крепко.
– Зверя? – переспросила купчиха. – Да ведь ты говорил все про медведицу с медвежатами?
Загонщик снисходительно усмехнулся.
– А медведица, по-твоему, нешто не зверь?
– Зверь – сам медведь…
– А жена его – звериха?
– Ну тебя, зубоскал! Да живьем-то вы как ее взяли?
– Есть у нас один такой медвежатник, Вавилой звать, самого черта, поди, не испугается. Взял он, это, из костра головню – только искры сыплются – и полез к ней ползком в гости, в самую берлогу.
– Вот бесстрашный! Ну, а она что же?
– Старуха-то? Спит, знамо, своей зимней спячкой, во сне лапу сосет, а около жмутся ее ребятки-медвежата. Ткнул он ей тут горящей головней прямо в морду, – хошь не хошь, проснулась, да как заревет благим матом!
– Ай, страсти какие! Ну и что же? Накинулась на твоего Вавилу?
– Зубами-то сама на него щелкает, а чтобы тронуть – ни-ни! Он же долго тоже растабаривать с нею не стал, хвать за загривок одного медвежонка, да по-рачьи опять назад к выходу. Выполз здрав и невредим.
– Но она-то, мать родная, чего смотрела? Без бою, так и отдала свое детище?
– Да коли перед мордой тебе этакой головней машут, так, небось, не полезешь в драку.
– И совсем не вылезла из берлоги?
– Вылезла. Да мы-то, прочие, стояли уж наготове, всей гурьбой на нее навалились, живой рукой связали. Одному, правда, изрядно тут от нее попало: вместе с шапкой ему и кожу с черепа сняла…
– Царица Небесная! Да я теперича со страху, хоть золотом меня осыпь, не пойду уже в лес!
– Пойди, тетка, сделай такую милость! Тебя там только и недоставало.
Новый взрыв хохота окружающих наградил остроумца, разобиженная же «тетка» плюнула и надулась.
– А тебе, князь, случалось тоже охотиться на медведя? – спросил Бутурлин Курбского.
– Сколько раз, – отвечал Курбский. – У нас ведь на Литве, в Полесье, красному зверю самый вод, и нашим панам нет лучше потехи, как этакая звериная облава, либо травля. Но самому-то мне, признаться, более по душе идти на медведя, да и на кабана, один на один.
– Но это ведь куда опасней?
– Вот потому-то мне и любо. Это не простая бойня, а настоящий бой, где можно помериться силами.
Бутурлин взглянул на говорящего с удивлением и восхищением.
– И с каким оружием ты шел в этакий бой? – спросил он. – Только с самопалом?
– Ходил и с самопалом, но чаще того с шибнем.
– А это что за штука?
– Шибень – короткое копье о двух железных концах, а то и просто деревянная палица с обожженными концами.
– Шибнем-то что! – заметил тут загонщик с важностью бывалого охотника. – А вот, поди-ко-сь, возьми медведя, как наш брат, голыми руками!
Самохвальство слабосильного на вид мужичонки вызвало у Курбского только улыбку; Петрусь же счел долгом огрызнуться за своего господина.
– Храбер ты, братику, поколе самому ребер не поломали! И медвежонка-то, поди, не посмеешь пальцем тронуть!
– Я-то?
– Да, ты.
– Медвежонка?
– Медвежонка. А хочешь показать свою прыть, так полезай к ним сейчас в яму.
– Зачем я к ним полезу? – отозвался храбрец тоном значительно уже ниже, не без опаски заглядывая в глубину. – Медвежата – те же щенки; охота мне с ними возжаться!
– Есть там про тебя и мать-медведица; только спит, в снегу зарылась.
– Так чего ее, старуху, будить-то? Пущай дрыхнет! Бутурлина, не менее других, забавляли неудачные увертки загонщика.
– Экой ты сердобольный! – сказал он. – Даром лезть туда, понятно, кому охота. А вот, коли я дам тебе рублик заработать…
С этими словами юноша достал из кармана кошель, а из кошеля новенький серебряный рубль. Соблазн для бедняка-мужика был не малый; а насмешки окружающих еще более его подзадоривали.
– Ну, давай уж сюда! – решился он, наконец, и потянулся за рублем.
– Нет, любезный, сперва заработай.
– Правда! Когда ж за работу вперед платят? – раздались кругом одобрительные голоса.
– Вперед все вернее…
– А не веришь, так изволь: доставай сам! – сказал Бутурлин и бросил монету в яму к медвежатам.
Те долго уже понапрасну ожидали новых подачек; теперь все четверо разом накинулись на монету, и одному из них, действительно, удалось схватить ее зубами. Но она не пришлась ему, видно, по вкусу: он тотчас выпустил ее изо рта. После этого и остальные, один за другим, обнюхали блестевший на снегу кружок, но, не менее разочарованные, оставили его также лежать.
– Ну, что же? – спросил Бутурлин хвастуна-мужичонку, который в раздумье почесывал в затылке.
– Эх, горе-богатырь! – снова поднял его на смех Петрусь. – Воевать тебе на печи с тараканами!
– Посмотрел бы я, как ты сам полез бы! – проворчал тот сквозь зубы.
– А что же ты думаешь: не полезу?
– Ну, и полезай!
– И полезу.
Прежде чем Курбский мог задержать не в меру шустрого казачка, этот махнул уже через перила к древесному стволу, возвышавшемуся, как сказано, из середины ямы. Схватившись сперва за верхушечное колесо, он по обрубкам ветвей спустился на самое дно ямы. Медвежата, совершенно неприготовленные к такому визиту, сами до того перепугались, что Петрусь мог преспокойно поднять с земли монету. Но ему, удалому сыну Запорожья, такой легкой победы было мало. Схватив двух медвежат за шиворот, он стукнул их головами, потом сделал то же с двумя другими и свалил их в одну кучу с первыми. Медвежата были до того ошеломлены и раззадорены, что, забыв уже про своего общего врага, сцепились меж собой и принялись тузить друг друга.
– Важно! – поощрил их Петрусь. – А где же ваша мама?
Тут только заметил он вход в самодельное логовище медведицы, откуда выставлялась мохнатая голова, уткнувшись мордой в передние лапы.
– Гай, гай, мамо! – сказал он. – Детки дерутся, ажио чубы трясутся, а она хоть бы что. Стыдися, стара, проснися!
Сопровождавший эти слова пинок был так убедителен, что спящая сразу очнулась и угрожающе зарычала. Но озорник наш не стал дожидаться более убедительного ответа. Когда он теперь появился опять на верхушечном колесе и оттуда перемахнул обратно к перилам, то был встречен единодушными похвалами:
– Ну, уж хват! Мал, да удал! В одно ухо влезет, в другое выскачет!
Всем он угодил, одному лишь нет – мужичонке-загонщику: очень уж досадно тому было, что этакий молокосос осрамил его перед всем честным народом, да еще рубль в карман положил.
– Эка невидаль! – сказал он. – И мой же рубль еще себе забрал!
– Так чего ж ты сам-то зевал? – спросил Бутурлин. – Но коли тебе так уж жалко…
– Знамо, жалко!
– То я, так и быть, еще рубль брошу. Бросать, что ли?
– Бросай.
– Не будет ли, Андрей Васильич? – вмешался тут Курбский. – Не дай Бог, еще сорвется вниз…
– Я-то сорвусь? – вскинулся мужичонка. – Бросай! Второй такой же рубль упал в яму. Отдав свою шапку на сохранение соседу, загонщик, не без ловкости, перекинулся также через перила. До колеса же он не допрыгнул и полетел с вышины прямо к медвежатам.