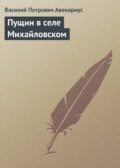Василий Авенариус
На Москву!
Глава двадцатая
Дорогие гости
«Счастливые часов не наблюдают». Молодые супруги Курбские были из числа таких счастливцев. Месяц проходил за месяцем, а они, как засели в своем Марусино, так и не трогались уже оттуда. Усадьба была сильно запущена; про крестьянские дворы и говорить нечего: где крыша протекла, где двери и окна покосились, где стены были подперты жердями и, того гляди, могли рухнуть. И вот, лишь только были справлены осенние полевые работы, как и в усадьбе и в деревне застучали топоры, завизжали пилы, чтобы всем-то устроить приютное жилье. Но сквозь этот хаотический визг, стук и грохот звенели веселые песни, звучал здоровый смех трудящихся, и для слуха и сердца молодых господ эта простая музыка труда была куда слаще сложной гармонии заморских скрипиц, флейт и барабанов. Труд был здесь ведь не подневольный, и в этих песнях, в этом смехе изливалось довольство крестьян своим делом, своими новыми господами. По вечерам же, в угоду молодой княгине, деревенская молодежь заводила разные игры и хороводы. И как же было ее, голубушку, не потешить, когда она не гнушалась заговаривать с самой бедной старушонкой, у всякой бабы, всякой девушки выведывала, в чем кому нужда, а потом всякого наделяла чем нужно. Недаром ее теперь и величали-то не иначе, как «нашей княгинюшкой».
Всех более, однако, славила ее одна почтенная старушка, Маланья Седельникова, мать того молодого стрельца-знаменщика, Прокопа Седельникова, которого (как припомнят, может быть, читатели) Курбский нашел умирающим в лазарете под Новгородом-Северским. По пути из Москвы в Марусино, при остановке в одном селе, Курбский случайно услышал название этого села – Вяземы. Тут, как воочию, предстал перед ним опять распростертый на соломе, умирающий стрелец, живо вспомнилась его предсмертная просьба: буде ему, Курбскому, доведется раз быть под Москвою, в селе Вяземах, то навестил бы его мать-старуху, поклонился бы ей от имени сына, но, Боже упаси, не говорил бы ей, как он, бедняга, мучился перед кончиной, а сказал бы только, что он пал в честном бою на поле брани. И Курбский исполнил теперь его просьбу. Зашедшая в лачугу к старушке вместе с мужем Маруся так ее обласкала, что сразу заворожила, заполонила ее скорбящее материнское сердце. Узнав, что у одинокой бедной Маланьи нет в деревне никакой родни, Курбские тут же выкупили ее у ее господ и взяли с собой к себе в Марусино. Когда же ей здесь была еще предоставлена почетная должность птичницы – старушка про своего «ангела Небесного» княгинюшку говорила уже не иначе, как с благоговейным восторгом.
О том, что между тем происходило в Москве, до Курбских доходили, конечно слухи, но слухи отрывочные и не всегда достоверные. Так слышали они, например, что на место прежнего мрачного Борисова дворца, срытого до основания, возводился новый, иноземного образца, пышный и светлый дворец, в котором одна половина назначается для самого царя, а другая для его нареченной невесты, будущей царицы Марины; что опальные при Годунове бояре Нагие и Романовы возвращены в Москву, причем Федор Никитич Романов, принявший в монашестве имя Филарета, отказался снять клобук и возведен в митрополиты ростовские и ярославские; что злейшие враги царя, родственники Годунова, не только помилованы, но некоторые из них пожалованы даже воеводами, правда, в Сибири и в иных отдаленных местах; что князь Василий Шуйский затеял было смуту и был приговорен за то к наказанию плетьми, положил уже голову на плаху, как вдруг бежит какой-то шустрый человечек в польской одежде, машет платком и кричит палачу: «Стой! государь его прощает».
– Пан Бучинский! – догадался Курбский при рассказе об этом. – Уж очень он сердоболен, верно уговорил государя простить этого лукавца. Как бы им обоим потом не раскаяться!
Опасение Курбского впоследствии, действительно оправдалось.
Под Рождество в Марусино прибыли из Москвы дорогие гости: младший дядя молодой княгини, Степан Маркович Биркин, и «благоверная» его старшего брата, Платонида Кузьминишна; самого Ивана Марковича задержали его торговые дела, которые обещали оживиться с воцарением Димитрия.
Первым делом, разумеется, Курбский должен был показать гостям свои угодья, а Маруся – свое домашнее хозяйство.
– Домостроительница, что и говорить! – чистосердечно похвалила ее испытанная «домостроительница» – тетка, – что было для племянницы, конечно, маслом по сердцу.
– А теперича, невестушка, давай-ка выкладывать им наши столичные новости, – сказал Степан Маркович, – сперва ты, а там и я.
– Да как же я раньше-то тебя? – удивилась Платонида Кузьминишна.
– Ну, ну, не жеманься: все равно ведь всякое слово у меня изо рта вынешь. Только чур, матушка, потом меня уже не перебивать! Отзвонишь – и с колокольни долой.
И принялась она «звонить». Благодаря своим постоянным щедрым приношениям в пользу разных церквей, она пользовалась особенной протекцией духовенства. Таким образом, ей, не в пример других, удалось попасть в Успенский собор на священное коронование Димитрия, и она теперь просто слов не находила для описания всего благолепия этого торжественного обряда. Весь путь ведь от дворца до собора был устлан бархатным, малинового цвета ковром, затканным золотом; сам царь был в порфире, усеянной самоцветными каменьями, от которых в глазах так вот и рябило. А сколько умиленных слез она пролила, когда молодой царь, подойдя к алтарю, вопреки обычаю, но от полноты, знать, наболевшего сердца, сказал речь да поведал всенародно обо всем, что претерпел он, горемычный, и о своем чудесном спасении. Слушаешь – не наслушаешься, а слеза так и бьет, так и бьет!
Больно было ей, правда, вначале, что обряд совершал не старый патриарх Иов, которого вся Москва так чтила (за преданность Годуновым его, вишь, сместили), а вновь возведенный в патриарший сан архиепископ рязанский Игнатий; но и этот, что ни говори, молитвил уставно, а когда он, помазав царя священным миром, вручил ему еще венец царский, скипетр, державу и возвел его на прародительский престол, когда затем сам он, патриарх, а за ним все священство и высшее боярство с земными поклонами стали прикладываться к руке венценосного царя, – ну, тут уже с радости и восторга просто взвыла и света не взвидела!
– Значит, государь принял свой царский венец по строгому православному чину? – сказал Курбский, вздохнув с облегчением. – Патеров польских, разумеется, не было при том?
– Ох, уж эти мне патеры! В храм наш православный их, нехристей, знамо, не пустили. А все же, беда с ними, горе одно! Власть забрали непомерную: отвели им хоромы князя Глинского; завели они там свое собственное еретичное богослужение, да давай оттуда подводить подкопы под наше духовенство.
– Какие подкопы?
– А такие, что по их же проискам у наших православных попов отобрали дома под немецкую воинскую команду. Мало того: отрядили своих оценщиков в наши православные монастыри… Безбожники! Чтобы им и на этом и на том свете.
– Молчи, невестушка, помалкивай, пустых речей не умножай! – прервал расходившуюся женщину более осторожный деверь. – Отзвонила свое – ну, и с Богом.
– Да ведь оберут они и наших иноков Божьих…
– Сколько требуется, не бойсь, оставят. Царскую рать, матушка, тоже кормить чем-нибудь да надо, и служат в ней такие же, чай, как и мы с тобой, русские православной веры. Коли сделано то по царской воле, так нам с тобой и толковать нечего.
– А что объегорили эти ироды самого тебя да Ивана Маркыча, наобещав с три короба, тоже, по твоему, так и быть следует?
– Не вспоминай, сделай милость! Не вороти души моей!
– То-то вот! Своя рубашка ближе к телу.
– В чем дело, Степан Маркыч? – спросил Курбский.
– И говорить-то зазорно, – отвечал тот, почесывая за ухом. – Здорово поддел он меня, этот патер Сераковский; забодай его бык! Снаружи блажен муж, а внутри вскуе шаташася.
– Но не он ли, дяденька, вел тогда переговоры с тобой о моем приданом? – вставила Маруся. – Это было с его стороны очень даже любезно…
– Очень даже любезно! – передразнил дядя. – Подъезжает ко мне змей-искуситель с речами затейными: «Такой ты, мол, сякой, немазаный, сухой; выдели племянницу, а уж я, мол, в уважение доброй приязни выпрошу для тебя с братом у молодого царя свободу торговать по всей Руси безданно, беспошлинно». Ну, в простоте моей поверил я этой польской лисе; все наличные, что были на руках, отсчитал тебе, Машенька…
– За что я тебе уж так благодарна, милый дяденька! Деньги эти для начала нам здесь очень и очень пригодились.
– Ну, вот, стало, удоволена? А он-то, плут, нет, чтобы уважить, меня же, старого воробья, на кривой объехал!
– Не сдержал слова?
– Сдержал, да спроси: как?
– Как?
– А так, что хошь и вышел царский указ, по коему мы с братом Иваном можем торговать свободно, да только не мы одни, а и все-то купцы: русские и иноземные! Да это помереть надо!.. Ну, меня, знамо, взорвало, со злобы чуть кондрашка не хватил. «Погоди ж ты, думаю, криводушный человек! Жив быть не хочу, а тебе этого не спущу». Пошел я, разыскал его. Принял он меня со всем своим подлым учтивством:
– Чем могу служить, пане?
– Пане-то пане, – говорю, – а честные люди у нас так не поступают!
– Вы это про кого, – говорит, – про себя или про меня? – а сам ядовито этак ухмыляется. – Позвольте, – говорит, – узнать, выделили вы братца вашего дочку, княгиню Курбскую.
– Выделил, – говорю, – а то как же.
– И до последнего, – говорит, – гроша?
– Самая малость, – говорю, – только за мной осталася.
– А сколько, позвольте спросить?
– Это, батенька, – говорю, – до тебя не касается: семейное наше дело.
– Стало, все же не исполнили нашего уговора? А я, – говорит, – в своем слове тверд: выпросил свободный торг не токмо вам с братцем, но и всем вашим землякам…
– И иноземцам тоже! Благодарю покорно! Удружил!
– Да уж коли я вам, русским, такую льготу выхлопотал, так как же, – говорит, – было мне забыть моих родичей, поляков и добрых соседей, литовцев? А тут, – говорит, – подоспел еще посол аглицкий, стал требовать того же для своих; как отказать? Да все это, – говорит, – вам, русским же, впрок.
– Как так?
– А так, мол, что все иноземные товары у вас станут с сего времени дешевле.
– Да нам-то с братом, – говорю, – один убыток!
– Не убыток, – говорит, – а польза: наш добрый польский король Сигизмунд даст вам, поверьте, такие же широкие льготы в нашем царстве Польском. Пожалуйте, тогда пане, торговать к нам, милости просим!
– Нет, каков гусь? Надо мною же ведь еще издевается! Плюнул я, да и спину повернул. Как же, пойду я еще торговать к ним, разбойникам, чтобы и шкуру-то последнюю содрали!
Прогостив в Марусине с неделю, Биркины собрались опять восвояси. Нового гостя из Белокаменной Курбские дождались не ранее, как на Масляной неделе следующего 1606 года. То был юный почитатель Курбского Бутурлин.
Состоя при Басманове, успевшем, в свою очередь, сделаться ближайшим из всех русских советников молодого царя, Бутурлин смотрел на последнего глазами своего патрона и восхищался всякой новинкой при царском дворе. Так он не мог нахвалиться новым дворцом, где стены были сплошь в персидских шелковых тканях, полы в персидских же коврах, окна разувешены занавесями, а печи сложены из разноцветных изразцов, с серебряною вокруг каждой печи решеткой; двери – резные, дубовые, с позолоченными замками; вместо прежних скамей, везде позолоченные стулья с бархатными сиденьями. В столовой же палате и сенях, по всем углам, большие мраморные истуканы, изображающие, слышно, древних богов и мудрецов греческих и римских. Под стать всему новому убранству и прислуга дворцовая была наряжена уже не в народное русское платье, а в венгерское. Точно также и стража царская, которую называли «драбантами», была вся иноземная. Состояла она из трех дружин, по сто человек в каждой, под началом трех особых капитанов: француза Маржерета, англичанина Кноустона и шотландца Вандемана. Маржеретовские воины были в красных бархатных с парчою плащах, Кноустонские же и Вандемановские в сине-багровых (фиолетовых) полукафтанах, одни с зелеными, другие с красными бархатными лацканами, и все-то ребята рослые, здоровенные, все с большущими блестящими алебардами – загляденье, да и только! Понятно, и жалованье двойное; зато они за царя Димитрия в огонь и в воду.
Курбский слушал молча, насупив брови, очевидно, не разделяя увлечения легкомысленного юноши.
– Ну, а русским людям как живется теперь при дворе против прежнего? – спросил он.
– Живется им тоже вольготней и веселее, – отвечал Бутурлин. – За столом всякий день музыка да песни; после стола никто и не помыслит почивать: либо какое дело, либо безделье.
– Но в боярской думе государь все же бывает?
– А как же: ни единого разу еще, почитай, не пропустил. Прослушает сперва, как бояре промеж себя судят да рядят; а потом говорит им: «Столько часов вы, люди добрые, бьетесь, и все без толку; а дело-то чего проще». И что же ведь? Сразу решит, как должно. Станет говорить, так где и слова-то берутся? Говорит складно, вразумительно, как по-писанному. На все-то у него примеры из жизни других народов. Бояре, знай, ушами только хлопают, брады уставя, и диву даются. «Вот погодите, – говорит, – буду посылать и ваших детей в чужие края поучиться уму-разуму – спасибо еще скажете».
– Что же, дело хорошее, хорошее дело, – не мог не одобрить Курбский. – Лишь бы из-за чужих народов своего не забывал.
– О! Государь радеет об нем ежечасно. По средам и субботам сам просителей принимает на крыльце.
– Всех без разбора?
– Всех как есть: приходи с челобитной последний хоть нищий – и тому нет отказу. Судьям же и приказным, дабы не прижимали бедного люда, строго настрого наказано вершить дела без посулов (взяток). А чтобы самому ему еще ближе познать свой народ, перерядится, бывало, в простое платье, да сам-друг с Басмановым и ходит себе по городу, заговаривает с прохожими, заглядывает в лавки, в аптеки… Взял он это в пример, сказывал Басманов, с какого-то сказочного царя арабского, что ли…
– С калифа Гаруна-аль-Рашида, – пояснила Маруся, которая, живя в Самборе при панне Марине Мнишек, имела случай познакомиться там со сказками «Тысяча и одна ночь».
– А вот что скажи-ка мне, Андрей Васильич: заходит ли государь по-прежнему и к своей матушке-царице?
– Как улучит только свободное время, так сейчас и к ней. И всякий-то раз, как побывает этак у нее, становится будто еще доступнее, ласковее.
– Что значит мать родная! Но ты говорил все про дело; а безделье-то у него какое?
– Безделье тоже все благородное: то конское ристалище, то охота псовая, либо соколиная, то медвежья травля: нарочито мы для сего из аглицкой земли особых собак даже выписали – догов; а травим у себя же, на дворцовом заднем дворе, больше все по воскресным дням. Раз же, в селе Тайницком, государь велел спустить с цепи медведя-страшилище, да сам и пошел на него с рогатиной.
– Один? Вот бесстрашный! А бояре-то как допустили?
– Басманов и то было выскочил вперед; да государь на него как прикрикнет: «Отойди, Петя, не мешай!» Глядь, с одного удара и порешил зверя, а у самого хоть бы царапинка. Но все эти забавы ничто перед воинской потехой.
– Да ведь войны у нас ни с кем теперь нет? – заметил Курбский.
– Покуда нет; но татары и турки собираются, слышь, опять в поход на нас. Ну, вот, и отливают у нас про них пушки да мортиры; а чтобы и наше русское войско переняло у искусников немцев, как идти на приступ, соорудили верст тридцать от Москвы, в старой вотчине Борисовой, ледяную крепость. Бояре со стрельцами засели в крепости, а сам государь с немецкой командой брал ее приступом.
– И с оружием? Бутурлин рассмеялся.
– С оружием, да! Только с каким, знаешь ли? С снежными комьями! Правда, иные из этой немчуры, за-место снега, метали в наших каменьями и поранили кое-кого. Как подали тут всем после боя вина да меду, бояре с досады не хотели даже пить спервоначалу во славу победителей-немцев. А старик Бельский так прямо и ляпнул: «Не вышло бы, государь, из сего плохой шутки. Вернемся-ка лучше в Москву». И послушался государь, вернулся. Да очень уж, видно, полюбилась ему воинская потеха: велел он возвести на Москве-реке, по дсамыми окнами дворца, ад кромешный. Маруся осенилась крестом.
– Господи, помилуй! Настоящий ад?
– Ты, деточка моя, и поверила? – улыбнулся Курбский. – Верно, тоже нечто вроде крепостцы?
– Подлинно, что так, – отвечал Бутурлин. – Но наподобие яко бы ада. На дверях изображены слоны с огромными хоботами; из нижних окон пышет адское пламя, наверху же, заместо окон, головы чертей с разинутыми пастями, и из тех пастей глядят пушки: «Ой, не подходи! Разнесем». Вся эта штука притом на колесах; как двинется этак на погань бусурманскую, так та со страху наверное бросится бежать без оглядки.
– А москвичи что говорят про эту затею?
– Да что наши москвичи! Народ богобоязненный, да темный. Почитают и впрямь не то дом, не то дьявольским наваждением, крестятся да отплевываются. Как предложил тут государь стрельцам штурмовать эту небывалую крепость, те поголовно отказались. Ну, и пристыдил же он их: вызвал охотников из польских рейтеров; эти, понятно, не устрашились и лихо пошли на приступ[12].
«И сотвори себе в маловременной жизни потеху, а в будущий век знамение превечного своего домовища, его же в Российском государстве, ни в которых во иных, кроме подземного, никто же виде на земли, ад превелик зело, имеющ у себя три главы, и содела обо-юду челюсти его от меди бряцало велие, егда же разверзает челюсти своя, и извне его яко пламя предстоящим ту является, и велие бряцание исходит из гортани его, зубы же ему имеющи осклаблены и нотги ему яко готовы на ухапление, и из ушию его яко же пламени распалявшуюся; и постави его проклятый он прямо себе на Москве-реке, себе во обличение, дабы ему и с превысочайших обиталищ своих зрети на нь всегда, и готову быти в нескончаемые муки во нь на вселение и с прочими доиномысленными своими».
Курбский подавил вздох.
– Так правда, значит, – сказал он, – что поляков государь все-таки еще предпочитает своим русским?
– Да как же, коли невеста у него из полячек?
– А что, Андрей Васильевич, – переменила тему Маруся, – когда же их свадьба?
– Свадьба настоящая, православная, будет сейчас, слышно, как только невеста прибудет в Москву. Католическая же была ведь еще в ноябре месяце в Кракове.
– В Кракове! Да разве государь ездил для этого опять в Краков?
– Сам-то не ездил; повенчали его с невестой заочно.
– Как так заочно?
– А так, что в Кракове заступал его думный дьяк Власьев Афанасий Иваныч. Да какие подарки он повез им из Москвы!
И Бутурлин с одушевлением начал перечислять эти подарки[13].
– Но почему же она до сих пор все не едет в Москву? – спросил Курбский.
Бутурлин пожал плечами.
– Господь ее ведает! Государь и то не может дождаться: на Рождестве еще послал нарочно в Краков пана Бучинского и Михайлу Толчанова с большими деньгами (на дорогу) и новыми подарками пану воеводу, чтобы поторопился отъездом; вдогонку покатил Иван Безобразов, а теперь вот, на днях, отправлены к ним в Самбор один за другим еще два гонца.
– Удивительное дело! Словно с умыслом ведь затягивают свой приезд.
– А я знаю, почему! – сообразила Маруся.
– Почему?
– Да потому, что выходит-то панна Марина за нашего русского царя не по своей охоте.
– Как не по своей? – возразил Курбский. – Не сама ли она, скажи, первая опутала его своими чарами, когда он был еще царевичем…
– Да, ей вскружила голову царская власть. Кроме того, ей нашептали эти два патера, что через нее будет обращен в латинство весь русский народ и что она обретет тем царство Небесное. Но сердца в груди не заглушишь!
– Так ты полагаешь, что она и доселе еще не забыла кого-либо из своих прежних поклонников? У ног ее, говорят, вздыхали первые польские рыцари. Чаровница! Но я, признаться, с тех пор, что ее знаю, ничего-таки не заметил.
– Ты, Миша, ничего, вообще, не замечаешь: у тебя глаз мужской, не женский. А я была ее любимой фрейлиной, от меня у нее почти не было тайн.
– Так ты думаешь?..
– Думаю, что не пошли ей судьба русского царевича, она давным-давно была бы паньей Осмольской. Одним им, Осмольским, было время, только живет и дышит.
– Гм… Осмольский и то ведь из всех поляков, что знавал я, чуть ли не самый прямой и милый. Сравниться с ним мог разве Бучинский.
– Да и Бучинский не такой прямодушный.
– Пожалуй; по должности своей секретарской он поневоле скрытничает. Но при мне Осмольский никогда не показывал и виду, чтобы панна Марина ему нравилась более других паненок.
– Потому что он истинный рыцарь. Понял, видно, что у нее одно на уме – царский венец, ну, и сам отступился. Помяни мое слово: приедет она в Москву, и он будет тут как тут.
– Вспомянем, – недоверчиво усмехнулся Курбский. – Только когда-то мы с тобой еще попадем в Москву!
– Когда? А к самому въезду панны Марины. Право, голубчик Миша, мне так хотелось бы!.. Я была с нею так дружна…
– Хороша дружба! Забыла ты, видно, как коварно она с тобой тогда поступила в Жалосцах?
– При пожаре православного храма? Да ведь я могла уличить этих двух патеров в поджоге храма, а для нее нет ничего выше ее римской веры. Ей надо было спровадить меня хоть на край света. Ну, и сама я, признаться, тогда погорячилась, наговорила ей из-за тебя много лишнего. Но теперь все это давно быльем поросло, и никто тебя у меня уже не отнимет! Ну, пожалуйста, миленький, хороший ты мой! И сам ты свидишься опять с государем, твоим лучшим ведь другом…
Мог ли он сказать ей, что между ним и его царственным другом стояла по-прежнему замогильная тень угличского странника? Просила же его молодая жена так нежно, так умильно… И недостало у него духу отказать ей в этой совершенно понятной и невинной просьбе.