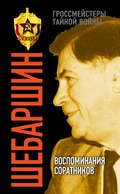Валерий Поволяев
Южный Крест
Глава 5
Еще раз увидел Геннадий материнскую восьмиэтажку, когда рефрижератор, сыто постукивая машиной, покидал бухту Диомид и проплывал мимо мыса Чуркина, расталкивая носом разный мусор, плавающий в зеленой игривой воде. Москалев отер ладонью глаза и долго вглядывался в ярко освещенный солнцем высокий взгорбок – не появится ли там мать? Нет, мать не появилась, дом ее, показавшийся Геннадию каким-то пустым, незаселенным, медленно уплыл назад.
Впереди их ждала долгая дорога, болтаться в морях-океанах предстояло дней сорок, а может, и пятьдесят, к этому законному, рассчитанному по картам времени надо было добавить время дополнительное… Это время специально отводилось в расчетах для непогоды, штормы и бури, которые обязательно встретятся им в пути, и рефрижератору придется пережидать океанскую хмарь где-нибудь в тихой островной бухте.
После того как они пересекут экватор, штормов будет много больше – ведь на той стороне земли стоит уже не лето, а зима, июль вообще считается суровым зимним месяцем. Где-нибудь на юге Чили сейчас идет снег. А лезть напролом в шторм с громоздким грузом – это все равно, что собственную голову-бестолковку подставлять под висящий на непрочном гвозде топор…
Только тут Геннадий заметил, что на мысе Чуркина много зелени, как на каком-нибудь африканском островке, и жарко сегодня очень: на открытом солнце стоять непросто, пропарить может так, что пища в желудке скиснет очень быстро, хотя вареный картон, из которого делается современная колбаса, скисать не должен…
Интересно, как он выглядел, неведомый флотский офицер с простой фамилией Чуркин, чьим именем назван центральный городской мыс?
Москалев даже не засек, как рядом с ним оказался Баша – ну будто дух бестелесный вытаял из ничего, из воздуха, из туманных клубов пространства, стукнул кулаком по боку одного из катеров, прислушался к отзвуку удара.
– Ты чего? – спросил Геннадий.
– Да так, колдую понемножку, монетку в воду бросил, чтобы мы вернулись целыми, – серьезно ответил Баша, губы у него дрогнули. – Хотел еще монетку бросить, да жалко стало – денег и так нету.
– На огороде денежку под картофельный куст не зарыл?
– Зарыл. Но на Чили у меня надежды все-таки больше, чем на картофельные клубни.
– Даже если ты посадишь картошку на легендарной Миллионке, где щетина превращается в золото?
– Даже если так, Алексаныч.
Баша хотел сказать что-то еще, но не успел – рефрижератор догнала крупная чайка с оттопыренным зобом, проорала что-то. Голос был знакомый – очень походил на собачье гавканье.
– Ба-ба-ба, да это та же самая чайка, которую Иван веревкой накормил.
– Я ее узнал. Прилетела добавки просить.
– Толя, как бы не так, – предостерегающе проговорил Геннадий, но сделать что-либо не успел: чайка стремительно снизилась и выплеснула на людей содержимое своего брюха.
Промазала. Москалев оттолкнул Башу в одну сторону, сам отпрыгнул в другую, – оказался проворнее чайки, вонькая жидкая начинка звучно шлепнулась на палубу, рассыпалась брызгами по нагретому солнцем железу.
– Я тебе сейчас хвост откручу, – Баша погрозил чайке кулаком, – и лапы из задницы вырву! Подожгу из ракетницы, стервятница ты гитлеровская, – будешь знать! На всю оставшуюся жизнь…
Чайка в ответ что-то зло пролаяла, сделала круг над рефрижератором, но бомбить ей было уже нечем, боезапас израсходован вчистую, и отправилась домой, в бухту Диомид.
– Как бы она где-нибудь не заправилась и не вернулась с новой крылатой ракетой…
– Поленится лететь. Мы уйдем далеко.
– К этой поре она как раз веревку переварит… Ты представляешь, что за заряд у нее будет, а? Тайфун!
Баша лишь покачал головой.
– Раньше я считал, что чайка – обычная бесполезная птица, а она еще и злопамятная… Тьфу!
В море было тихо, рефрижератор шел быстро, было даже слышно, как с прощальным усыпляющим звоном струится за бортом вода, рождает непростые мысли. Геннадий почувствовал себя усталым, вот ведь какая штука: не работал совсем, вообще ничего сегодня не делал, а уже устал. Что же будет в таком разе там, в далекой южной стране, протянувшейся по западному окоему едва ли не вдоль всей Латинской Америки?
Наверное, что будет, то и будет, судьбу не изменить, жизнь не переделать…
Глава 6
Ночью снилось прошлое, оно всегда снилось Москалеву, когда он находился в плавании. Сюжет этот был много раз им проверен, тема с годами не менялась.
Полновесную моряцкую жизнь он начал молодым, еще до призыва в армию, после окончания мореходной школы, его тогда закинули на Север, определив по распределению на серьезную посудину – танкер «Полярник». Название у танкера было под стать красотам, проплывавшим мимо него: облизанным водой и ветром скалам, к крутым боками которых прилипли крупные куски иссосанного, но еще очень прочного льда, торосам, напоминающим своими очертаниями таинственных «снежных людей», промоинам яркого синего цвета, из которых высовывались любопытные усатые морды тюленей и лахтаков – морских зайцев, лежбищам белых медведей, самых опасных зверей на свете, неведомо за что ненавидящих людей, птичьим базарам, полным больших горластых чаек… То, что можно было увидеть на Севере, не увидишь больше нигде, и уж тем более – на юге, куда сейчас он плыл.
Танкер «Полярник» был приписан к военной экспедиции, возглавляемой старым, очень опытным адмиралом с фамилией почти детской, вызывавшей невольную улыбку, – Осколок. Хотя был танкер единицей сугубо гражданской, к богу Марсу никакого отношения не имеющей, как, собственно, и ледокол «Пересвет» – тоже единица штатская, завязанная на сугубо мирные дела, но руководил ими контр-адмирал…
Без ледокола на Севере не обойтись никак – завязнешь в просторах «белого безмолвия» и хрен когда из стальных оков выберешься, вот ведь как. Паковые поля льда могут раздавить любую, даже очень прочную посудину, будто гнилую ореховую скорлупу: за пару-тройку силовых нажимов любой прочный пароход пойдет на дно.
Танкер, на который попал плавать девятнадцатилетний Москалев, выполнял задачу, без успешного решения которой никакой, даже самый победоносный флот в мире не будет плавать – доставлял на морские базы топливо, самое разное: мазут, солярку, керосин, бензин, ракетное горючее – словом, все, что может гореть в котлах, топках, форсунках, двигателях, дизелях, и так далее и крутить колеса военной машины… Чтобы нас не сожрали ни американцы, ни японцы, ни британцы, ни китайцы – никакие «цы», словом…
Танкер был объемистый, длинный, много чего мог перевозить в своем бездонном чреве – на палубных баках его можно было даже самолетную дорожку расстелить, и воздушные машины без помех взлетали бы и садились на судно прямо в открытом море.
Впрочем, у военного народа судов не бывает, к этому слову разные старшины второй статьи, мичманы и капитан-лейтенанты относятся презрительно, у людей в погонах бывают только корабли…
Экспедиция под руководством контр-адмирала Осколка занималась тем, что расставляла в море ориентиры – буи для выхода атомных подводных лодок из наших вод в открытый океан.
Рельеф на севере запутанный, много островов, подводных скал, полно мелей, впадин и невидимых хребтов, голову можно свернуть запросто, поэтому длинным пузатым громадинам-подлодкам выйти из этого сложного лабиринта без подсказок трудно. Буйную голову можно легко оставить на дне какой-нибудь коварной бухты. Выходить на «большую воду» следовало лишь по буям. А ставить буи можно (и нужно) только под руководством очень опытного человека. Ошибки в постановке буев не допускаются совсем, даже ничтожные.
Места северные, такие, как бухта Провидения, мыс Шелагский и Сердце-Камень, остров Врангеля и остров Геральда облюбованы военными моряками давно, еще с царской поры, и хотя не все углы здешние обжиты, присутствие человека ощущается всюду… Над головой с пронзительным воем носятся самолеты морской авиации – новейшие, способные взлетать едва ли не с любого клочка земли, – вертикально уходят вверх и растворяются в голубой выси. Впрочем, это было в пору, когда Москалев плавал на танкере, сейчас же, в эпоху послеперестроечную, когда Геннадий плывет верхом на огромной посудине в Чили, на месте тех баз стоят разрушенные постройки, дома пахнут кладбищем, бывшее жилье стороной обходят даже белые медведи – жизни никакой там нет… Все разрушено.
У Москалева от осознания всего этого внутри часто возникал холод, он не понимал ничего происходящего, потому и страдал… А прошлое возникало часто, оно не отпускало его…
На острове Геральда располагались большие моржовые лежбища, однажды их послали туда на охоту.
Вообще-то к лежбищу невозможно подойти на полкилометра, вонь там стоит такая, что бравых мореходов легко сшибает с ног, они были готовы отступить заранее и отступили бы, если не приказ высокого начальства – взять моржа. Для чего, спрашивается, нужен морж? А непонятно, вот ведь как… То ли собак ездовых, пограничных кормить (но они на ряду с мясом очень аппетитно расправляются с рыбой, едят юколу – вяленую горбушу, которой здесь много; на юколу идет и кета); то ли для нужд какого-нибудь полярного зверосовхоза; то ли в научных целях, – в общем, со временем это просто-напросто забылось.
С другой стороны, жалко ведь – без этих морских увальней, очень добродушных, без моржей, любой клок северной земли, любая льдина становятся угрюмыми, враждебными, без соседей этих человек вряд ли бы выжил в трудных здешних условиях.
Как казалось тогда Геннадию, остров Геральда – это нейтральная территория, никому не принадлежащая – ни России, ни Штатам, ни Канаде, следов человека на нем не было, поэтому моржи, не зная, что собой представляет двуногий «гомо сапиенс», особенно если он с ружьем, приняли делегацию с винтовками дружелюбно, хрюкали, кашляли, шлепали ластами по камням, вздыхали озабоченно, чесались, на всякий случай прикрывали своих детей и совсем не думали, не предполагали даже, что люди будут в них стрелять.
Не знали моржи, как больно умеет плеваться горячим свинцом винтовка, не ведали совсем, иначе бы вели себя, как белые медведи. А белые мишки, как известно, человека не переносят на дух, едва завидя, норовят содрать с него скальп. И за что только их любят детишки, с какой стати сочиняют про них стихи?
Белый медведь нападает на человека, не задумываясь совершенно, не медля ни секунды. Специалисты пробовали докопаться, понять, отчего же северный мишка так ненавидит человека, за какие такие грехи, в чем он провинился перед властителем Арктики, но раскрутить этот ребус, разгадать загадку так и не сумели. Не по зубам разгадка оказалась.
Когда белый медведь нападает на человека, то взять этого зверя пулей бывает трудно, почти невозможно, любая пуля, даже разрывная, застревает в богатых наслоениях сала.
Мясо белого медведя невкусное, в еду почти не годится. Как-то во Владивостоке Геннадия угостили куском медвежьего мяса – привезли аж из самого Певека – порта, на котором заканчивается Северный морской путь.
Хоть и занесен белый медведь в Красную книгу природы, и трогать его нельзя, – впрочем, не совсем: если он напал на человека и, не дай бог, отведал его крови, то этого медведя нужно убирать обязательно, скорее всего, отстреливать, поскольку иного общения с ним уже не получится…
Потому и перепадало медвежье мясо едокам даже во Владивостоке, в Находке, в приграничных с Китаем поселках.
Поставил Геннадий варить мясо на плиту, заправил варево, как и положено, крупным серым перцем, способным выровнять любой вкус, лавровым листом, приготовил корешки нескольких поварских трав, способных превратить в толковое блюдо даже вареную бумагу или тушеную сосновую стружку, стал ждать… Варил полтора часа, как было ему велено.
Через полтора часа ткнул в медвежье мясо вилкой – все равно что в дубовый пень тыкал, вилка чуть из руки не вывалилась, – ну словно бы полутора часов, когда кастрюля с варевом послушно булькала на газовой горелке, и не было. Все бульканье оказалось пустым.
То же самое, как понимал Геннадий, должно было произойти и с моржовым мясом – это все равно, что попытаться приготовить кусок железнодорожной шпалы, пахнущий рыбой и имеющей вкус головастиков, живущих где-нибудь в районе островов Де-Лонга или пролива Вилькицкого, но сделать это вряд ли удастся даже очень опытному коку… Хотя чукчи умеют готовить моржатину довольно сносно и охотно пускают этот северный продукт в дело. Едят и с удовольствием хлопают себя ладонями по животам: вкусный, однако, был морж.
Но одно дело – понюхать, чем пахнет печенный в тундре, на костре у чукчей морж и совсем другое – стрелять в него. Вторгнувшись на каменном берегу в вонючее пространство и загнав патрон в ствол винтовки, выстрелить прямо в усатую добродушную морду – это… м-м-м!
Геннадий никогда ни в кого не стрелял – только в воробьев из рогатки в городе Свободном, да и то мимо.
Нет, рука у него на это не поднимется. Он глянул на своего приятеля, матроса Борьку Нозика, который замерзшими руками также сжимал винтовку, увидел его глаза и понял – Борька тоже стрелять не будет…
Тогда кто же будет?
Вот если моржи нападут на них… Если нападут, тогда другое дело, тогда совсем другой коленкор…
С ними находился второй помощник капитана с «Полярника» – высокий неразговорчивый человек с мрачным лицом, украшенным шрамом, – это был след какой-то операции, в которой он участвовал, когда служил в армии, в бригаде пограничных катеров… Он тоже не смог стрелять. Москалев уже забыл его фамилию, и это было досадно. Во сне он попробовал вспомнить фамилию, заворочался неловко, ощутил боль в руке – отлежал, пока смотрел картинки из своего прошлого, – не вспомнил, и ему сделалось стыдно перед тем мужиком, которого уже, наверное, и нет на белом свете…
С острова Геральда они тогда уплыли ни с чем – так и не стали стрелять в моржей, и это был поступок, которым Москалев гордился потом года полтора: они не навредили ни себе, ни природе.
Хотя, поскольку территорию ту он считал канадской, то, может быть, и надо было навредить… Когда Москалев находился уже на танкере, то пошел к самому образованному человеку на судне – радисту. Или, говоря другим языком, – маркони, который прочитал несколько сотен книг только в море… Каюта у маркони была плотно заставлена книгами. У него Геннадий и спросил:
– Чья земля – остров Геральда, наша или канадская?
Радист в ответ насмешливо хмыкнул:
– Если бы была канадская, вряд ли бы вам дали высадиться на острове… Да еще с винтовками. Повязали бы за милую душу и гурьбой загнали в каталажку.
– Значит, земля эта наша?
– Даже более, чем наша, можешь в этом не сомневаться. И моржи также наши, с советскими паспортами. Понятно, мареман?
– Так точно!
– Тогда все вы – молодцы, не опозорили себя меткими выстрелами.
Наклонил Геннадий голову согласно, – так оно и есть, – и покинул владения радиста…
Прошло немного времени, экспедиция двинулась дальше на север, в ледяные поля Арктики, но перед походом моряки неожиданно получили от небесной канцелярии роскошный подарок – южный денек. Южный день на севере… Очень ясный, даже небо было голубым, как на юге, Москалев совсем не предполагал, что небо здешнее может иметь такой невинный цвет, но что было, то было.
Экспедиция направилась в Берингов пролив. Из пролива была видна крохотная полоска далекого берега, мелкие домики, окрашенные в яркий цвет красные крыши…
– Что это за поселок? – спросил Боря Нозик у боцмана.
Тот фыркнул – не сдержался мужик.
– Этот поселок называется Америка. Темнота декабрьская!
Нозик не поверил:
– Аляска?
– О, уже малость светлее, – боцман снова фыркнул. Ну словно бы морж, к которому в гости пришли люди с винтовками. – На ходу режешь подметки. Ученье свет, а неученых тьма.
Было холодно. У специалистов, которые изучают моря и страны, зондируют климат, есть одно обобщенное понятие, довольно угрюмое, но – официальное. Понятие называется «Индекс суровости климата». В Москве, например, это понятие имеет цифру 1,7. На Диксоне – 7,0. Берингов пролив будет, наверное, посуровее Диксона. Само определение «Индекс суровости климата» вызывало у Москалева невольное уважение – перед индексом, представьте себе, хотелось снять шляпу.
Едва экспедиция оказалась на территории Северного Ледовитого океана, как в зоне видимости обозначился небольшой айсберг, метров двадцать высотой, не больше, айсберг облюбовали три белых медведя, резвились около него.
Айсберг был уже старенький, обсосанный ветрами и водой, весь в дырках, словно гигантская головка сыра – выдержанного, твердого, древнего желтоватого цвета.
Вот один медведь ловко забрался на его макушку, нигде не оскользнулся, не завалился набок, на верхотуре примерился, уселся задницей на скользкую поверхность, вытянул ноги, передними лапами оттолкнулся, как руками, и быстро покатил вниз. По пути азартно повизгивал от удовольствия. На приличной скорости он въехал в воду, только брызги полетели в разные стороны, словно в океан шлепнулся снаряд.
За первым медведем приятную поездку совершил второй медведь, а потом и третий. Занятное было зрелище. Ни в одном зоопарке не увидишь ничего подобного, и прежде всего потому, что в водах зоопарков не плавают двадцатиметровые айсберги.
Так Москалев начинал девятнадцатилетним юнцом обживать океаны… Прошлая жизнь снилась ему всегда, когда он находился в плавании.
Глава 7
Через неделю рефрижератор встал на якорь – впереди буйствовал циклон с пятиметровыми волнами, идти на сближение с ним было опасно, надо ждать, когда циклон выдохнется. Хорошо, подвернулся рыбацкий остров со спокойной бухтой, вода в которой имела диковинный сиреневый цвет.
Говорят, такая вода встречается только в бухтах Мадагаскара, да и то лишь весной. Мадагаскар – остров колдовской, набит драгоценными каменьями, как личный сундук знаменитого пирата Кидда, камни и подкрашивают воду в неестественные цвета не только в бухтах и заливах, но и преображают целые течения, делают их цветными, придают им оттенки, которые даже опытный художник не сможет составить и намешать из своего запаса красок…
Небо было безмятежно-голубым, спокойным, но в спокойствие это был вплавлен металл, он ощущался и вызывал тревогу, иногда в голубизне неожиданно возникало серое пятно, похожее на пороховое, и быстро растекалось по пространству – возникало оно невесть откуда и пропадало неведомо куда. Было понятно: пока этот «порох» висит в небе, надо стоять на якоре и ждать.
Но «порохом» дело не закончилось, вскоре мирную ангельскую голубизну начали рассекать яркие ветвистые молнии. Ни грома не было, ни грохота волн, ни воя ветра, только слабый, похожий на шелест плеск воды в бухте, чей берег зарос высокими деревьями, под которыми теснились рыбацкие дома с высокими коптильными трубами, еще слышалось сытое бормотание чаек, пресытившихся обильной едой. Здешние чайки не были четой чайкам бухты Диомид.
Геннадий пошел к капитану рефрижератора, просоленному морскому волку, не выпускавшему изо рта трубки. Усы у волка были желтыми от табака «Кэптен» и ароматного дыма, который густо валил из пенковой чаши трубки, будто из пароходной топки. И где только капитан берет деньги на дорогой табак? Если только из тумбочки? На этот вопрос он вряд ли захочет ответить, поэтому Геннадий задал другой:
– Сколько будем стоять?
– Пока циклон не пройдет.
– А точнее?
– По прогнозам, к ночи циклон должен сдвинуться, плюс несколько часов потребуется, чтобы утих шторм… Утром, думаю, двинемся дальше.
– Ночевать будем здесь, значит?
Просоленный волк не замедлил ухмыльнуться в свои протабаченные усы.
– Приятно иметь дело с сообразительным человеком, однако.
– И мне, однако, приятно, – в унисон проговорил Геннадий, на прощание подивился размерам ходовой рубки – здесь можно было устраивать танцы либо кататься на велосипеде, – прихлопнув к темени левую ладонь, правой козырнул: – Честь имею!
– Скоро у нас только одно и останется – честь наша. – Капитан вскинул к виску два пальца и окутался клубом дыма.
Слепяще-ярких, рогатых молний на небе стало больше, в безмятежной голубизне они выглядели чужеродными, – ну будто кто-то, сидящий наверху, на полке среди облаков, оберегая их, предупреждал: погодите, люди, пусть нечистая сила утихомирится, не торопитесь.
Собственно, просоленный морской волк и не торопился, он принадлежал к той невозмутимой категории людей, которые хорошо ведают, что происходит: даже если капитан спит в своей каюте или, размышляя о судьбах мира, сидит на ночном горшке, он знает, что деньги на его личный счет в банке капают, и эта струйка не прерывается ни на минуту.
На палубе у катеров стояла в сборе вся команда, плывшая с Геннадием.
– Что за новгородское вече? – спросил он, заглядывая за борт.
– Кино, Алексаныч, – пояснил Охапкин, – стоим, любуемся. То ли мультяшку нам показывают, то ли кукольный фильм… Пока не разобрались.
За бортом резвилась двухметровая акула, в сиреневой плоти воды она была похожа на ведьминское, может быть, даже инопланетное видение: размеренно, как машина чертила зигзаги, неторопливо распахивала зубастую пасть и глотала очередную, таинственно посвечивавшую брусничными боками рыбину: хап – и рыбины нету. Акула снова распахивала рот.
– Автоматическая мясорубка, – констатировал Охапкин.
– Фильм-ужастик, – добавил Баша, – из тех, что не всегда увидишь.
Акула лениво развернулась, засекла в сиреневом пространстве неуклюжую рыбу, похожую на большое полено, и поплыла к ней. Рыба то ли не почувствовала опасности – наивная была, вместо мозгов в черепушке у нее были прелые водоросли, – то ли поняла, что спасаться от акулы было бесполезно и безропотно приготовилась нырнуть в акулий желудок – жизнь в океане она продолжит в виде отходов, – налетчица распахнула пасть и в следующий миг закрыла ее.
Удивлению акулы не было предела: рыбы в пасти не оказалось, закуска в последний миг стремительно метнулась в сторону и тут же ушла вниз, под брюхо хищницы.
Неглупая оказалась добыча, обманула плавающий желудок, нырнула в невидимую зону. Свинцовые глазки налетчицы сделались по-поросячьи красными от изумления и негодования, но удивление ее сильно увеличилось, когда хозяйка неожиданно обнаружила, что рыбы вообще больше нет, испарилась вся – бухта пуста. Даже ежи, просвечивающие сквозь чистую сиреневую воду чернильно-черными телами, и те куда-то подевались, вот ведь что интересно. И загадочно одновременно. Геннадий покачал головой: стихия моря гораздо таинственнее стихии земли.
– Ну что, усложним кино-концертную программу, а? – предложил Охапкин по-молодому звонкоголосо, словно бы вспомнив времена детства, когда приключения Мойдодыра были ему интереснее приключений Робинзона Крузо.
– Дерзай, – поддержал его Баша, – все равно делать нечего.
– Кок жаловался – ему подсунули ящик гнилого мяса… Это мясо мы и используем.
О гнилом мясе Геннадий слышал, как слышал и хриплую ругань кока, но деталей не знал… Конечно, того, кто подсунул это мясо, надо бы наказать, – что и будет сделано, когда рефрижератор вернется во Владивосток, но и кок тоже лопух калиброванный, мимо носа какую-то вонь пропустил…
А с другой стороны, гнилое мясо – это признак разложения не только нечестной приморской конторы, поставляющей продукты на суда, это признак разложения целой системы, если не всей страны, огромной, как мир, до слез, до стона родной, в которой возникло столько непорядочных контор, что хоть волком вой. Пострадало от них так много народу, что число почти не поддается счету, – купились не только кок и не только команда рефрижератора.
Имена виновных известны, хорошо знакомы России, лица их каждый день появляются на экранах телевизоров, заглядывают в каждый дом, пытаются проникнуть даже в спальни и ванные…
– Сей момент! – Охапкин ткнул в воздух указательным пальцем и исчез.
Вернулся он с большим полиэтиленовым пакетом, от которого резко попахивало свалкой, гнилью, тухлятиной перележавшего продукта. Кусок, запечатанный в полиэтилен, совсем не был похож на мясо – черная, покрытая слизью плоть, сизые дырявые жилы, белый, сваренный тленом отонок, скатавшийся в липкий комок, плотно приклеившийся к вонючему шматку говядины.
– Зажимай носы, публика! – скомандовал Охапкин, разворачивая полиэтиленовый пакет. – Душок тут образовался такой, что иной неподготовленный гражданин может свалиться в воду.
Сам Охапкин дурного духа не боялся – то ли привыкший был по прошлым годам жизни, когда плавал на Севере и в открытых трюмах возил огненный, источающий вредные газы конгломерат, то ли не чувствовал запахов вообще. Он спокойно вытащил зловонный осклизлый кусок из пакета и насадил на крюк внушительных размеров, украшенный хорошо откованной бородкой, проверил шнур, привязанный к крюку; свободный конец закрепил на стойке лебедки и швырнул гниль, как обыкновенный булыжник, в воду.
Акула, лениво пластавшая пространство бухты в поисках пропавших рыб, быстро учуяла лакомое блюдо, свилась в дугу, попыталась вообще свернуться в кольцо, но спинной хребет у нее был уже одеревяневший, гнулся плохо, с натугой и болью, и акула поспешно выпрямилась.
Сделала два круга по безмятежной сиреневой воде, нащупала тупо скошенной мордой место, откуда сочился желанный дух, – а в воде запах распространяется лучше, чем в воздухе, – и, решительно развернувшись, направилась к наживке.
Отонки на шматке мяса расправились, нервно зашевелили своими краями, будто оборки-платьица у живой медузы, и акула, словно бы боясь, что кто-то перехватит у нее добычу, прибавила скорость.
– Сцена не для слабонервных, – проговорил Охапкин, глядя сверху на акульи телодвижения, от которых вода в бухте начала рябить, – даже закурить захотелось.
Он достал из кармана полупустую пачку дешевых болгарских сигарет, которые в России уже пропали совсем, но у Охапкина имелся свой табачный склад, в нем можно было найти разные сигареты, выбил из пачки один сухой цилиндрик. Сигареты были без фильтра, Охапкин ценил их выше, чем те, что были украшены желтовато-бежевой головкой, скатанной из пористой бумаги. Он вообще любил болгарские «Джебел», «Солнце», «Шипку», все они были без фильтра, с хорошим табаком, толково просушенные… Жаль, что болгары перестали поставлять их нам. За деньги же поставляли, почему отказались? Непонятно…
Акула подплыла к куску мяса и внезапно затормозила, что-то насторожило ее, она издали, как-то по-звериному обнюхала аппетитную гниль, а потом, словно бы чувствуя опасность, боясь решиться, сделала около мяса плавный круг.
– Ну, давай, давай, михрютка, – подбодрил ее Охапкин, – чего задумалась?
Наконец акула решилась: слишком уж вкусный дух исходил от гнилого гастрономического чуда, привязанного к какой-то странной веревке. Акула разинула пасть, словно бы проверяла сжим и распах своих страшных челюстей, затем закрыла вход в собственный пищевод и сделала резвый рывок.
– Молодец! – похвалил ее Охапкин.
В воде, за хвостом акулы нарисовался мощный бурун, похожий на султан с парадного гвардейского кивера, – «мотор» у акулы был мощный, как у подводной лодки, а может быть, даже и мощнее.
На гнилое мясо она налетела со скоростью хорошо разогнавшейся торпеды – наживка вместе с двумя метрами капронового шнура мигом оказалась у нее в глотке. Москалеву даже показалось, что переваренный, превращенный в отходы кусок мяса сейчас выскочит у акулы из задницы…
Но нет, не выскочил, а приятной тяжестью вместе со шнуром лег на дно желудка. Акула неторопливо развернулась в сиреневой воде и поплыла в обратном направлении.
Шнур натянулся, задержал акулу на несколько мгновений, она изумленно продержала в воде свое парение. А потом вновь сделала резкий рывок.
Рывок был такой, что железная конструкция, – стойка, к которой была привязана бечевка, чуть не поползла к борту вместе с лебедкой.
– Мать моя, да она сейчас разрушит весь пароход. – Взгляд у Баши сделался испуганным. – В щепки разнесет, перевернет! Вот гада! – Он замахал руками на Охапкина. – Режь шнур, пока пароход целый… Ведь она его по дощечкам разложит!
Охапкин среагировал на этот вопль спокойно, – мог извлечь из кармана складной нож и секануть по бечевке лезвием, но не сделал этого.
– Сейчас лебедку в воду сбросит – не достанем ведь! – проговорил Баша уже тише: спокойствие Охапкина подействовало на него.
– Если понадобится – достанем, – сказал Охапкин, речь его сделалась медлительной, тяжелой, будто каждое свое слово он теперь отливал в свинец.
Акула отплыла чуть назад, ослабила натяг шнура, потом сильно хлопнула хвостом, будто отталкивалась от чего-то литого, чугунного – от скалы или бетонного пирса, от звука громкого даже солнце в небе задрожало, а потом, как и акула, всколыхнулось, сделало рывок, но уйти куда-нибудь не смогло, только чуть сдвинулось с места.
Любительница лежалого мяса тоже далеко не ушла – рванулась что было силы, железная стойка затрещала, по литому корпусу лебедки пошел звон…
– Режь шнур! – снова выкрикнул Баша, он словно бы чувствовал что-то нехорошее и вообще сам бы перерезал шнур, но ножа у него не было. – Режь!
Охапкин и на этот крик не среагировал, решил выждать – не верил, что акула может свернуть прочную железную стойку и уволочь в бухту тяжелую лебедку. Борт рефрижератора зазвенел – акула разозлилась окончательно и с третьего рывка вообще обрубила прочную синтетическую бечевку.
Обрубив, мигом успокоилась и неторопливо направилась к горловине бухты, чтобы выйти в открытый океан. Мясо полоскалось у нее в брюхе, а длинный обрывок шнура волокся в воде следом, будто тощий, сплетенный из водорослей хвост. Охапкин с усмешкой покачал головой:
– Собака с поводком. Надеть бы ей еще намордник и того… Можно выгуливать.
– Где, в сквере на Первой речке? – Баша засмеялся. – Будешь как та дама с собачкой.
– Зацепится шнур за какой-нибудь камень, и акула застрянет, как коза на веревке.
– Акула – животное, которое вряд ли где застрянет. А камень, ежели что, зубами разгрызет.
– Не факт. А вот то, что она обязательно застрянет, – факт.
Геннадий стоял вместе со всеми, в одной компании, незряче рассматривал акулу и думал о Владивостоке, о матери, о неведомом ему подпоручике Корпуса флотских штурманов, который сто тридцать лет назад на корвете «Гридень» вошел в бухту Золотой Рог, подивился красоте, необжитости, дикой тихости берегов, душистой дымке, пахнущей цветами, выползающей из недалекой сизой чащи к самому урезу воды, и тут с берега ныряющей в бухту и исчезающей в ее глуби. Бухта проглатывала дым, и он исчезал бесследно, его растворяли мелкие волны кривого, как турецкая сабля, залива.
Почти бесследно исчезли штурман Чуркин и его время, осталась лишь память – внесенные в журналы промеры нескольких бухт, карта Золотого Рога, сухое описание астрономических наблюдений да рисунки постов, поставленных на берегу реки Сунгачи для поддержания связи между Владивостоком и Хабаровском.