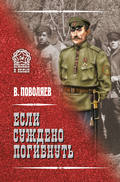Валерий Поволяев
Горькая жизнь
Если этого не сделать, шпала очень быстро сопреет – это раз, и два – если вдруг какие-нибудь проверяльщики вздумают осмотреть уложенную в полотно шпалу и обнаружат такой непрокрас, то неведомого халтурщика искать не станут – сдерут шкуру со всей бригады. Могут припаять любую статью и к тому, что есть, прибавить еще годков десять – пятнадцать, а то и вовсе прислонить к стенке и полить свинцом.
– Оторвал бы я этому работнику все, что растет у него ниже носа, – пробурчал Егорунин, – и чем ниже, тем тщательнее бы провел прополку.
Фыркал, кипел Егорунин, и был прав. Китаев его поддерживал, кивнул, присоединяясь к нему, но в следующий момент, переключая своего напарника на другие мысли, более веселые, проговорил, ни к кому не обращаясь:
– Интересно, за что эта девочка мается в зоне?
Хоть и не обращался Китаев к кому-то конкретно, а знал, что здесь принято ловить каждый звук, каждый шорох, не говоря уже о голосе, каком-нибудь вскрике или стоне – зеки засекают абсолютно все.
– Что, глаз на нее все-таки запал? – сиплым голосом поинтересовался Егорунин.
– Если бы глаз – душа может запасть, – неожиданно высказался Христинин.
– И тогда будет совсем плохо, – Егорунин то ли осуждающе, то ли понимающе покачал головой. – Советую держать себя в узде.
– Эвон! – Китаев хмыкнул. – Ты как «кум», по любому поводу свое мнение имеешь… Знаток человеческих душ! – он снова хмыкнул. – И с каких таких харчей я должен держать себя в узде?
– Это у «каэров»[1] недопустимо, у политических, а у уголовников, например, еще как допустимо, – неожиданно подал голос Брыль, возившийся со шпалой рядом. Одна рука у него была перевязана грязной тряпкой – позавчера сильно ободрал ее, но от работы бывшего «кума» не освободили. Брыль маялся, стонал от боли – одной рукой было трудно управляться. – Как-нибудь я вам расскажу, какая любовь бывает у уголовников на Колыме.
– Ты чего, думаешь, мы не представляем, что это такое? – пробурчал под нос Егорунин. Он был занят делом – прикидывал, как лучше уложить шпалу в готовое гнездо. – Не знаем, думаешь?
– Про такую любовь точно не знаете. Будет время – повеселю, – пообещал Брыль.
Тем временем женская четверка, возглавляемая мужиковатой бригадиршей, подтащила еще одну шпалу, выдернула из нее крючья. Бригадирша оглянулась на ослабшую девчонку, в глазах ее затеплились тусклые свечечки.
Брыль это засек и неодобрительно покачал головой: знал он нечто такое, чего не знали другие зеки из четвертого барака.
Девчонка держалась, кусала зубами губы и, превозмогая саму себя, держалась. Карие глаза у нее поблескивали, как два спелых каштана, но были сухи. Взяла себя в руки, значит, а может, и бригадирша помогла. Китаев глянул на нее и вздернул вверх правую руку с оттопыренным большим пальцем: молодец, мол, держись.
Выпрямился и спросил вслух:
– Все в порядке?
Та молча смежила каштановые глаза: ну будто свет какой прикрыла веками. Бригадирша насупилась и смерила Китаева недобрым взглядом. Китаев перехватил этот взгляд, подивился его суровости.
– Пошли! – бригадирша повела головой в сторону, приказывая девчонке идти перед ней к штабелю шпал, сложенному на обочине насыпи – шпалы привезли ночью и в темноте разгрузили неряшливо, криво-косо. Часть шпал попала в воду, в край сырой лощины, под которой таял лед, на редко росшую кугу – очень противную болотную траву; часть вообще угодила в край болота, и бригадирша со своими подопечными вытаскивала их из рыжей липкой мокреди, сушила.
Халтурную работу, конечно, сделали ночью зеки. С другой стороны, в ночной темени, набитой комарьем, ничего другого они сделать не могли – что смогли, то и сделали.
Девчонка повесила голову и первой поплелась к штабелю шпал. Бригадирша, тяжело измеряя ногами землю, двинулась следом.
Проводив женскую четверку взглядом, Брыль покачал головой:
– Однако!
Впрочем, в слове этом, произнесенном очень негромко, никакого осуждения не было.
Впереди, в сотне метров от участка, на котором работали Егорунин, Китаев, Брыль, Христинин, на насыпи копошилась другая группа – довольно шумная, вольная; трудилась она с матерками да с неприличными частушками. Вохровцы, присматривавшие за этой группой, автоматы держали за плечами, замечаний не делали – мат и скользкие частушки им нравились. Работали там, конечно, не «политики», работали уголовники, а этому расхристанному люду послабления всегда были – особенно когда кто-нибудь из разрисованных наколками быков по тихому приказу «кума» всадит в бок какому-нибудь «политику» заточку и уложит на землю с пронзительным криком:
– Каэровец умирает!
Заточка – инструмент коварный, от удара на теле убитого следа почти не остается, только крохотная красная точка и все, – но ведь такая малоприметная точка может остаться от чего угодно, даже от укуса комара. Поэтому причина смерти того или иного зека будет заключена в короткой реплике-приговоре, который выскажет в бараке «главврач», он же «кум»:
– Сработался фашист, дыхалка кончилась, вот он и лег. Расходитесь, уроды!
Покойника брали за руки-ноги и волокли к сараю или к яме, где сосредотачивались трупы. «Кум» у уголовников был такой же образованный, как и у «политиков».
Неожиданно уголовники, сосредоточившиеся впереди на насыпи, засуетились, сбились в кучу, завзмахивали руками, загалдели. Через несколько минут к ним галопом, нервно стуча каблуками сапог, проскакал «кум», прокричал на ходу яростно, плюясь в обе стороны слюной:
– Разойдись!
Уголовники разом перестали суетиться, вскинулись и застыли, будто пришибленные громом – своего «кума» они побаивались.
– Разойдись! – переходя с крика на задавленное сипение, повторил команду уголовный «кум».
Толпа начала неохотно раздвигаться, обнажила середину – кусок земли, сдавленный шпалами, на котором, раскинув руки в стороны, лежал человек.
– Жмурик, – спокойно констатировал Егорунин.
На фронте ему доводилось видеть много трупов, самых разных, и отличать мертвых от живых он умел с одного беглого взгляда. Наверное, даже с закрытыми глазами мог определять, – как, собственно, и Китаев, и Христинин.
Иногда у мертвого что-то отпускало, срабатывало внутри, и из него лезло все, что он съел и что выпил, – лезло уже переработанное… Таких мертвецов действительно можно отличать по запаху.
Поза мертвого человека сильно отличается от позы живого – то голова бывает словно бы засунута под мышку, ноги перевернуты на сто восемьдесят градусов, глядят задом наперед, то одна нога так переплетена с другой, что кажется – в ней совсем нет костей, или же рука вывернута слишком диковинно – у живого человека она никак не может быть так вывернута.
– Точно. Жмур, – подтвердил Христинин.
«Кум» уголовников неожиданно на бегу выдернул из-за голенища ломик – это была трофейная «фомка», какие попадались в немецких легковушках – и вскинул «фомку» над головой:
– Кому сказали – разойдись!
Уголовники поспешно рванули в разные стороны – видать, ломик, который «кум» таскал в сапоге, был им хорошо знаком.
На земле, поджав под себя ноги в скорбной позе, лежал человек с черным щетинистым лицом и распахнутым ртом, в котором прямо посередине, словно заваливающийся верстовой столб, торчал крупный кривой зуб. Китаев знал его – доводилось сталкиваться. У мертвого была знатная для лагерей кличка Итальянец, хотя зек этот был похож на кого угодно, только не на итальянца. Китаеву как-то рассказали, что звали мертвого Итальянцем по простой причине – на груди у него красовалась странная татуировка – портрет Бенито Муссолини. Неизвестный лагерный художник постарался – портрет этого лысого красавца с бетонной нижней челюстью было непросто вытатуировать на тощем зековском теле.
Но художник – совсем не от слова «худо», а вполне толковый, – постарался: Муссолини был похож на себя. Такое заключение сделали лагерные эксперты, сравнив портрет с физиономией, увиденной на обрывке газеты.
По команде «кума» уголовники вывернули телогрейку Итальянца, натянули мертвому на голову, чтобы не было видно лица и настежь распахнутого рта, подхватили его и потащили в сторону от насыпи.
– На этой дороге будет похоронено людей не меньше, чем на Колыме, – бесцветным голосом проговорил Брыль. – Вот увидите.
– И видеть ничего не надо, и без того все понятно, – сказал Егорунин. – Так оно и будет.
Тут на них вороном налетел бригадир, завзмахивал руками.
– Работаем, работаем, – привычно выкрикнул он, – на мелочи не отвлекаемся.
– Ничего себе мелочи, – отвернув голову в сторону, произнес Егорунин.
Бригадир у них хоть и шипел часто, как Змей Горыныч, увидевший Добрыню Никитича, а все-таки был незлобный, в прошлом – интендант. За что конкретно, за какой антисоветский проступок он залетел в лагерь, не знал никто, даже беспроволочное лагерное радио. А радио это – штука такая, от которой спрятаться невозможно, – все про всех знает и распространяет знания, как круги на воде. Шлепнется камень в воду, круги пустит, всем они видны, все знают биографии друг дружки не хуже «кума», так что польза от лагерного радио кое-какая имеется, но про бригадира – сведений никаких… Звание на фронте у бригадира было высокое – подполковник.
Пока наблюдали, как поехал в мир иной заслуженный зек, четверка женщин подтащила еще одну шпалу, выдернула из нее крючья.
Молодая зечка, глянув на Китаева и едва не растворив его в своих глазах-каштанах, произнесла неожиданно вопросительно, со вздохом посмотрев на мужиковатую бригадиршу:
– Петюня, родненький, может, немного передохнем, а?
Бригадирша вскинулась, топнула ногой, обутой в разбитый ботинок большого размера.
– Цыц, Анька! – громким голосом, в котором слышались встревоженные визгливые нотки, проговорила она, ткнула рукой в группу людей, тащившую мертвого Итальянца. – Тама отдохнем, тама! Поняла?
Значит, зечку с глазами-каштанами звали Аней. И фамилия у нее должна быть явно какая-нибудь простая, глубинная, русская – лицо вон какое, типично нашенское. Такие лица имели люди, жившие в Киевской Руси.
Интересно только, почему Аня назвала свою начальницу мужским именем Петюня? И обращалась к ней, как к мужчине… Что бы это значило?
– Ты, ленинградец, наивен, как ботинки первоклассника, – поддел его Брыль, засмеялся хрипловато, булькающе. – В зоне нельзя быть таким наивным.
– То, что в зоне нельзя быть наивным, я знаю, только вот не знаю, почему я наивен?
– По кочану да по кочерыжке.
– Себе я таким не кажусь.
– Мудрые старики в таких случаях говорят: со стороны виднее.
– Эй, разложенцы! – прикрикнул на них бригадир, – кончай болтовню, иначе в обед мы даже по полпайки хлеба не получим. Ясно?
Чего ж тут неясного? Егорунин поморщился. В природе тем временем что-то сдвинулось, потеплело, сменился ветер и пригнал с юга подогретые пласты воздуха. Вместе с теплом приволоклись и облака – раздерганные, серые, с рваными краями, недобрые.
По всему было видно: изменившийся ветер обязательно натянет дождь, только будет ли этот дождь теплым, как переместившийся на север южный воздух, не знал никто.
В бараке, как и на улице, покоя не давали комары, висели в помещении облаком, нудили своими острыми тонкими голосами, ели всех поедом – изо всех углов слышался мат, – уснуть было невозможно. Разными средствами пробовали отбиваться от комаров – и жидким мылом, уничтожающим лобковых вшей, пробовали мазаться, и вонючим креозотом, пары которого что-то мертво перекрывали в груди – дышать делалось трудно, и керосином, и дегтем – ничего не помогало.
Единственное, чего опасались кусачие летуны – гнилой древесной каши, вытащенной из нутра какого-нибудь дерева – ольхи или старой ели.
Трухой этой заправляли таз и разжигали с большим трудом – сырая липкая труха почти не загоралась, но среди зеков имелись такие мастера, что могли обычную воду обратить в керосин, а мокрую еловую размазню – в горючую немецкую бумагу, пропитанную селитрой. Германские табачники такую бумагу пускали на изготовление сигарет. Именно поэтому трофейные сигареты никогда не гасли – догорали до конца, до самых пальцев.
Чем были плохи чадящие вонючим серым дымом тазы – можно было задохнуться. Утром, если не задохнешься, головная боль обеспечена. Тоже вещь не самая приятная – в затылке стоит неистаивающий чугунный звон, а виски разламываются от сильного внутреннего напора, того гляди, костяшки от такого давления треснут, башка лопнет, как перезрелый гниющий арбуз.
Деревянная конструкция, именуемая нарами, была сколочена в три этажа. С самого верхнего лететь было не очень приятно – можно и костей не собрать. Внизу, на нижнем ярусе, расположился Егорунин – как самый старший и самый заслуженный, среднюю часть занимал Китаев, бывший «кум» Брыль осваивал верхние слои душной атмосферы, кашлял, чихал, переворачивался с боку на бок… Когда переворачивался, вся конструкция скрипела отчаянно, грозя рассыпаться.
– Тихо, тихо, кум, – предупреждал Егорунин снизу сонным голосом, – не развали барак. – Следом раздавался громкий шлепок: бывший орденоносец Егорунин снайперским ударом прихлопывал очередного наглого кровососа. Или двух.
Нары в три яруса – это еще ничего. Вот в соседнем лагере – там дело обстоит хуже. Туда с Большой земли пригнали новую партию, так в полевом бараке поставили пятиярусные нары. Верхний ряд забирается на свои места ползком, потом носом водит по потолку, скребет, оставляя следы, пытаясь улечься потолковее.
Вот если оттуда сверзнется несчастный зек, то остаться целым, неполоманным, у него нет ни одного шанса. А если черепушкой стукнется о какой-нибудь деревянный угол, то и дорога у него будет одна – в общую яму.
– Й-йэх, жисть-жестянка, – скорбно вздохнул Китаев.
Как в мужских лагерях есть петухи – зеки, которых для удовлетворения своих половых потребностей держат более сильные заключенные, так и в женских матерые зечки заводят себе жен. И живут с ними, как мужики с бабами. Об этом Китаев слышал, только не представлял себе, чем одна женщина может увлечь другую и тем более удовлетворить. Что-то тут не сходится, концы провисают.
Словно бы почувствовав немой вопрос, возникший у Китаева, Брыль проговорил шепотом, будто выдавал большой секрет:
– Насчет любви зечки с зечкой существует целая наука, которую никакой академик Павлов не разгадает. Говорят, что одна баба может удовлетворить другую не хуже самого искушенного в этих делах мужика, – Брыль заворочался на верхнем ярусе, закашлялся, выругался. – Вот сучье немытое… Тьфу! Целый десяток комаров проглотил.
– Ну и как, вкусные? – подал голос с соседнего ряда Христинин. Ему, похоже, тоже были интересны рассказы про лагерную любовь, раз он так чутко слушал бывшего лагерного «кума». А «кум», хоть и бывший, знает все из первоисточника, врать не будет.
– Если бы комаров побольше, да подсолнечного масла налить, да жареного лучка добавить – наверное, было бы неплохо.
– Продолжай, чего там еще насчет любви зечек… Как они это делают?
– Да губами трутся о губы.
Христинин недоуменно завозился на нарах.
– Не понял.
– Да не теми губами, о которых ты подумал, дурачок. Клитером трутся о клитер. Что такое клитер, знаешь?
– Более-менее.
– Потом по зоне ходят вместе, как муж с женой, «муж» старается добыть для своей «жены» кусок послаще, зовет ее ластонькой или кралечкой, обнимает при всех и сопит по-козлиному, если кто-то начинает слишком откровенно поглядывать на его «жену» и пускать слюни. Бывает, что дерутся.
– Бабы с бабами?
– Да. И драка эта бывает пострашнее, чем у мужика с мужиком. Крови больше.
– Да ну-у, – недоверчиво протянул Христинин.
– Бьются намертво. Особенно если «жена» молодая да красивая, а «муж» у нее – пахан в женской колонии. Хотя с паханами позволяют себе связаться только новенькие, неопытные, чересчур наглые. Обычно на «жену» пахана не позволяет себе положить глаз даже начальник лагеря. Может только начальник всех лагерей или начальник Дальстроя, как у нас в Магадане. В общем, человек с лампасами и не ниже того.
– Неужели начальник лагеря не может?
– По зековским законам – нет. Иначе получит в бок напильник. Или шило, сделанное из гвоздя. Протыкает насквозь, а крови нет. Был у нас один начальник лагеря, отбил у пахана «жену» – в бок получил заточку. Валялся в госпитале – долго валялся, месяца три. В лагерь уже не вернулся. Отправили его куда-то далеко, на Кудыкину гору, а зеки спустили его с этой горы вниз. Спустили так аккуратно, что костей он уже не собрал. Не выжил.
– Й-йэх, – выплюнул из себя печальный возглас Китаев, перевернулся на бок. – Есть хочется.
– На пятьсот второй стройке, я слышал, совсем другие условия, – пробормотал Егорунин. Он тоже, как и Китаев, начал ворочаться.
Им бы, смертельно уставшим, уже дошедшим до края, видевшим в жизни все, что она могла предложить, изнемогшим от нее безмерно, можно было бы и к «верхним людям» уходить, но все-таки что-то держало их здесь, заставляло мучиться, скрипеть, хватать губами воздух, страдать и сопротивляться смерти.
– На пятьсот второй, сказывают, кашей от пуза кормят. А тем, кто перевыполняет норму, дают еще и мясо, – поворочавшись немного и улегшись удобнее, проговорил Егорунин.
– Господи, я уже и забыл, как оно выглядит и чем пахнет, мясо это, – пожаловался Китаев, затих на несколько мгновений.
– То ли еще будет, – вздохнул бывший «кум» и так резко повернулся на третьей «спальной» полке, что зашатались стойки всей этажерки. Чуть-чуть не рассыпались нары.
– Э-э! – Егорунин повысил голос. – Ты еще не свались на меня… Всех нас укокошишь, сам третьим окажешься. В своей же моче и искупаешься.
– Точно. Ни одного не удастся спасти, – дребезжаще рассмеялся Христинин. – На такую высокую тему разговор шел, и вдруг свалились в лужу мочи.
– Все в жизни говно, – сказал Егорунин, – кроме мочи.
– Если только одна моча – можно стерпеть, – вставил Китаев, – а то в луже мочи почти всегда еще кое-что плавает…
– Все! Спать! – скомандовал Егорунин. Он еще не избавился от фронтовых замашек, при каждом удобном случае старался хотя бы немного покомандовать.
Впрочем, что Егорунин! Фронт сидел в каждом из них, не выветрился и выветриваться будет долго, – ведь половина из них офицеры, когда-то умели хорошо командовать… Впрочем, подчиняться они тоже умели.
Во сне Китаев увидел какую-то странную девушку. Вроде бы и Аня это была, и вместе с тем совсем не Аня. Может быть, Ира Самсонова, ленинградская пассия? У Иры точно такое же удлиненное нежное лицо, что и у Ани, только глаза были другие – серые, дождистые, трогающие за душу, как мелкая частая морось, типичная для питерского климата. Взгляд таких глаз может пробить до костей.
Где она сейчас находится, Ира Самсонова? Наверное, уже вышла замуж и, вполне возможно, нянчит детей – одного или двух.
Сквозь сон Китаев ощутил, что в глотке у него скопилась горечь, твердая, как камень, иссушающая рот, будто черемуховая кора, похожая на… Честно говоря, Китаев не мог определить, на что она похожа, горечь эта. Может, не на черемуховую кору, а на кору осиновую, на второсортный спирт, который в немецкой армии шел на технические нужды, на какую-нибудь обжигающую приправу, очень любимую, например, населением Венгрии…
Но вот глаза у лика-призрака изменили свой цвет, стали яркими, влажными, горячими, как каштаны, снятые с огня… Кто это? Аня?
Ира унеслась в далекое далеко, в серое пространство, в город, где ему, возможно, уже никогда не удастся побывать, никого и ничего увидеть. Он стиснул зубы и проснулся.
Барак был затянут темным вонючим дымом. Китаев мигом очутился на полу, раздвинул дым руками. Горели телогрейки, разложенные на просушку у печи. За ними должен был присматривать дежурный, но он, бедняга, сморенный, сломленный усталостью, уснул, не уследил за зековским имуществом.
Одна из тряпок – видать, основательно была пропитана дегтем – вспыхнула ярко, над ней взвился злой, очень проворный огонь и перескочил на ближайшие нары.
Еще немного и заполыхают не только нары, огнем займется весь барак. Под шумок тут многое можно сделать – и часть колючей проволоки вырезать и нырнуть в жидкий березняк, подступающий к строениям, и разоружить кого-нибудь из охранников, спрятать его винтовку, а затем совершить налет на пищеблок, сожрать все, что там есть, и прирезать десяток остроязыких, очень не нравившихся уголовникам «политиков» – в общем, много чего можно сделать, – и в разборке, которая потом будет проведена обязательно, пострадает едва ли не весь состав четвертого барака. Вместе с «кумом», между прочим.
– Пожа-ар! – что было мочи закричал Китаев.
Кричать надо было в полную силу, чтобы крик этот был слышен в Воркуте, иначе усталый барак не проснется. Продолжая кричать, Китаев бросился к нарам, под которые нырнул огонь, засек, что из-под нар, откуда-то снизу, чуть ли не из подполья прорывался огонь. Что-то там нервно дергалось, трепетало, устремлялось вверх, на свободу, желало вцепиться в промасленные штаны, в матрас, в сонную человеческую плоть.
– Пожа-а-ар! – продолжал вопить Китаев. Выволок из-под нар горящую тряпку, затоптал ее ногами, потом содрал с перекладин, пристроенных к печке, одежду, косо и, как оказалось, опасно висевшую над полом, – часть одежды тоже горела. Китаеву помогал очнувшийся дежурный – бледный, с трясущимися от растерянности руками и съехавшим набок ртом: понимал человек, что с ним после всего этого сделают.
На нарах, в дымной полутьме, начали шевелиться люди.
Самое интересное, что зек, лежавший рядом с печкой – тот, у которого чуть не заполыхали нары, – даже не пошевелился, продолжал спать, задрав большой горбатый нос, словно бы собирался дотянуться им до человека, расположившегося в среднем отделении, либо клюнуть в потемневшее влажное дерево. Может быть, он был мертв?
Проверять это было некогда.
Китаев ухватил тлеющую телогрейку, швырнул себе под ноги, запрыгал на дымной, плюющейся красными искрами вате, задавил пожар.
– Кто-нибудь дверь откройте! – прокричал он в шевелящееся темное пространство, такое плотное, что его, наверное, можно было резать ножом. – Откройте двери!
Китаева услышали невидимые зеки и по тому, как дрогнула, а затем зашевелилась, кренясь на одну сторону, клубящаяся масса, стало понятно – двери барака распахнуты… Наконец-то.
Перед глазами все плыло, в ушах стоял звон, сердце, кажется, стронулось с места и непонятно было, где оно сейчас находится: то ли в пятках, то ли в глотке, то ли вообще нырнуло куда-то в штаны и запуталось в складках ткани, найти его совершенно невозможно. Дыхание прилипало к зубам, к небу, обжигало ноздри. Пальцы, прихваченные огнем, горели. Руки придется перевязывать, иначе шпалы стешут мясо до костей.
Из дыма, с трудом раздвинув его руками, вытаял пахан из соседней бригады, сутулый, с разъяренным квадратным лицом и редкими ощеренными зубами. Дежурный, которому надлежало следить за печкой, был из его бригады. Увидев бригадира, он вытянулся перед ним, словно новобранец перед генералом – побаивался бригадира.
– Что ж ты, с-сука, – начал было бригадир, но что-то внутри у него сорвалось, он прервал мораль, которую начал читать и всадил кулак в челюсть дежурного.
Бил, похоже, не сильно – у того челюсть только лязгнула, будто паровозный сцеп, но зубы не посыпались… А вот на ногах дежурный не удержался, свалился на пол.
– Тьфу! – отплюнулся бригадир и проговорил с неожиданной болью: – Как же мне тебя от беды теперь отмазывать, а?
В дыму ругались, кашляли, сопели проснувшиеся люди, кто-то с ошалелым видом налетел на Китаева, но в следующий миг унесся в сторону – его отшвырнул бригадир, примчавшийся наказывать своего подопечного.
– Смотри, брат, как бы на тебя кто не накинулся, – предупредил бригадир Китаева. – Часть людей тут без штанов осталась, – квадратное лицо бригадира перекосилось в неожиданной ухмылке. – А когда крендель нечем прикрыть, знаешь, как человек может обозлиться?
Это Китаев знал, согнулся в рвотном приступе – дым, которого он наглотался по самый вентиль, начал, кажется, проедать дырку в желудке.
– Гхы, гхы…
– Топай на свои нары, если сможешь, – сказал ему бригадир, – я тут дальше один буду разбираться.
Бригадир был здоров, как трактор, мог запросто справиться с тремя-четырьмя зеками, даже крайне обозленными.
Во всяком лагерном сообществе – и у уголовников, и у «политиков» – обязательно есть свои старшие, паханы, которых в лагере уважают не меньше, чем начальника какого-нибудь Лагстроя, чьи портки украшены лампасами, а на погонах вместо лычек – позумент.
Паханы уголовников ходят со свитами, сопровождающие их урки могут прибить кого угодно, даже «кума», особенно если это прикажет сделать пахан, и всякий «кум» это знает, и на пахана никогда не поднимет руку, поскольку понимает, что тот почти всегда (а точнее – всегда) окажется сильнее его.
Кто был паханом у «политиков» четвертого барака, Китаев не знал, но он точно был, и порядок наводил, – но так аккуратно и так неприметно, что «политики» никакого давления на ощущали.
Однажды Китаеву сообщили, что пахан в их бараке – русский с горской фамилией Хотиев. Китаев посмотрел на Хотиева оценивающе – ничего выдающегося. Ни на уголовника, ни на «политика» не похож, невысокого роста, очень спокойный, с неторопливыми движениями, говорит мало, иногда возникает впечатление, что он вообще не умеет говорить…
В следующий раз во время перекура Китаев сказал тому «информатору»:
– Нет, пахан у нас не Хотиев.
– Хочешь верь, хочешь нет – это твое дело, – «информатор» хмыкнул.
Потом на Хотиева указал Христинин.
– Слушайся этого человека, как папу с мамой, Вольдемар. Это пахан.
– Быть того не может!
Христинин усмехнулся едва приметно, только уголки рта дрогнули. Засунул руку в карман и достал оттуда штуку совершенно неожиданную, в лагерных условиях забытую – фотокарточку.
Протянул плохонький покоробленный снимок Китаеву.
– Смотри!
На снимке был изображен Хотиев – много моложе нынешнего Хотиева, без седины в голове, подтянутый, в отутюженной гимнастерке с полковничьими погонами, при орденах, над которыми поблескивала звездочка Героя Советского Союза.
Не удержался Китаев, ахнул восхищенно. А с другой стороны, чего так бестолково охать-то? Раз заслужил звезду – значит, достоин ее. Кто-то, а фронтовики хорошо знают, чего стоит такая награда, заработанная в боях, сколько крови собственной и пота на нее надо потратить – не сосчитать, поэтому всегда готовы ему подчиняться и признавать его верховенство.
– Что, не веришь? – спросил Христинин.
– Верю.
Потери четвертого барака в ночном пожаре были велики – пять человек не проснулись. Их отнесли в яму, выделенную под кладбище, и трофейный бульдозер своим широким лемехом надвинул на тела большой ворох земли.
Суровому бригадиру не удалось защитить своего подопечного-дежурного – за ним пришли три здоровых, с красными, пропитанными алкоголем лицами вертухая и увели. Жалко было несчастного зека, виновато сгорбившегося, всхлипывающего, с тощей шеей и тощими руками…
Больше никто его не видел – охранники отвели его к могильной яме, на обочине которой стоял бульдозер, и втихую, чтобы никто не засек и никто не услышал, накинули ему на шею удавку, сделанную из гитарной струны. Затянули ее, подождали, когда бедняга перестанет трепыхаться, а потом спихнули в траншею: спи спокойно, дорогой товарищ.
На следующий день у своего железного коня появился бульдозерист – вольнонаемный передовик производства, заспанный донельзя. Завел мотор машины, и от вчерашнего дежурного не то, чтобы следа, даже намека на то, что он был, существовал когда-то, не осталось.
Впрочем, осталось другое, более долговечное и существенное – память. Говорят, что на фронте этот осунувшийся, потерявший себя человек – одни кости да кожа остались – был геройским командиром взвода. Награжден был орденом и двумя медалями.
Утром Китаев смазал руки вазелином, который ему дал Егорунин, намотал на пальцы бинты, оторванные от старой простыни, и встал на свое место в колонне. Когда колонну привели на рабочее место, Китаев огляделся: а где тут бригада, именуемая женской, и девушка с глазами, похожими на горячие каштаны?
Народу было много – столько, что и глазом не окинуть: под каждым кустом, в каждом углу, около каждой шпалы копошились люди – ото дня в день стройка росла, становилась многолюднее, колонны подваливали одна за другой. Каждый день, каждую неделю.
Нет, искать Аню в этой несмети людей бесполезно.
– Навались! – прозвучала команда бригадира, и Китаев, морщась от боли в руках, всадил крюк в черную, дурно пахнущую плоть шпалы. Впрочем, он и сам, наверное, пахнет так же дурно.
При такой работе надо мыться каждый день, а то и несколько раз на день, у них же если получается раз в неделю, то очень хорошо, на деле же в примитивную, наскоро сколоченную на трассе баню водят раз в десять дней, иногда – раз в две недели. Такова лагерная жизнь.
Шпала на этот раз попалась старого завоза, из дерева более тяжелого, чем те, что поступали в предыдущие дни; эта шпала была, наверное, довоенного производства – дорога сейчас съедает все заначки, все, что было схоронено хозяйственниками на крайний случай. Крайнего случая не было, поэтому пришлось расставаться с припасенным добром.
Начальник пятьсот первой стройки Успенский – мужчина суровый. Каждому, кто вставал у него на пути, он грозил, стискивая зубы:
– Ты у меня еще пожалеешь, что появился на белый свет, понял?
Слово с делом у полковника обычно не расходилось – обещанное он выполнял. А уж количество зеков, которых он швырнул в яму и засыпал землей, перевалило, говорят, за тысячу пятьсот[2]. Хорошо, что на стройке он бывал не каждый день, весь надзор осуществлял главный инженер – интеллигентный очкастый полковник. Точно это или нет, проверить трудно, но Китаев в эту цифру верил – видел несколько раз Успенского вблизи и хорошо сориентировался, понял, что это за зверь.
На уложенные шпалы сыпали песок и щебень – в дополнение к тому, что уже было насыпано, – и шли дальше; несколько дней подготовленный под рельсоукладку участок стоял, обдуваемый ветрами, «устаканивался», как привыкли говорить уголовники, потом на шпалы стелили рельсы и пускали паровоз.
Паровоз, который потихоньку ездил взад-вперед, играл роль трамбовочного механизма, осаживал насыпь, уплотнял ее, ревел оглашенно, распугивая куропаток, оленей, регулярно появлявшихся вдали, чтобы подивиться всему происходящему здесь, отгоняя гнус… Очень уж этой вредной мошке не нравился паровозный дым…
Отвратительная штука – эти мелкие, как пшено, насекомые, которых люди здесь проклинали каждый день. Нападали они беззвучно и грызли, грызли все живое, способное насытить их кровью. Зовут это проворное пшено еще мокрецом, но самое распространенное, самое точное словечко, которое известно широко, от Кенигсберга до Анадыря с Уэленом – конечно же, гнус.