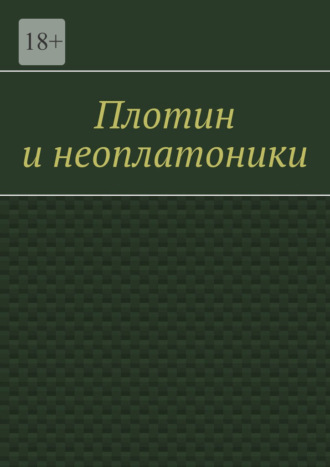
Валерий Алексеевич Антонов
Плотин и неоплатоники
Общей основной чертой иудейско-александрийской философии религии, неопифагорейства и пифагорейцев-платоников в манере Плутарха и Нумения является то, что они низко ценили воздействие, отождествляли его с нечистым, дурным, даже злым и, возможно, даже отрицали его существование в смысле действительно существующего бытия вообще, а истинное бытие и центр тяжести реальности переносили в сверхчувственную и сверхъестественную сферу. Это резко контрастировало с великими школами постклассической философии, в частности со стоиками и эпикурейцами, которые, напротив, объявляли чувственно-материальную реальность единственной реальностью, материализовывали духовное и исповедовали решительно натуралистическое, даже материалистическое мировоззрение. И это мировоззрение также положило конец нападкам скептиков на знание. Ведь скептическая критика, как я уже говорил, была направлена исключительно против истинности чувственного восприятия и основанного на нем понимания; она предполагала единственную реальность материальной природы; она утверждала, что невозможно познать мир, состоящий из физических объектов.
Но что, если реальность вовсе не материальна, если чувственному познанию, таким образом, отказано в его исключительной обоснованности? Тогда философия, очевидно, перешла в ту область, где скептицизм в его прежней форме уже не мог ее коснуться. Материализм постклассической философии превратился в идеализм, и Платон, которого стоики и эпикурейцы считали уже побежденным, снова занял господствующее положение: истинное бытие есть духовное бытие; природное бытие есть лишь несовершенное отражение, помутнение, отпадение истинного от его действительной сущности. Только мысль, идея обладает подлинной «реальностью и принадлежит к сфере сущности; субстанция же есть простое отрицание истинного, нереальное в смысле чего-то не имеющего сущности.
Перед нами снова старое основное воззрение платонизма, но теперь оно приобретает такую форму, которая превращает его в нечто совершенно новое и возносит позднегреческую религиозную философию на вершину античной философии в целом. Платон, как уже говорилось, рассматривал сами идеи как нечто независимое и конечное, нечто существующее само по себе, и находил в них глубочайшую основу реальности. Хотя эта философия была согласна с Платоном в переносе центра тяжести бытия из природной в умопостигаемую сферу, она считала Идеи лишь мыслями, качествами и определениями божества и тем самым лишала их самостоятельного значения. Для Платона Бог также был лишь одной идеей среди других, высшей идеей, идеей блага, поскольку она включает в себя совокупность всех других идей, определяет ранжирование идей в зависимости от аспекта их телеологической детерминации и тем самым устанавливает степень их совершенства. Для неопифагорейцев, пифагорействующих платоников и александрийцев, напротив, благо также совпадает с Богом, но, согласно им, благое божество само по себе не есть идея, а стоит позади и над всеми идеями; они, однако, не являются высшим и действительным бытием, а несут в себе последнее, которое как таковое принадлежит только божеству. Во всех них так характеризуется основная религиозная черта эпохи с ее тоской по божественному; и все философы, принадлежащие к этой группе, имели в виду в своих дискуссиях не теоретическую цель постижения мира, а практическую цель его искупления.
Для такого определенно религиозно-практического направления, конечно, была слишком очевидна опасность отодвинуть научный момент на второй план, стряхнуть, насколько это возможно, ограничения диалектики и методологии и полностью уйти в царство мистики и суеверий. Стоики, эпикурейцы и скептики также находили фокус своих исследований в практическом и в конечном итоге хотели лишь дать «инструкции для блаженной жизни». Но все они по-прежнему верили в то, что источник спасения находится в самом человеке, в его способности выковать свою судьбу и утвердить себя в борьбе с превосходством внешней реальности. Научный дух классической философии Платона и Аристотеля, как правило, был еще слишком жив в них, чтобы слишком далеко отклониться от верного пути методичного познания. В поздней греческой философии религии этого духа уже не было. Она больше не верила в возможность самоискупления человека. Так же как она считала, что оно должно основываться на чудесном акте божественной благодати, действующей на человека извне, она ожидала обогащения теоретического знания только от влияния откровения; и поскольку она уже не могла различать между бытием и видимостью, между реальностью и воображением, с прогрессирующим одичанием духов и упадком научного мышления, она тоже была охвачена ведьмиными шабашами всеобщей путаницы понятий. Дикая фантазия, лишенная дисциплины и сдерживания, начала зарастать всеми теоретическими объяснениями.
Всякая объективность исчезла под ядовитым дыханием восточного символизма. На место понятия стала приходить пышная образность. То, что у Платона было осознанным мифом, в зависимой от него религиозной философии становилось все более и более вещью. Утомленная научная мысль тщетно восставала против растворения своего содержания в символах, аллегориях и мифах. Источник диалектического развития иссяк. Понятия превращались мыслителями в реальные личности и самостоятельные сущности. Но в пробелы их знаний, признать которые у них не хватало ни сил, ни научной серьезности, хлынули мутные потоки суеверного фантастического мира, грозя смыть даже последние остатки благоразумия. Еще несколько шагов по этому пути, и античная философия была полностью поглощена хаосом религиозного натурализма, из которого она так кропотливо выбиралась.
То, что этот конец наступил не так скоро, что дух древнего эллинизма, который с тех пор, как Александр впервые вывел его на простор и величие, неуклонно шел вниз и все больше терял себя в результате смешения с иноземными, особенно восточными элементами, что этот дух вновь обрел силу подняться до действительно значительного философского достижения и что конец все еще откладывался, – заслуга той философской школы, которая сделала клич «Назад к Платону! « в качестве своей отличительной черты, и которая по этой причине известна как школа неоплатонизма.
Первый раздел. Родина и происхождение Неоплатонизма
I. Духовная жизнь в Александрии
Неоплатонизм имеет свою первоначальную родину в Александрии. Основание великого македонского царя, резиденция и питомник Птолемеев, любивших искусство и образование, была самым мощным торговым городом поздней античности, рядом с Римом – самым влиятельным городом Средиземноморья, а по интеллектуальному значению превосходила даже центр римского мирового господства на Тибре. Расположенная как бы посередине между ними, Александрия играла роль посредника между древней культурой восточных народов и народов Запада, между эллинами и варварами, благодаря своей торговле, а также интеллектуальным стимулам, которые исходили из этого космополитического города, и была центром всех уравнительных и универсалистских тенденций античности, особенно благодаря смешению народов со всего мира, которых объединяла здесь торговля. Все новшества в жизни и науке, независимо от их природы, находили наиболее благоприятную почву для своего появления и распространения в интеллектуально активном населении этого города, в котором греческий элемент задавал тон. Александрия была центром античной образованности. Здесь находилась самая большая библиотека в мире. Здесь самые знаменитые ученые преподавали в музее, самом выдающемся университете, используя все доступные на тот момент научные пособия, такие как обсерватории, ботанический и зоологический сад и т. д. Здесь, как нигде, методично и точно велось познание мира опыта.
Наибольшей известностью пользовалась александрийская математика. Под влиянием и благодаря мудрости египетских жрецов, чей престиж уже заманил Солона, Фалеса, Пифагора и Платона в страну чудес пирамид, эта наука пережила свой наибольший расцвет в Александрии в эпоху античности. В Александрии, в числе первых Птолемеев, Евклид около 300 года до н. э. написал первый учебник по математике, который сохранил свою репутацию и по сей день. Именно здесь Архимед из Сиракуз (287—212 гг. до н. э.) получил самое важное вдохновение для своих эпохальных работ по кругу, сфере и цилиндру, а также для фундаментальных открытий законов статики, гидравлического давления, удельной силы тяжести, рычага и т. д. Аполлоний Перганский также отличился как математик благодаря своей теории конических сечений, а Герон и Ктесибий преуспели в механике, первый – благодаря исследованию силы пара и давления воздуха и изобретению военных машин и всевозможных автоматов, второй – благодаря созданию гидравлического пресса, водяных часов и пожарной машины.
Астрономия всегда была тесно связана с математикой в Александрии. То, что египетские и вавилонские жрецы изучали, наблюдая за небом, греки собирали, просеивали, систематизировали и перерабатывали в дальнейшие открытия. Помимо Евклида, знаменитый Аристарх Самосский преподавал в Александрии около 280 года до н. э. и, следуя пифагорейским догадкам, утверждал, что Земля и другие планеты вращаются вокруг Солнца, тем самым предвосхитив огромное достижение Коперника, хотя и не добившись успеха в своей точке зрения. Кроме него, особенно отличился Гиппарх Никейский (во второй половине II века до н. э.), составивший звездный каталог и открывший движение равноденствий, а Клавдий Птолемей обобщил работу своих предшественников около 150 года н. э. в своем великом руководстве по астрономии, которое оставалось авторитетным на протяжении всего последующего периода вплоть до Коперника и поддерживало славу александрийских исследований на протяжении всего Средневековья.
Помимо астрономии, в Александрии увлекались и географией. Птолемеи соперничали с Селевкидами из Антиохии в том, чтобы сделать наблюдения и знания о чужих землях, морях и народах, полученные во время великих завоеваний Александра, плодотворными для науки и расширить их с помощью новых географических экскурсий, специально оборудованных для этой цели. Эратосфен из Киринеи (2.76—194 гг. до н. э.), в равной степени выдающийся географ, математик, астроном, грамматик, историк литературы и поэт, уже составил первый проект карты Земли и переработал географию на основе представления о шарообразной форме Земли; а ученые Александрии неустанно занимались научной обработкой накопленных в библиотеках отчетов по географии и этнологии.
Кроме того, александрийская медицина всегда пользовалась большим уважением. Александрийская медицинская школа своими достижениями превзошла две ранее наиболее известные школы – Книдоса и Коса, к которым принадлежал великий Гиппократ. В лице Герофила при первом Птолемее она стала обладателем одного из величайших медицинских гениев древности. В Александрии с равным мастерством занимались анатомией и хирургией. Вопрос о том, что должно быть решающим фактором в медицине – общетеоретические рассуждения или наблюдения и практический опыт, – был предметом самых жарких споров между так называемыми «догматическими» и «эмпирическими» врачами.
Однако все эти важные достижения в области точных наук почти затмили в памяти более поздних времен ту славу, которой смогли добиться александрийцы в области филологии, грамматики и истории литературы. Две библиотеки – в Брухиуме и в храме Сераписа – предоставляли почти неизмеримые ресурсы для научных исследований; и бесчисленны были ученые, которые пытались просеять и обработать интеллектуальные сокровища, накопленные в них. Во главе библиотек стояли такие люди, как Зенодот и поэт Каллимах, составившие великий каталог. Аристофан Византийский и Аристарх Самосский во втором веке до нашей эры вместе с Эратосфеном стали основоположниками научной филологии. Дионисий Фракиец написал первую греческую грамматику; и в то время как текстовая критика занимала большую часть александрийской учености, другие работали, комментируя произведения поэтов и философов, особенно Платона и Аристотеля, собирая и интерпретируя мифы существующих религий и научно анализируя и определяя самые разнообразные аспекты человеческой культуры на основе их опытного исследования. – Однако к моменту возникновения неоплатонизма в Александрии александрийская наука уже не достигла своего былого расцвета. Общий упадок научной мысли давал о себе знать и здесь, а также поколебал строгость точной методологии. В естественных науках угас прежний энтузиазм, благодаря которому в прошлом были достигнуты столь поразительные результаты. Шаги точных исследователей стали бесцельными и неуверенными. Результаты эмпирического знания смешались с мутными фантазиями суеверий. Они уже превратили астрономию в астрологию, химию – в алхимию, а физику – в сомнительное соседство с магией и мантикой. Но и филология александрийцев зашла в тупик. Рвение к исследованию древних писателей, объяснению их произведений и созданию правильных текстов еще не угасло. По-прежнему хватало людей, которые были украшением своей науки; более того, возможно, активность в этой области никогда не была столь велика, как на рубеже третьего века нашей эры. Однако на всех этих начинаниях уже поселилась плесень мертвой учености, суеты и деятельности без цели и смысла, которая и по сей день выводит александрийскую ученость из разряда почетных титулов и превращает «александрийство» в обозначение бездумного собирательства, научного педантизма и бесплодных ученых препирательств.
Для философии вся эта филологическая ученость была особенно актуальна, поскольку поддерживала живую связь с ранними мыслителями. Спор, разгоревшийся среди платоников и перипатетиков в Афинах во II веке о сходствах и различиях между Платоном и Аристотелем, оживленно обсуждался и александрийскими филологами. Они и здесь стремились прийти к окончательному решению, как можно точнее определив текст и смысл слов обоих философов. Конечно, в Александрии не было недостатка в тех, кто, подобно перипатетику Алкиною, отдавал предпочтение согласию двух философов перед их противоположностью и тем самым поддерживал идею детального философского воплощения синтеза двух мыслителей. Ведь одно из любимых мнений всего этого периода, повсеместно стремившегося к примирению противоположностей и согласованию, заключалось в том, что даже две величайшие философские системы прошлого не могут в корне противоречить друг другу. Таким образом, именно на Ниле мысли людей особенно живо волновали фундаментальные вопросы прежней философии; более того, философская увлеченность ими означала, что и другие выдающиеся мировоззрения прошлого обрели здесь новых приверженцев, что старый Гераклит был возрожден, а Пифагор, благосклонный к александрийской математике и египетским мистериям, возможно, имел в Александрии самых восторженных последователей.
Конечно, в таком городе, как Александрия, были представлены и постклассические системы. Хотя они уже не имели теоретической подготовки, да и вряд ли были пригодны для такой подготовки, они все еще оказывали большое практическое влияние. Наряду с эпикурейцами, для которых философия часто служила лишь прикрытием и оправданием их чувственного гедонизма и легкомыслия, последователи Стоа старались поддерживать интерес к своему серьезному и полнокровному взгляду на жизнь. В Александрии в I веке н. э. Энесидем развил пирроновские аргументы против возможности познания и оставил после себя в широких кругах настроение, склонное к скептицизму. Здесь, среди многочисленных евреев великого торгового города, происходило впитывание эллинских идей в их веру, что привело к внутренней трансформации и дальнейшему развитию иудейской религии и позволило ей вступить в конкуренцию с другими существующими религиями. В Александрии был переведен на греческий язык Ветхий Завет, который впервые познакомил древних с монотеистической концепцией Бога и дал толчок попыткам философов сформулировать единство и сверхъестественность Бога более решительно, чем прежде. В Александрии жил еврей Аристобул, который сознательно стремился объединить иудейский монотеизм с греческой философией, особенно с Пифагором и Платоном, и придерживался мнения, что идеи этих двух философов, да и гомеровские и орфические доктрины богов, были всего лишь заимствованиями из Моисеева и пророческого писания. В александрийском иудаизме персидско-иудейская концепция Слова слилась со стоической концепцией Логоса и Мудрости (ao^ta) и египетской концепцией Хнума (Мент-Харсеф), второго члена египетской триады богов (Амун-Хнум-Кнеф), и Мудрость выросла из простого атрибута Бога в независимый метафизический принцип, посредничающий между трансцендентным Учителем и миром. Наконец, Филон, важнейший представитель всего этого направления, объединил ветхозаветную концепцию Бога и жизни с платоновской философией в целостное религиозно-философское мировоззрение, которое в определенном смысле должно было стать образцом для всей философии религии последующего периода.
Но Александрия также достаточно часто становилась колыбелью более глубоких религиозных начинаний в античности. В городе, где сходились почти все культы тогдашнего мира и где царила самая полная свобода религиозной практики, не могло не быть так, что его последователи побуждали друг друга к размышлениям о последних вещах, а рассуждения об отношениях человека с Богом, о судьбе человеческой души и т. д. вызывали самый глубокий интерес. Задумчивый дух египетского населения способствовал мрачному и беспросветному взгляду на жизнь, что особенно культивировалось в многочисленных тайных культах и аскетических религиозных сектах египтян. В Египте эллинский бог неба слился с богом царства мертвых и образовал Сераписа, бога спасения и искупления, чей храм был одним из самых величественных зданий в Александрии и в поклонении которому эллины и варвары объединились в едином порыве. Неудивительно, что христианство также нашло благоприятный прием в Александрии во втором и третьем веках, после того как, согласно легенде, оно было принесено сюда Марком. Влиятельная школа катехизаторов, основанная Пантаеном в явной оппозиции языческим школам и возглавляемая такими людьми, как Климент (около 200 года) и Ориген, работала здесь над философским обоснованием нового учения, над примирением иудейского взгляда на христианскую историю с эллинским пониманием разума, веры и знания, и знала, как привлечь к христианству новых последователей с помощью ревностной пропаганды. И здесь, как и везде, уже шла борьба между Церковью и тем великим религиозно-философским движением, которое стремилось преодолеть дуализм всего прежнего образа мыслей путем слияния христианских истин веры с восточной мифологией и греческим умозрением и создать на христианской основе универсальное религиозное мировоззрение, отменяющее истинность всех существующих религий и философий. Этим движением стал гностицизм.
Василид и Валентин, два главных представителя гностической теософии, жили в Александрии в первой половине II века и разработали здесь свои особые системы, в которых они ставили веру за знанием (гнозисом) и прославляли только последнее как идеально искупительный принцип. Их замысловатое учение об эонах, с помощью которого они пытались преодолеть разрыв между неизреченным единым божеством и материальным, отличалось от других подобных попыток лишь большей авантюрностью, безудержной фантазией и прихотливой игрой с самостоятельными и персонифицированными метафизическими понятиями. Их аллегорический способ толкования Священного Писания, их умозрительный взгляд на историю, которую они напрямую связывали с божественными силами и понимали как земное отражение метафизических событий, едва ли были чем-то особенным для того времени, лишь постепенно отличаясь от христианского отношения к Священному Писанию и мифологии и в некоторой степени уже предвосхищая иудейско-александрийскую религиозную философию. Но главным способом, благодаря которому гностицизм приобрел приверженцев и вступил в опасное соперничество с Церковью, был его явный уклон в сторону древних мистерий, предпочтение таинственной культовой символики и обещание сверхъестественных сил и божественных озарений, которые не переставали производить впечатление на суеверные натуры и слишком легко привлекали на сторону гностицизма тех, кто верил в откровение и был приверженцем чудес. —
Такова была интеллектуальная жизнь Александрии, когда в первой половине третьего века нашей эры появился философ, который привлек внимание своими личными способностями и прежним положением в жизни и вскоре затмил других философских учителей Александрии, став основателем своей собственной новой философской школы. Аммоний, как видно из его фамилии «Саккас», когда-то был разносчиком мешков. Сын христианских родителей и воспитанный ими в христианстве, он вернулся в язычество после того, как «вкусил философии и разума», как сообщает доктор Церкви Евсевий. Поэтому он, должно быть, не нашел многого в учениях христиан того времени, что в любом случае является неплохим свидетельством его философского таланта. Поскольку сам он ничего не оставил в письменном виде, а сведения о нем крайне скудны и расплывчаты, нам остается полагаться лишь на предположения относительно его мировоззрения. Предполагают ли некоторые, например Кирхнер4, но оспаривают Целлер5 и Рихтер6, что реальное философское достижение Аммония, как утверждает Гиерокл, было основано на систематическом объединении Платона и Аристотеля и что он сам уже реализовал этот синтез в его важнейших пунктах. Если Рихтер выделяет религиозный энтузиазм как основную черту его мысли и считает, что из эпитета Аммония «θεοδίδακτος» он может вывести непосредственное видение Бога в мистическом экстазе,7 то это предположение опять же подвергается сомнению Кирхнером8; и также нет оснований для того, чтобы отважиться на какое-либо определенное мнение в этом направлении.
С определенной долей вероятности можно утверждать, что основная идея неоплатонизма, а именно возвращение к платоновскому метафизическому идеализму для преодоления споров между школами и уныния скептицизма, в основе своей инициирована Аммонием. Возможно, он также подчинил мир идей верховному божеству, находящемуся за пределами всякого обыденного мышления и бытия, предположил постепенное нисхождение от Единого и мира идей к чувственной реальности и противопоставил эту систему мысли как выражение эллинского духа восточному семитскому христианству и, в частности, фантастическим спекуляциям гностицизма с его авантюрным искажением всей платоновской мысли.
Невозможно сказать, насколько далеко он зашел в своих рассуждениях и насколько методично подошел к решению поставленной перед ним задачи. Предположительно, в своей чисто устной манере преподавания он ограничивался лишь намеками и указаниями и оказывал свое огромное влияние скорее благодаря своей выдающейся личности и стимулирующему диалогу, чем путем самостоятельной разработки нового принципа. В любом случае он представал перед своими учениками как совершенно независимый и своеобразный мыслитель, как человек, который шел своим собственным путем в понимании и объяснении Платона и который был способен вдохновить своих учеников в высокой степени великолепием аттической мудрости. Тот факт, что его учениками были Кассий Лонгин, самый известный грамматик и самый проницательный критик своего времени, а также Плотин, говорит о его интеллектуальной значимости; похоже, что учитель церкви Ориген также некоторое время сидел у его ног, наряду с другим, так называемым неоплатоником Оригеном, и ковал в мастерской мысли Аммония свое оружие для защиты христианства от его философских нападок и презрителей.







