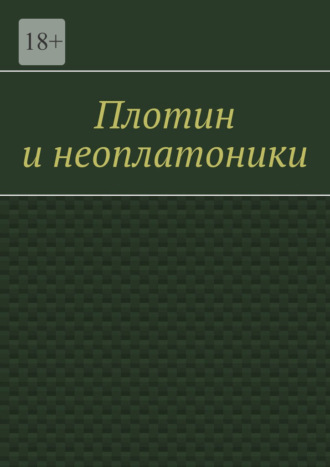
Валерий Алексеевич Антонов
Плотин и неоплатоники
Переводчик Валерий Алексеевич Антонов
© Валерий Алексеевич Антонов, перевод, 2024
ISBN 978-5-0064-8284-5
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Георг Мелис (1878 – 1942)
Плотин
[Учебник по философии истории]
Предисловие
Философия Плотина стала предметом сравнительно небольшого числа монографий. Если старые историки философии, такие как Брюкер, Теннеманн и Тидеманн, не смогли даже понять дух этого мыслителя, и даже Риттер по существу повторил обвинения в его адрес со стороны рационализма Просвещения, то Гегелю принадлежит заслуга борьбы с рационалистическими предубеждениями против Плотина и первого подчеркивания важности его философии. Однако даже он еще не оценил истинного величия Плотина, а его предпочтение неоплатонику Проклу из-за некоторых формальных сходств между этим мыслителем и его собственной философией отвлекло внимание следующего периода на Прокла и привело к неоправданному отстранению Плотина. Таким образом, только в третьем томе своей «Философии греков» 1852 года Целлер впервые дал действительно полное и всестороннее изложение основных идей Плотина и, с присущей ему объективностью и исторической справедливостью, попытался определить его место в развитии античного мировоззрения. Конечно, он не освободился от старой гуманистической точки зрения, что это развитие достигло своего пика в Платоне и Аристотеле, а все последующее было лишь более или менее глубоким упадком и распадом, и в этом смысле он также осуждал Плотина. Он также недооценил фундаментальный контраст Плотина с послеаристотелевской философией в целом и недостаточно подчеркнул оригинальность достижений этого философа, особенно в сравнении с Платоном. Однако, учитывая зависимость всех последующих историков античной философии от его работ, он своим изложением создал представление обо всем последующем периоде и тем самым восстановил недооценку Плотина по отношению к его предшественникам. И даже интерес к Плотину, возникший в 1850-1860-е годы и породивший ряд выдающихся публикаций по его философии, не смог изменить ситуацию.
Помимо небольших трактатов, особого упоминания в этой связи заслуживает работа Карла Германа Кирхнера «Философия Плотина». Она была опубликована в 1854 году по инициативе конкурса, организованного Берлинской академией в 1847 году, и содержит прекрасное изложение своего предмета, а также остроумные замечания по отдельным специальным вопросам, касающимся плотиновской философии. Несмотря на очевидное стремление к справедливости по отношению к философу, Кирхнер и в этом отношении сильно отстает от истины, и против его взглядов приходится возражать в деталях. Задача, которую поставил перед собой Артур Рихтер в своих «Неоплатонических исследованиях», состояла в том, чтобы устранить эти недостатки своих предшественников и показать Плотина в его истинном величии и в то же время в его актуальном значении для современной спекуляции. Они были опубликованы в пяти отдельных томах в 1864—67 годах, первый из которых посвящен жизни и интеллектуальному развитию Плотина, второй – учению Плотина о бытии и метафизическим основам его философии, третий – теологии и физике, четвертый – психологии и пятый – этике Плотина. Нельзя отказать автору в усердии, тщательности исследований и увлеченности своим предметом. Однако единая картина плотиновской философии с самого начала исключалась из плана его исследований, а пристрастие автора к христианскому догматическому мировоззрению часто мешало ему найти правильную позицию в отношении Плотина. Рихтер раскрыл мотив, который привлек умы к Плотину в вышеупомянутый период и спровоцировал более живое участие в его философии, а именно «основание и развитие идеалистического мировоззрения, которое идет рука об руку с фундаментальными истинами Евангелия», как это в целом желали представители к чему, как правило, стремились представители спекуляции в период расцвета материализма в Германии. То, что эта тенденция, для которой пытались сделать античного мыслителя полезным, не способствовала повышению его авторитета среди непредвзятых умов, пожалуй, не нуждается в дальнейшем обсуждении. Возникновение неокантианства в конце шестидесятых годов, общее презрение, которому подверглись все спекуляции в результате доминирования скептических, агностических и позитивистских тенденций в философии последнего человеческого века, также угасило интерес к Плотину. И поэтому никаких существенных изменений, не говоря уже о прогрессе, в концепции его философии за этот период не произошло. Напротив, метафизически-враждебная, скептическая и агностическая основная черта последнего человеческого века отчасти отбросила оценку Плотина на позиции рационалистического Просвещения до Гегеля, так что изложение его философии, как и неоплатонизма в целом, является одной из самых раздражающих глав в большинстве новейших работ по «истории философии».
Тем временем дух мировоззрения Плотина пережил в философии Хартманна воскрешение, о котором сам автор первоначально не имел ни малейшего представления. Только когда в начале девяностых годов он обратился к более детальному изучению Плотина для «Истории метафизики» и взялся за эссе об «Аксиологии Плотина», Гартман, к собственному изумлению, осознал глубокое внутреннее родство между собой и античным мыслителем, которое распространялось не столько на отдельные конкретные моменты, сколько на некоторые общие черты, сходство характера их философии и положения их взаимного мировоззрения по отношению к предшествующим спекуляциям. Следствием этого стало то, что раздел о Плотине в его «Истории метафизики» стал самым подробным и блестящим и что в нем, впервые в Германии, истинное значение Плотина для умозрения получило соответствующее выражение.
Гартман рассматривал философию Плотина исключительно с точки зрения теории категорий. В настоящей работе предпринята попытка обосновать значение Плотина как в обратном, так и в прямом смысле слова в изложении всего его мировоззрения. Она стремится показать, как в его философии сходятся в единое целое нити предшествующей философской мысли и как истины его предшественников оказываются отмененными как непреходящие. Таким образом, полностью опровергается прежнее мнение о том, что высшая точка античной спекуляции была достигнута Платоном и Аристотелем и что мировоззрение Плотина было лишь философией упадка, и вместо этого ему отводится высшее место во всем развитии античной мысли. Однако в то же время он стремится выявить связи, ведущие от него к философии нового времени и современности, и тем самым открывает новый взгляд на исторический ход философской мысли, который, как кажется, способен развеять ряд прежних предрассудков. Утверждение Рихтера об актуальном значении Плотина для современности подтверждается, но, конечно, не в смысле «возрождения христианского мировоззрения в наш материалистический век», а скорее наоборот, в смысле энергичного движения за его пределы, при котором современный материализм и скептицизм также опускаются до подвешенного состояния. Особый акцент автор делает на доказательстве того, что прежний взгляд на Плотина, согласно которому он представляет себя как основателя философии сознания и тем самым, казалось бы, может служить опорой для теизма, никак не соответствует истинному смыслу и духу его мировоззрения. В то же время, говоря о чередовании двух различных родов, играющем столь важную роль в учении Плотина о принципах, он полагает, что указал на ключ, который отпирает понимание всей философии со времен Платона и на котором в своей глубочайшей сущности основывается не только рационализм, но и современная философия сознания. Если до сих пор все призывы, сколь бы настоятельными они ни были, к пересмотру основной концепции современной мысли оставались неуслышанными, то, возможно, настало время больше не молчать и занять твердую позицию в вопросе о том, может ли сознание действительно быть бытием в смысле независимого, оригинального и существенного существа.1
Наконец, несколько слов о существующих переводах Плотина на немецкий язык! Мы располагаем полным переводом «Эннеад» Германа Фридриха Мюллера, которому предшествует перевод биографии Плотина, сделанный Порфирином. Изданный в двух томах в 1878 и 1880 годах, он не столько подчеркивает красоту, сколько максимально точно передает мысли Плотина, и, что бы ни возражали против него в деталях, он незаменим для более детального изучения философа. Отто Кифер недавно опубликовал текст «Эннеад» Плотина, написанный не слишком абстрактно и максимально понятный для широких кругов, с учетом всего, что было опубликовано до сих пор в области передачи Плотина на немецком и французском языках Ойгеном Дидерихсом (1905). Естественно, она рассчитана не столько на строго научного исследователя, способного изучить своего Плотина в оригинале, сколько на большинство образованных людей нашего времени, в которых жива жажда интериоризации и спиритуализации нашей религии. Написанный с большим энтузиазмом и максимально возможным пониманием своего предмета, этот перевод часто читается почти как оригинал. Поэтому автор настоящей работы с благодарностью воспользовался возможностью привести более длинные дословные цитаты из Плотина после текста Кифера.
Карлсруэ, июль 1907 г.
Профессор д-р Артур Дрюс
Введение
Развитие античной философии до Плотина.
История философии есть история борьбы человеческого разума за истинное понятие о духе. В этом великом процессе развития перед греками стояла самая трудная задача. Ведь они были еще в начале процесса, им еще не было ясно, куда направлено развитие, какие задачи должен решить разум, какие средства и способы он должен для этого использовать, они должны были сами с трудом обрести это понимание в ходе развития; и прежде всего вся их собственная природная предрасположенность в принципе не благоприятствовала достижению этой бессознательной цели. Ведь сами греки всем своим мышлением были укоренены в природе. Они жили и дышали непосредственно осязаемой реальностью вещей. Их ясный, устремленный вдаль взор был полностью очарован внешними проявлениями чувств. Их разум чувствовал удовлетворение в объективном. Пластическое чувство и художественное восприятие указывали им на существование мира материальных внешних объектов. Они также знали душу и дух только как объективные природные реальности и еще ничего не знали о различии между идеальным и реальным бытием, о контрасте между сознанием и существованием.
Греческая философия наполнена стремлением постичь реальное или сущностное основание вещей непосредственно с точки зрения чувственного наблюдения и восприятия. Этот эпистемологический наивный реализм и метафизический индифферентный монизм составляет основную предпосылку всей натурфилософии от Фалеса до Анаксагора, а именно: мысль и бытие, взятые в смысле природной, чувственно-материальной реальности, непосредственно тождественны. Различные взгляды мыслителей, относящиеся сюда, представляют собой лишь столько же различных попыток понять ощутимое и объективное как истинно реальное, как основание и сущность всех вещей, будь то у Фалеса в форме воды, у Анаксимандра в бесконечно протяженной субстанции мира, у Анаксимена в воздухе, у Гераклита в огне, у Эмпедокла в четырех стихиях или у атомистов в мельчайших материальных составных частях действительности. Только Пифагор и элеаты, кажется, приближаются в своем мышлении к понятию чистого духа, свободного от всякой естественности. Но если последний объявляет число основой вещей, божественной силой, управляющей миром, то и здесь перекос в общегреческом образе мышления проявляется в том, что число невольно вырастает до материального существа, основания в субстанциальном смысле, «вещества» самих предметов; И даже Парменид не идет дальше приравнивания своего неопределенного Единого, которое он противопоставляет множественности и детерминированности эмпирического бытия как единственного истинно существующего, к физической реальности вещей, к материальности как таковой. Анаксагор впервые объясняет дух в смысле нуса или разума как принципа, упорядочивающего и определяющего мир, но, со своей стороны, все еще представляет нус совершенно натуралистически, как материальное, воздухоподобное существо, и, таким образом, еще не преодолевает почву прежней натурфилософии.
Фундаментальное противоречие всей этой школы состояло в том, что, будучи философией, она была вынуждена определять бытие через мышление, через понятийную обработку данного материала, и в то же время предрасположенность греческого народа не позволяла ей приписывать бытию что-либо иное, кроме чувственного определения. Эта философия исходила из того, что сущность вещей должна быть обнаружена где-то во внешнем мире, в сфере чувственно воспринимаемого. Поэтому она искала основание вещей в природе и считала природную субстанцию сущностью; в этом заключался ее натурализм. Теперь все возможности решения мировой проблемы из этой предпосылки были испробованы, но прежняя натурфилософия так и не пришла к согласию относительно истинного бытия. Наивное предположение, что органы чувств способны открыть нам сущность вещей, должно было уступить место осознанию элеатами и Гераклитом того, что непосредственное чувственное восприятие не может дать нам сущностного знания. Однако утверждение разума как истинного принципа познания противоречило само себе до тех пор, пока сохранялось тождество бытия и мышления, а бытие определялось как чувственная реальность. Ведь тогда либо эта реальность должна была смириться с тем, что разум осуждает ее за противоречивость и сводит к простой видимости, либо разум должен был признать свою неспособность познать противоречивую неразумную реальность собственными средствами. Если физическое бытие и мышление – одно и то же, то в конечном счете дело вкуса, личного произвола или склонности характера – сделать ли из всех возникающих несоответствий вывод о нереальности бытия или о неспособности мышления отдать должное бытию. Первое было сделано элеатами и нашло свое наиболее резкое выражение в диалектике Зенона. Вторым занимались софисты. В обоих случаях, однако, скептицизм был неизбежным следствием выбранной отправной точки.
Из противоречия между чувственным восприятием и разумом победителем вышел последний, но не объективный разум, как Нус Анаксагора, а субъективный разум философа, который сам вначале совершил это противоречие. Анаксагор объявил Нус определяющим принципом реальности и рассматривал миросозидающую силу как выражение его сущности. Софисты согласились с ним в том, что реальность – дело рук мыслящего существа; но поскольку они утверждали, что ничего не знают об объективной реальности, Нус совпадал с конечным разумом, эго, как носителем и творцом мира. Софисты поняли, что прежняя натурфилософия не объясняет мир по-настоящему.
Софисты поняли, что прежняя натурфилософия не объясняет мир из природы, а молчаливо основывает свою концепцию природных принципов на опыте внутренней жизни души, что предполагаемое тождество бытия и мышления в истине уже означает преобладание мышления над природным бытием. Реализации бытия как такового не существует, есть только такая реализация из субъективной природы мышления. Человек, – учит Протагор, – есть мера всех вещей». 1) Отчаявшись в возможности прийти к чисто объективному знанию о мире, софисты отвергли всякое умозрение и противопоставили мир самому себе, теоретическое постижение внешней реальности – практическому утверждению собственного непосредственного «я». Тем самым они порывали со всей натурфилософией, открывая субъективный дух в его отличии от природы и превосходстве над объектами внешнего бытия. То, что из обилия природных явлений софисты извлекли и объявили суверенным только субъективный разум, что основанная ими «свобода разума» была, таким образом, лишь чисто формальной, связанной с субъективным произволом и прихотью, и что провозглашенная ими автономия влекла за собой отказ от всякой морали, было недостатком и сомнительной стороной всего этого направления. Но как могли софисты найти самость в чем-то более глубоком и фундаментальном, чем их собственное эго, ведь натурализм, на преодоление которого было направлено все их мышление, все еще был слишком глубоко в их крови, чтобы они могли найти основание бытия где-то еще, кроме непосредственной эмпирической реальности? Софисты разрушили и подорвали объективный натурализм внешней природы, чтобы заменить его субъективным натурализмом собственного «я».
Это была лишь противоположная односторонность, но она была необходима для того, чтобы выйти за пределы природы вообще, как внешней, так и внутренней, и в то же время это был шаг неизмеримого значения, поскольку эго софистов было на самом деле ближе к истинному принципу духа, чем чувственная материальность и внешняя объективность натурфилософов. – Великий поступок Сократа заключался в том, что, чтобы нейтрализовать пагубные последствия нового открытия, он обратился к изучению самой человеческой мысли. В этом Сократ походил на софистов, поскольку в явном противостоянии чувственного восприятия и мышления принимал сторону мысли и понимал субъективность, которой определяется объективный мир, как превосходящую объективную природу. Но он не представлял себе субъективность, как они, как суверенное «я» и носителя мысли; поэтому он также не приписывал ей право и способность обращаться с мыслями по произвольной прихоти и желанию, а определял саму мысль как содержание субъективности, а понятие – как руководящий принцип мыслительной деятельности. Софисты понимали «познание себя» в смысле genitivus subjectivus, то есть они уступали эго суверенитет его способа выражения также и в отношении познания и делали акцент на понятии «я» или «эго». Сократ, напротив, делал акцент на понятии знания и понимал genitivus «самости» как genitivus objectivus в том смысле, что самость образует реальный объект человеческого знания. Тем самым он избавил почву от пагубного субъективизма и эгоизма софистов. Ведь, согласно ему, уже не Я определяет, что истинно, а что ложно, а только правильное понятие вещи решает, истинно ли относящееся к ней знание. Только знание понятия является истинным знанием, только знание, сформированное на основе правильных понятий, может по праву называться знанием. Первым это сказал Сократ: К знанию и истине ведет не внешняя чувственно обусловленная объективность природы, а лишь внутренняя необходимость мышления. Софисты правы, когда говорят, что окончательное решение о природе бытия принадлежит «я», как носителю и субъекту мысли; только тогда это «я» передает истинное знание, если оно самоотверженно подчиняет себя природе понятия.
Субъективность, к которой софисты отступили по отношению к внешней природе, углубляется у Сократа настолько, что сама вновь предстает как объективность, но теперь уже не как внешняя, чувственная, природная объективность, а как нечувственная, внутренняя объективность духа. Если софисты учили, что человек есть мера всех вещей, то Сократ согласен с ними в этом, но с тем дополнением, что речь идет не о том или ином человеке в его случайной частности, а о человеке мыслящем, о человеке в той мере, в какой он, как мыслящий субъект, действует на себя как нечто объективное и общее. Если софисты растворяли всю объективную истину в простой игре субъективных идей, то Сократ совершает прорыв к надиндивидуальной объективности понятия. Таким образом, Сократ открывает для мышления сферу, которая столь же объективна, как природа, столь же духовна, как эго, одним словом: царство объективного духа. Таким образом, он действительно является, как назвал его Ницше, хотя и по-другому, «вихрем и поворотным пунктом мировой истории». Ведь факт существования царства объективного духа – это величайшее открытие, которое когда-либо делал мыслящий человек в своем исследовании бытия, величайшее, по крайней мере, открытие, благодаря которому греческий дух, в своем наивном погружении в природу, смог получить приз нетленной славы.
С осознанием понятия как чего-то объективного и всеобщего, нормам которого должен был подчиниться даже самый крайний субъективист, софистика была преодолена. Тем самым была пройдена та мертвая точка, до которой софисты дошли в своем последовательном стремлении к предпосылкам греческой мысли. Платон создал прочный фундамент для открытого Сократом царства объективного духа, противопоставив субъективной воле человека и нелогичной реальности природы мир вечных идей, то есть независимых и метафизически абсолютизированных понятий Сократа, как нечто абсолютно логичное и нормативное. Таким образом, впервые в западной мысли духовное как особый вид бытия было принципиально отграничено от бытия природных объектов и вышло за их пределы как высшее. То, что мышление и бытие тождественны, – эта основная предпосылка всей предшествующей философии – была признана еще Платоном. Но если раньше она понималась только в натуралистическом смысле, как если бы мы имели перед собой реальность par excellence в чувственно воспринимаемом мире и постигали ее непосредственно в мышлении, то у Платона она приобрела значение, что мы обладаем истинной реальностью только в самой мысли.
Понятие не является, как утверждал Сократ, простым субъективным средством познания бытия, но оно есть само бытие, оно есть в то же время внутренне существующий объект познания. Сократ довольствовался тем, что вернул мышлению, выродившемуся в произвол и игривость софистики, его сущность, вернул ему утраченную объективность, освободил его от чувственных примесей, вызвавших это вырождение, с помощью искусства концептуализации и тем самым заново поддержал колеблющуюся нравственность своего народа. Для Платона моральное разложение уже казалось столь значительным, что ему было недостаточно просто восстановить эпистемологическое преимущество мысли над чувственным восприятием, которое уже признали натурфилософы: он прибег к насильственному средству – отрицанию объекта восприятия, чувственно-природного бытия, вообще. Естественная реальность, утверждал он вместе с элеатами, – это не просто неполноценная реальность, это вообще не истинная реальность; единственная истинная реальность – это реальность понятия. Это был полный разрыв с сущностью эллинского разума, полный переворот всех обычных представлений о вещах, оставивший позади даже акосмис- тическую концепцию мира Парменида, поскольку последний, как я уже говорил, не сомневался в реальности физического как такового. То, что впервые начал Сократ, еще не осознавая его последствий, Платон завершил: он освободил разум в его чистоте, он вырвал прежнюю почву из-под ног мышления своего народа, он открыл тем самым совершенно новую страницу в истории греческого и западного интеллектуального развития.
Исходя из мысли, что истинное понятие одновременно является истинным бытием и определяет эмпирическую реальность, перед Платоном встала задача доказать его как объективный prius и доэмпирическую детерминанту опыта. Из того, что понятие есть одновременно субъективное средство познания истинного бытия, вытекала и другая задача – дать доказательство абсолютной истинности понятия. Та задача была метафизической, эта – эпистемологической или методологической. Там речь шла о том, чтобы продемонстрировать метафизическое опосредование понятия и мира видимостей или, скорее, определяемого им иллюзорного мира, показать, как объективное понятие, «идея», и опыт, такой как дух и природа, могут быть взаимосвязаны и образовывать единую реальность, несмотря на их контрастную природу. Здесь, с другой стороны, речь шла о том, чтобы показать путь от опыта к понятию, сделать понятным, как субъективное понятие может быть одновременно объективным или как понятие, которое мы имеем об истинном, само может быть абсолютной истиной. У Платона эти две совершенно разные задачи все же проходят отдельно друг через друга; и это отсутствие разделения определяет характер его философии. В центре ее – «понятие бытия». Но этот генитив можно понимать и как genitivus subjectivus, и как genitivus objectivus, имея в виду и объективную понятийную природу бытия, и субъективное его познание. Платон, однако, не учитывает этого различия. Он постоянно путает метафизический смысл понятия с его эпистемологическим смыслом, субъективное мышление философа об объективных мыслях с самими этими мыслями; из-за этого вся его философия выглядит как сизифов труд.
Согласно Платону, понятие, которое философ имеет о бытии, есть в то же время понятие, которое имеет или, скорее, есть само бытие, бытие как понятие, тождество бытия и понятия: понятие бытия есть бытие понятия. Эрос», энтузиазм философского знания, который переносит человека над миром чувств в сферу мира идей, который дает ему непосредственное видение его содержания, «интеллектуальное видение» идеи, есть не что иное, как этот генитив в его одновременно объективном и субъективном значении; Это лишь символическое выражение того факта, что вся предполагаемая непосредственность познания истинно существующего и основанная на ней аподиктическая уверенность базируется на созвучии и двойном смысле одного и того же генитива. Представление и объект, познание и бытие подходят друг к другу как бы с двух разных сторон и сливаются в одном понятии. Платон, однако, не в состоянии прояснить, как метафизическое понятие или идея, будучи доэмпирической детерминантой природного бытия, может соотноситься с ним, формировать его и сливаться с ним в единство, и ему не удается доказать, что эпистемологическое понятие, которое как таковое выводится из опыта и потому является более поздним, чем он, тождественно с метафизическим понятием. Но от этого тождества зависит судьба всей платоновской философии, поскольку понятие может претендовать на абсолютную истину только в том случае, если оно, будучи субъективным, одновременно является объективным, или если мышление и бытие непосредственно совпадают в человеческом познании.2
Идеализм состоит в утверждении, что понятие есть истинная сущность и в то же время истинная реальность; рационализм Платона состоит в утверждении, что субъективное понятие в то же время объективно в своей истинности. Оба утверждения, однако, являются лишь различными отражениями его предположения о непосредственном тождестве бытия и мышления и выражают две задачи, которые человеческий разум видел перед собой в приобретении понятия духа как отличного от природы.
Аристотель стремится решить описанную выше метафизическую задачу и преодолеть установленное Платоном противопоставление духа и природы, вновь объявив их тождественными. Он отличает их друг от друга только как форму и субстанцию и представляет субстанцию как изначально бесформенный и неопределенный субстрат или основу вещей, которая определяется изнутри мыслью и формируется в различные качества. Мышление объектов со стороны философа является для него мышлением объектов в смысле genitivus subjectivus. Для него сущность объектов заключается в мышлении, причем таким образом, что неопределенная субстанция побуждает имманентное ей объективное мышление развернуть свои детерминации и тем самым придать ей определенную форму, подобно тому как наше субъективное мышление побуждается к активности «изумлением» перед противоречиями или немыслимым, то есть материальным, характером реальности. Однако вместо того, чтобы предложить реальное решение проблемы, он лишь возвращается к позиции первоначального натурализма до Платона. Ведь утверждаемое таким образом тождество разума и природы было именно догматической предпосылкой прежней философии, за исключением того, что то, что до сих пор считалось наивной самоочевидностью, было сознательно объявлено Аристотелем сущностью самой материи.
Таким образом, Аристотель также не оказал существенного содействия в понимании природы разума; более того, авторитет этого философа оказался камнем преткновения в последующие времена и в конечном итоге виноват в том, что и сегодня нет полного единства в отношении концепции разума, а натуралистическое объединение природы и разума по-прежнему вновь и вновь присваивает себе философское значение. Ведь вопрос заключается именно в том, как мысль и субстанция могут образовывать непосредственное единство. Аристотель ничего не вносит в решение этого вопроса, когда наряду с объективным мышлением предметов, мышлением, замутненным материей, он предполагает так называемое чистое мышление, мышление мышления как первоисточник и цель всего процесса мышления-мира. Но и другая, эпистемологическая задача не была решена самыми напряженными усилиями Аристотеля. Ибо хотя этот философ совершенно справедливо признавал, что абсолютная истина может быть получена только дедуктивным путем, исходя из высшего понятия бытия, он не смог показать, как можно прийти к этой высшей предпосылке дедукции иначе, как индуктивным путем, восходя от опыта, и как можно таким путем установить абсолютную истинность этой предпосылки, без которой даже то, что из нее выводится, не имеет безусловной достоверности. Мышление о предметах со стороны философа и предметы мышления или метафизические реальности остаются двумя разными вещами. Поэтому, однако, достижение абсолютной истины для философского знания представляется безнадежным. —
В этих условиях от философии после Аристотеля, остающейся во всем зависимой от него и Платона, конечно же, нельзя ожидать существенного прогресса в решении фундаментальной философской проблемы. Эта философия либо скатывается еще дальше, чем Аристотель, с высоты достигнутой им точки зрения и приближается к первоначальному натурализму еще ближе, чем тот, либо вообще отказывается от возможности решения поставленных задач и отворачивается от умозрения. Таким образом, это отчасти метафизический догматизм, т. е. Он придерживается, не исследуя самой этой предпосылки, предположения о непосредственном тождестве духовной и материальной или телесной реальности, за исключением того, что не рассматривает, подобно Аристотелю, природу как по существу духовное существо, а, наоборот, дух, как натурфилософия до Сократа, как природное существо; отчасти он отрицает, что вообще возможно определить природу реальности без противоречия, и тем самым снова подходит к позиции софистики. Первую точку зрения разделяют стоицизм и эпикурейство, вторая – мнение скептицизма. Однако все трое сходятся в том, что теоретическое знание интересует их лишь постольку, поскольку оно может служить основой для практического или морального поведения и способствовать человеческому счастью. Вопрос, который уже лег в основу платоновской спекуляции в качестве невысказанной предпосылки, а именно: как должно быть понято реальное, чтобы быть непоколебимой детерминантой морального, – прямо ставится ими во главу своих исследований и придает всей их философии сугубо практический характер.







