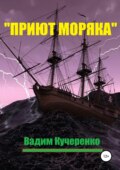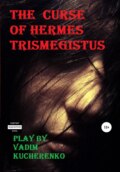Вадим Иванович Кучеренко
Пусть плачут мужчины
Роза Львовна. Это средство самое лучшее. Вы должны доказать ему, что вы настоящая женщина и что вы сильнее его.
Мария. Я изнежена городским комфортом и долгой семейной жизнью. И лишена стальных мышц и острых когтей.
Роза Львовна. Но, я думаю, вы сохранили в своем арсенале все те хитрости, с помощью которых мы, женщины, начиная с нашей праматери Евы, неизменно берем верх над мужчинами?
Мария. Боюсь, что я сохранила только слезы.
Роза Львовна. Слезы долой! Пусть плачут мужчины. (Вытирает платком слезы в глазах Марии). А знаете, у меня появилась идея. Замечательная идея!
Мария. Ну, говорите же, Роза Львовна!
Роза Львовна. Так даже будет лучше. Вы только поманите его, а потом оттолкнете и одним выстрелом убьете сразу двух зайцев.
Мария. Двух?
Роза Львовна. Разумеется. Плахова и Воробьева.
Мария. (С недоумением). Но при чем здесь Павел Васильевич?
Роза Львовна. Услуга за услугу. Я помогу вам вернуть Матвея, вы мне вернете моего мужа.
Мария. Ничего не понимаю! Ведь Павел Васильевич, кажется, никуда не собирался уезжать?
Роза Львовна. Это вам только кажется. На самом деле он уже давно покинул меня.
Мария. Но он только что заходил к нам. В домашней пижаме…
Роза Львовна. Вот именно! Вы очень наблюдательны, моя милая. А теперь скажите мне: если мужчина появляется перед молодой и привлекательной женщиной в мятой пижаме, то о чем это говорит?
Мария. Не знаю
Роза Львовна. О том, что он уже не мужчина!
Мария. Неужели…?!
Роза Львовна. Ну, я не в том смысле, поймите меня правильно. Но все равно! Если он не видит женщину даже в вас, Мария, то я для него и подавно уже нечто вроде предмета домашнего обихода. Как стул или кровать.
Мария. А вы не преувеличиваете?
Роза Львовна. Вы забываете, Мария, что я врач, и моя специальность – ставить диагнозы. Так вот, диагноз моего мужа ясен: полная потеря интереса к женщине. Причем не к жене, заметьте, а к женскому полу вообще. Я даже могу сказать точно, когда это началось, как развивалось и чем это может закончиться, если не вмешаться в ход болезни.
Мария. И как же это случилось?
Роза Львовна. Это началось с того самого дня, когда его назначили редактором газеты. Он начал задерживаться на работе допоздна и приходил домой сильно уставшим. Но и дома все его мысли были только о газете. У него не оставалось ни сил, ни времени ни на что другое. Я уж не говорю о себе. Но он не заметил даже, как выросли и разлетелись из родительского гнезда наши дети. Да и как бы он мог заметить? На собрания в школу ходила я, со своими обидами и радостями дети шли ко мне, потому что отцу было вечно некогда. Отца в семье словно и не было. Был некий дух, который являлся к ужину и сразу же исчезал в спальне. Ему взвалили на плечи тяжкое бремя ответственности, и он, словно покорный ишачок, потрусил с ним по жизни, не поднимая головы.
Мария. И ничего нельзя было поделать? Как же ваше верное средство?
Роза Львовна. Сначала я не понимала, а потом было поздно. Воробьев уже вкусил от сладкого плода власти. Он привык быть самым главным, самым умным, самым рассудительным, самым, самым, самым… И не в моих силах оказалось спасти его. Что скрывать, я уже далеко не так молода и привлекательна…
Мария. Роза Львовна, вы красавица!
Роза Львовна. Была когда-то… (Вальсирует по комнате). О, тогда мой Воробьев не ходил в пижаме и не засыпал, едва коснувшись головой подушки. Он менял рубашки каждый день и раз в неделю обязательно дарил мне букет цветов. Он пытался предугадывать мои желания. А я принимала го дары с царственной небрежностью, вот так… (Показывает). И уж поверьте, милочка, что больше всего на свете он боялся оставлять меня одну. Он почему-то был уверен, что меня в его отсутствие украдут. Прямо таки восточные страсти. О, какое время тогда было сумасшедшее и прекрасное! (Декламирует).
Но небо за тучами – синее-синее,
И солнце – кипящая лава любви.
Это не выдумал я, это иней
Успел, быстро тая, произнести.
Мария. (Восхищенно). Роза Львовна, вы чудо!
Роза Львовна. (Грустно). Да, а теперь от всего этого остались только привычные поцелуи перед уходом на работу. Привычка губит все, милочка, запомните это и не позволяйте Матвею привыкать к вам. (После паузы). И я помогу вам в этом, охотно помогу. И не благодарите меня, не надо, я это делаю не из альтруистических побуждений.
Мария. Что я должна делать?
Роза Львовна. Вы должны будете пробудить в Воробьеве мужчину, чтобы он оказал вам одну услугу.
Мария. А это не опасно?
Роза Львовна. Если и опасно, то лишь для Воробьева – при его одышке и одном предынфарктном состоянии. Но я, как врач, всю заботу о его здоровье беру на себя.
Мария. Ну, хорошо, я вскружу Павлу Васильевичу голову, добьюсь от него этой неведомой мне пока услуги. И что тогда?
Роза Львовна. И тогда один мужчина пробудится от летаргического сна, а второй – будет потрясен и сломлен. И да здравствуют женщины!
Мария. Роза Львовна, расскажите мне скорее, что вы придумали!
Роза Львовна. Пойдемте, милочка, готовить ужин. Не то сейчас придут наши оголодавшие горе-повелители и обрушат на нас свой праведный гнев. А на кухне мы не спеша все обсудим.
Они уходят. Гаснет свет.
Когда свет зажигается вновь, действие происходит в баре. Время к полудню. Посетителей мало. За стойкой бармен протирает бокалы. Напротив него на высоком стуле сидит Плахов и пьет сок.
Плахов. На улице жара, а у вас хорошо. Даже выходить не хочется.
Бармен. Земля обетованная для утомленных странствиями путников.
Плахов. Сдается мне, в вашем городе даже песчинки в песочных часах ленятся струиться.
Бармен. Понимают, что это ни к чему.
Плахов. Да вы, как я погляжу, философ!
Бармен. Я всего лишь жалкий выскочка по сравнению с тем парнем.
Бармен показывает на небольшое возвышение в углу, где мужчина настраивает гитару. Это Философ. Он лохмат и небрит, на нем рваные джинсы и линялая майка, на голове – шляпа.
Плахов. Кто он и откуда?
Бармен. Даже и не знаю, врать не буду.
Плахов. И что он здесь потерял?
Бармен. Скорее нашел. Золотую жилу. Поет так, что рука сама тянется ему в шляпу сотенную кинуть. Сколько раз за собой этот грех замечал!
Плахов. Так, говорите, он еще и философ?
Бармен. Я с ним однажды всего и перекинулся парой фраз, но сразу это понял. Да вы с ним сами потолкуйте. Если, конечно, он сегодня в настроении болтать.
Плахов. Тогда для настроения дайте мне бутылочку вина.
Бармен подает Плахову бутылку с вином и два стакана. Плахов отходит и садится за столик напротив сцены. Философ берет несколько аккордов на гитаре, привлекая к себе внимание.
Философ. Когда мой лучший друг, известный всей стране великий бард, написал эту песню, он сказал мне: «Дружище, я посвящаю ее всем людям Земли». Тогда я не понял его. Как не понимали все остальные. Теперь уже поздно искупать свою вину. Но давайте хотя бы не забывать о ней.
Философ поет.
Отчего бы мне не стать добрее…
Мой уже недолог краткий век.
Я на этой на земле огромной
Бесконечно малый человек.
Полыхают грозы и закаты,
Мириады звезд горят в ночи…
Лишь богам подобное пристало.
Мне под стать бы и огонь в печи.
В пепелищах прозреваю лаву,
В отголосках – мощный ураган,
Не тоскую по сиянью славы,
И задаром вам ее отдам.
Мне теперь милее тихий лепет,
Робкий свет, мерцающий вдали.
Мне все чаще кажутся нелепей
Мудрецы, герои, палачи…
Закончив петь, Философ обходит со шляпой в руке столики. Посетители кладут в нее деньги.
Философ. Благодарю вас… Вы очень добры… Я всего лишь скромный исполнитель, что вы… Да, мы были с ним друзьями…
Плахов. Вы не откажетесь выпить со мной?
Философ. Вообще-то это не в моих правилах…
Плахов. Вы бы обидели меня отказом.
Философ. Но и отказаться – значило бы проявить непомерную гордыню. (Декламирует).
– Покорно голову склоняя,
Я за тобой иду на плаху…
Плахов. Предлагаю выпить за наше знакомство.
Философ. Мне все равно, за что пить. (Пьет).
Плахов. Погодите, мы же еще не познакомились. (Протягивает руку). Матвей Плахов!
Философ. (Не подавая руки). Ну и что? Мне это неинтересно.
Плахов. Простите меня за назойливость…
Философ. Не будь назойлив, и мне не придется тебя прощать. И почему люди так любопытны?
Плахов. На том и мир стоит.
Философ. Мне ближе другая истина. Во многом знании – многие печали.
Плахов. Вот за это и выпьем. Чтобы нам никогда не познать печали. Хотя, как говорил Чехов, постоянно счастливы только дураки.
Философ. Мир праху его. (Садится на стул). Ты не будешь возражать, если я сниму башмаки?
Плахов. Пожалуйста. Только не кладите ноги на стол, а то нас прогонят взашей.
Философ. (Разувается). Натер до кровавых мозолей. Достал башмаки по случаю, а они оказались на размер меньше.
Плахов. По случаю – это, надо полагать, попросту сперли?
Философ. Это оскорбление?
Плахов. Ни в коем случае!
Философ. Тогда я не буду требовать от тебя извинения.
Плахов. Я вам очень признателен.
Философ. Ты меня с кем-то путаешь, я это сразу заметил. Я не бродяга и не бомж. У меня и документы имеются. Тебе не покажу, они для представителей власти. Без бумажки ты для них козявка.
Плахов. Лучше бы вам помыть ноги, чем козырять удостоверением собственной личности.
Философ. А мне плевать, что ты косишься на мои грязные ноги и рваные джинсы. Джинсы я могу сменить, ноги вымою, и даже с мылом. А вот сумеешь ли ты очистить свою душу от накипи лицемерия и злобы?
Плахов. Я вас чем-то обидел?
Философ. Ты покусился на мои принципы!
Плахов. Следовательно, ноги вы не моете из принципиальных соображений?
Философ. Опять оскорбление! (Покаянно). И поделом мне. Не буду в другой раз изменять своему главному жизненному правилу.
Плахов. И что оно из себя представляет, позвольте узнать?
Философ. Внемли, что завещал потомкам великий восточный мудрец Алишер Навои. (С пафосом декламирует).
– Не разделяйте трапезу с тираном –
Прилично ли лизать собачье блюдо?
Не доверяйте тайн своих болванам –
Беседовать с ослами тоже худо!
Плахов. Уразумел. И дольше вас не задерживаю.
Философ. Ну, уж нет! Я тебе все выскажу. Мне жалко тебя, человек!
Плахов. Это еще почему?
Философ. Ты раб общественных условностей.
Плахов. Эк вас занесло!
Философ. Ты жалок, потому что твой бог – это коллектив, и разум твой – общий, усредненный интеллект. Ты не знаешь, что такое свобода духа. Ты червь, возомнивший себя человеком!
Плахов берет Философа за руку и сжимает.
Философ. Мне же больно!
Плахов. Не кричи. А то набегут представители власти, и тебе же будет хуже.
Философ. Я молчу. Только отпустите!
Плахов. Прежде ты покажешь мне свой паспорт. Или я из тебя душу вытрясу и посмотрю, так ли она чиста, как ты себе это представляешь.
Философ. Да шутил я!
Плахов. Документы!
Философ одной рукой достает из джинсов удостоверение и протягивает Плахову.
Плахов. (Читает). «Предъявитель сего является сотрудником научно-исследовательского института…» (Отпускает руку Философа). Так-то оно лучше будет, а то придуривается! Вы что, таким образом проводите отпуск?
Философ. Это все в прошлом. (Жалобно). Вы мне чуть руку не сломали!
Плахов. Извините. Так вы уже не научный сотрудник?
Философ. Нет.
Плахов. Попали под сокращение?
Философ. Сам ушел… (Восхищенно). Ну и хватка у вас!
Плахов. Я же уже извинился. (Наливает вино в бокалы, приглашая Философа жестом). Неужели ни с того ни с сего взяли да и снялись с насиженного теплого местечка и пошли бродить по миру?
Философ. (Пьет). Испытал сильное душевное потрясение. После чего решил начать жизнь заново.
Плахов. И что же вас так потрясло, если не секрет?
Философ. Закон об индивидуальной трудовой деятельности.
Плахов. Поразительно! Это же не Апокалипсис.
Философ. Это еще хуже для скромного труженика науки. Он произвел на меня просто убийственное впечатление. Я набросился на него, как одержимый, как голодный на хлеб, как погибающий от жажды на воду. Я заучил его наизусть, до последней запятой.
Плахов. Подыскивали себе работенку?
Философ. Я стремился проникнуть в тайный смысл каждого слова. Даже пытался читать между строк и после точки в конце предложения.
Плахов. Но ведь закон – это не криптограмма и не закодированное сообщение. Зачем же вам было искать в нем то, чего там просто не было?
Философ. Я искал в нем ответ на вопрос, который причинял мне невыносимые страдания. Я спрашивал сам себя: неужели я был рожден лишь для того, чтобы жить в беспрестанных трудах, экономить на спичках, маршировать в праздничных колоннах и чувствовать себя счастливым, потому что мне помахали рукой с высокой трибуны, мимо которой я проходил?
Плахов. Я понял. В вас пробудилось чувство уязвленного самолюбия.
Философ. Не поверите, но я потерял сон. Ночами напролет я бродил по квартире, словно тень отца Гамлета. Как, по-вашему, я коротал время?
Плахов. Лично я обычно спасаюсь от бессонницы тем, что считаю слонов. Представляю себе целое стадо и начинаю пересчитывать.
Философ. Я делал почти то же самое. Но только я пересчитывал не слонов, а почетные грамоты. Их у меня порядком скопилось за долгую безупречную службу на благо науки. Я грезил наяву: если бы каждая вдруг превратилась в стодолларовую купюру…
Плахов. И что бы тогда?
Философ. Тогда я бы снова мог спать спокойно. Как и до закона.
Плахов. Вам стало жаль загубленной бескорыстным трудом жизни?
Философ. Да. Поэтому я потерял покой и сон. Но зато я обрел способность мыслить. Я размышлял денно и нощно. Вы бы знали, как это болезненно! И пугающе с непривычки. Я словно владел какой-то постыдной тайной и скрывал ее от всех, как девушка, скрывающая потерю невинности. Поэтому по утрам я, как ни в чем не бывало, продолжал ходить на работу, вежливо раскланивался с сослуживцами, садился за письменный стол, подпирал голову рукой, усердно морщил лоб и старательно ни о чем не думал. Я спал с открытыми глазами, отсыпался за бессонные ночи.
Плахов. И никто ничего не замечал?
Философ. Вокруг меня происходило то же самое. Спали все. Только каждый по-своему. Кто-то решал кроссворды, кто-то сплетничал, кто-то мечтал о повышении в должности или оклада, не прилагая к этому никаких усилий. Я ничем не выделялся среди себе подобных.
Плахов. Но именно это вас и мучило, признайтесь!
Философ. Да.
Плахов. Вам очень хотелось выразить свою индивидуальность. Вам казалось, что вы незаслуженно обойдены судьбой.
Философ. Вы просто читаете мои мысли.
Плахов. Это не трудно, уверяю вас. Но при чем здесь закон об индивидуальной трудовой деятельности, не пойму.
Философ. Ну, как же? Ведь с детства мне внушали: ты должен быть как все. Жить как все, работать как все, думать как все и мечтать о том же, о чем мечтают все. Убеждение, что я ничем не лучше и не хуже других, проникло в мою кровь, отравило мое сознание, лишило меня желания что-либо изменить в своей жизни. Я просто плыл по течению. И считал себя достойным всяческого уважения.
Плахов. А разве вы были не достойны уважения? Вы сами признаете, что были хорошим специалистом. Я думаю, что и хорошим товарищем, хорошим главой семейства, просто хорошим человеком. И все вас любили и уважали, потому что вы заслуживали этого. Чего же вам еще не хватало?
Философ. Себя. Да, вы абсолютно правы, я был отличным работником, замечательным отцом, надежным товарищем. И кем я только еще не был! Но я никогда – понимаете, никогда, – не был самим собой. Я все время играл навязанную мне роль. Только не надо цитировать Шекспира. Я был, поверьте, великим актером добрую половину своей жизни. Но, в конце концов, я устал. И захотел стать самим собой. А этот закон подсказал мне: ты можешь быть самим собой и делать все, что пожелаешь, только приобрети патент. Не правд ли, забавно звучит: патент на право быть самим собой!
Плахов. Просто животик можно надорвать от смеха.