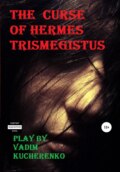Вадим Иванович Кучеренко
Нежить
Он в ярости, как Бог, могуч,
И сходство ангелов страшило.
Главою достигал он туч,
Рука, как молния, разила.
Как с ним тягаться Михаилу?
От ужаса архистратиг
Дрожал; но даровал Бог силу
Ему свою в тот самый миг.
С небес на землю, как звезда,
Пал побежденный Сатана.
Омыла кровь его вода,
И стала что полынь она.
И, узник, обречен он вечность
В аду вымаливать прощенье.
Творец, всю растеряв беспечность,
Его страшится возвращенья.
Позволил Бог и духам жить,
Прокляв весь род навеки их.
Влачит существованье нежить,
О предках позабыв своих.
Но мнится ей: когда-нибудь
Вернется в мир суровый мститель,
И вновь, как встарь – эх, будь не будь! –
В бой поведет их Обвинитель…
Глава 9, в которой русалка Галина выдает Прошке тайное жилище Никодима, а полевой доводит зайцев до леса.
На зорьке утренней струится
Река меж берегов лесистых,
Как уж в траве: то серебрится,
От родников питаясь чистых,
То потемнеет, словно в ней
Монет старинных клад забытый
Был в россыпь превращен камней,
От глаз завистливых сокрытый.
По-над рекой, клубясь туманом,
Озябнув, воздух голубеет.
И все здесь кажется обманом,
Но чары снять никто не смеет.
В такой вот час очнулся Прошка
От забытья, едва живой –
Со всех болот окрестных мошки
Живот им набивали свой.
Был берег пуст. И черт бы с ним,
Что мошки обглодали тело.
Но зайцы где? И Никодим?
Вмиг ярость лешим овладела.
Не помнил ровно ничего
Он с той минуты, как дурманом
Пройдоха опоил его
И шарил дудку по карманам.
Но, сам мошенник, понимал:
Видать, нечистым было дело,
Коль Никодиму проиграл –
Вот что его всерьез задело.
Не зайцев – честь его украл,
Пусть воровскую, полевой.
Он лучше б жизнь его забрал –
Глядишь, остался бы живой.
Дал леший клятву сам себе,
Что он сочтется с Никодимом,
И быть тому в большой беде,
И сгинет тот, растает дымом…
Грозил вслух Прошка, позабыв,
Что у реки быть могут уши.
Он, в гневе мысли огласив,
Русалке дал себя подслушать.
На отмели плескалась та,
Тайком сбежав от водяного.
И, ни казалась как проста,
Не проворонила ни слова.
Русалки на проказы падки.
Их обрекли на жизнь в воде,
Они же, по природе гадки,
От скуки сеют зло везде.
Кто устоит пред девой юной,
Когда она, совсем нагая,
Купаться будет в летний зной,
Невинная, стыда не зная?
Ты будь скопец или монах,
Но залюбуешься на диво.
Она же, будто в сладких снах,
Тебя поманит шаловливо.
Но в воду лишь за ней войдешь,
На берегу оставив разум,
И не утеху – смерть найдешь
На дне в объятьях девы сразу.
Когда не сможет так завлечь –
Набросится с нежданной силой
И в глубину спешит увлечь,
Рот забивая вязким илом.
Мужчина, женщина, ребенок –
Различий в том русалке нет.
Живет в ней хитрый злой бесенок,
Лишенный милосердья черт.
Заслышав лешего стенанья,
Русалка ближе подплыла.
И, все подслушав, на закланье
Враз полевого обрекла.
Когда-то был любим он ею.
Однако много лет прошло,
Как Никодим простился с нею,
Над чувством посмеявшись зло.
Обида, ревность – все смешалось
В девичьем сердце; проросло.
Но отомстить не получалось.
И вот русалке повезло.
– Эй, леший, – вдруг услышал Прошка, -
Довольно бы тебе хвалиться.
Присядь-ка лучше на дорожку –
И в дальний путь пора пуститься.
Пусть раньше вышел Никодим,
Догнать его к закату можно.
Но помни – ты покончить с ним
Сам обещал неосторожно.
Коль так – дорогу укажу,
Но берегись, когда обманешь.
Всем, что случилось, расскажу.
Навек посмешищем ты станешь!
Был Прошка стар и глуп, но в меру.
Давно минула та пора,
Когда он принимал на веру
Русалок лживые слова.
– Тебе какая в том корысть? -
Спросил, осклабясь, он русалку. –
Хочу я знать, а нет – так брысь,
Не то сыщу я живо палку!
Русалка видит – дело плохо.
Пришлось ей правду всю сказать:
– Возьму в награду Черта Око.
А нет – так сам изволь искать!
Но помни – лишь Галина знает,
Где Никодима тайный схрон,
Куда всех девок завлекает
И до утра ласкает он.
Там, было время, проводила
Я сутки напролет без сна
И без ума от Никодима.
Как я тогда была юна!
Меня же, лишь остыла страсть,
Он выгнал, как я ни молила.
И бога я презрела власть,
С нечистой породнилась силой.
Я поклялась, что отомщу,
А как – сама того не знала.
Теперь алмаз с него взыщу
За то, что в прошлом потеряла.
За честь и жизнь свою алмаз –
Цена, поверь, недорогая.
Но ты напрасно щуришь глаз,
Меня надуть предполагая.
Галину обмануть не вздумай!
Веками ненависть лелея,
Привыкла жить одной я думой,
И бойся, чтоб не стал ты ею.
С русалкой в хитрости тягаться
Не лешему, и Прошка сник.
Не стал бы он с шутовкой знаться,
Но мщенья яд в него проник.
И что алмаз? Он руку б дал
Сейчас за то, чтоб отомстить.
И старый вор не прогадал,
Пока решив ее не злить.
– Пусть попаду я в переделку,
Коль изменю своей я клятве! -
Сказал он. – Но, посеяв сделку,
Как скоро мы приступим к жатве?
Хитра русалка, но наивна.
Поверив Прошкиному слову,
Как встарь, когда была невинна,
Доверилась вновь духу злому…
Давно забыл уж полевой,
Разгульный с молодости нравом,
Роман с Галиной бурный свой –
Их слишком много было, право.
Но если бы и вспомнил он,
Узнал про заговор к тому же,
Про то, что на смерть обречен –
Ему бы вряд ли стало хуже.
Несчастней не было его
На белом свете в утро то.
И в мире не найти того,
Чтоб не проклял он раз уж сто.
Капризной, хнычущей толпой
Плелось за Никодимом стадо,
А он, не выспавшийся, злой,
Понять не мог, что зайцам надо.
А им бы травки пощипать,
Вздремнуть – и снова б закусить.
Ведь зайцам лишь бы есть да спать,
Иначе в тягость им и жить.
В другое время Никодим
Признал бы сам, помыслив здраво,
Как много в зайцах сходства с ним.
Себя считал он парнем бравым.
Но время не было. Пастух
Спешил скорей в лесу укрыться.
Впервые был беспечный дух
Заботы полон. Как не злиться?!
Он от возмездия бежал
Настолько быстро, как возможно,
Себя виня, что к мести дал
Он повод сам неосторожно.
А зайцы растеклись рекой,
Что в дождь из берегов выходит
И, обернувшись вдруг бедой,
Все пожирает, что находит.
Лишь Афанасий мог унять
Их аппетит, бедняг жалея,
И, подчинив дудой, играть,
От звуков музыки сам млея.
Но был сейчас он далеко.
И Никодим, вздыхая грустно,
Не раз уж помянул его –
Без друга на сердце так пусто!
– Каким глупцом же надо быть, -
Тоску он заглушал упреком. –
Что мог он в городе забыть?
Не выдал ни одним намеком!
Лишь к ночи затемнел вдали
Тот лес, где Афанасий жил
И зайцев пас. Они дошли!
От счастья Никодим ожил.
– Я молодец, – он закричал.
Дуда победно проиграла. –
Исполнил все, что обещал,
Пусть сам и верил в это мало.
Эй, зайцы, слушайте меня!
Любому с вас поверить станет.
Своей вы тени как огня
Страшитесь – и она обманет.
Жируйте в ожиданье часа,
Как созовет вас вновь дуда,
С оглядкой – или ваше мясо
Простится с шерстью навсегда.
Безмозглыми родились вы,
В том вас винить мне мало прока.
И доживут не все, увы,
До предназначенного срока.
На клык кто волку, кто в болото
Вбежит и пустит пузыри…
Но это не моя забота.
По мне, так все вы упыри.
Но Афанасию нужны,
А друга не сужу я строго –
Мы с ним две стороны луны.
Будь скатертью его дорога!
Беги же в лес, косое племя.
Мне о себе подумать надо.
Посеял я дурное семя,
Такой же будет и награда.
Прощай, Малышка! Эй, Обжора,
Быть может, свидимся с тобой!
Коль повстречаю снова вора -
Жестоким, чую, будет бой…
Лишь зайцы, словно стая птиц,
По-над травой скачками, скрылись,
Земля пред тьмою пала ниц,
И звезды в небе заискрились.
В ночи иначе все, чем днем,
И полевой заторопился.
В ночном лесу за каждым пнем
Он встретить призрака страшился.
И, подгоняя, филин «ух»
С насмешкой выдохнул над ухом,
Как будто Никодим был глух,
Или глумился он над духом.
Все чуждо было, гнало прочь –
В поля, где мирно под луною
Благоухала чудно ночь
Медвяною травой степною.
– На то ведь я и полевой, -
Себя тем Никодим утешил,
Невольно шаг ускорив свой,
Чем филина опять потешил.
В мгновенье ока Никодим,
Помыслив, перенесся вдруг
Туда, где мир в согласье с ним
Существовал, как добрый друг.
Здесь дом его был, и хранил
В нем с незапамятных времен
Он все, в полях что находил
И чем когда-то был пленен.
Монету ли в карман с дырой
Опустит кто и потеряет,
Иль конь со сбруей дорогой
Был брошен, только захромает;
То воин пал – в кровавой сече
Изрублен на куски весь он,
Но как бы ни был изувечен,
А золотой цел медальон;
А то купец замерз в метель,
Но снегом та товар укрыла
Лишь до весны, когда капель
Богатство снова обнажила, -
Все то не пропадет бесследно,
Добычей полевого станет.
Всегда он рядом тенью бледной,
И смерть его лишь не обманет.
Однажды даже Черта Оком
Сумел разжиться Никодим.
Нашел алмаз он ненароком,
Не ведая, владел кто им.
Так бабник и гуляка праздный,
Каким считали все его,
Скопил сокровищ много разных,
Не растранжирив ничего.
Был дом на вид с норою схож,
Со стороны когда взглянуть.
И тем, кто был в него не вхож,
Внушал он отторопь и жуть.
А полевому горя мало.
Добро от глаз чужих храня,
Приветливый и добрый малый
Жил, одиночество ценя.
Но в эту ночь незваный гость
Ждал Никодима терпеливо.
– Входи же, – не скрывая злость,
Сказал он. – Мне здесь сиротливо!
Глава 10, в которой Никодим становится жертвой жестокой мести Прошки и встречается с Афанасием и Мариной.
Напрасно полевой спешил.
Иди он лугом или лесом,
Следы бы мигом различил
И избежал бы встречи с лешим.
Иль к ней готов был Никодим.
И уж тогда едва ли вор
Взял без труда бы верх над ним,
Произнеся свой заговор.
Стар леший, но сумел таки
Застать врасплох его с дороги.
И полевой бы рад уйти,
Да отнялись как будто ноги.
Путь долгий мыслью одолев,
Был Никодим почти без сил.
И, до поры смирив свой гнев,
У Прошки дерзко он спросил:
– Ты, видно, в том винишь меня,
Что все спустил вчера меж пальцев?
Но поздно уж, дождемся дня –
С утра сыграем вновь на зайцев!
– Меня играть ты не учи, -
Зловеще усмехнулся гость. –
И ставки возросли, учти.
Не пес, не брошусь я на кость.
Во что оценишь жизнь свою?
Ее теперь я на кон ставлю.
Пустяк она, то признаю,
Но и гроша я не добавлю.
– Ты заговор сними, а там
Мы разберемся, чья ценнее…
– Тебе совет я дельный дам:
Кто бережется, тот умнее.
И правоту его признав,
Уж Никодим готов виниться.
Но только чем, дуду украв,
Он мог бы с лешим расплатиться?
Ведь что ни дай – возьмет с лихвой
Вор старый, алчности лишь верный.
И разорится полевой,
Коль карты он откроет первый.
– На дудку я играть не буду,
Пусть даже жизнью поплачусь…
– Дуду и зайцев сам добуду,
Когда с тобою разберусь.
– Алмаз вчера я на кон ставил…
– Уймись-ка сам, не то уйму!
Бесчестно ты меня обставил,
Его и так себе возьму.
– Бери за так свою ты шкуру!
Как видно, встал не с той ноги?!
Иль ополчить желаешь сдуру
Меня в смертельные враги?
Но помни, не боюсь я драк,
И лучше бы со мной дружить…
– Какой же, малый, ты дурак!
Недолго нам врагами жить.
Иль думаешь, в твоем я доме
Без пользы время проводил,
И не нашел я, что в соломе
Ты бережно от всех таил?
Каменья, слитки, украшенья,
Бессчетно золотых монет…
Ведь ты богаче, без сомненья,
Всех богачей, что видел свет!
Как можно в этакой норе
Хранить несметные богатства?!
И очи я возвел горе –
Мои закончились мытарства!
– Ты прежде крал, теперь убьешь, -
В раздумье молвил Никодим. –
Напрасно почитал за вошь
Тебя я – ты неустрашим!
– Ругайся, смейся, если можешь,
Мне легче будет так, поверь.
Язык ты свой и сам стреножишь,
Как смерть тебе откроет дверь!
Был страшен Прошка в этот миг:
Шерсть грязная вся дыбом встала,
Как гром осенний грозный рык,
И молния в глазах блистала.
А Никодим, как столб, застыл,
Рукой-ногой не в силах двинуть.
Заговорен он Прошкой был,
И мог легко безвинно сгинуть.
Но если б леший выбор дал:
Расстаться с жизнью или с домом,
Скорее бы он жизнь отдал,
Чем в торг вступил с презренным вором.
Гордыня – смертный грех, беда,
И с Сатаной обручена.
Недаром нежить навсегда
Хранить ее обречена.
Был горд и Никодим сверх меры,
Он о пощаде не просил.
Так воин, гибнущий за веру,
Боль терпит из последних сил.
Но надо ведь еще убить…
Как видом был ни грозен вор,
А полевого погубить
Не мог простейший заговор.
Заклятья смерти нет опасней.
Любого, кто прибег к нему,
И самого могли напасти
В большую ввергнуть кутерму.
Порой бывало, что с заклятым
И тот, кто проклинал его,
Мир покидал, сам тьмою взятый,
Пав жертвой гнева своего.
Был леший не из смельчаков,
И рисковать он не любил.
А смерть будь сам принять готов –
Давно бы он уже убил.
«Русалка, – мысль к нему пришла, -
Заклятье пусть произнесет.
Где схрон, она мне донесла,
И тайна вместе с ней умрет!
Избавлюсь от обоих разом,
Коль повезет, а нет – потом
Русалку изведу я сглазом,
Закрою рот ей вечным сном!»
И, разрешив свои сомненья,
Вор старый зябко вздрогнул вдруг,
Подумав, что без сожаленья
Он щедро сеет смерть вокруг.
И не раскаянье, а страх,
Что смерть придет за ним самим,
Мелькнул, как тень, в его глазах.
Но Прошка совладал и с ним.
Он был сейчас безумен словно,
Но мыслил ясно и логично:
Склонить русалку к мести кровной
Обманом только мог привычным.
Что наплести и как подать,
Чтоб в ней взыграл ретивый дух,
Бессмысленно сейчас гадать,
Подумал старый леший вслух.
– Начать лишь надо разговор.
Обиду, ревность – всякий вздор,
Коль между ними есть раздор,
Взрастить сумею выше гор!
– А ты постой и подожди, -
Он обратился к Никодиму. –
Тепло здесь, не идут дожди
И хорошо, наверно, в зиму.
Вот только не видать ни зги –
Раздолье для любого вора.
Ты мне богатство сбереги,
И, так и быть, умрешь не скоро.
– Типун тебе! Ведь я устал.
Все в день один – игра, дорога…
Так я умру, ты обещал?
Ну что же, отдохну немного!
Был верен до конца себе
Неугомонный полевой.
Смеялся он в любой беде.
А сам уж был едва живой.
Все онемело у него,
Он спотыкался языком,
И лишь отважный дух его
Не преклонялся пред врагом.
Скривился леший, но смолчал,
Бежал, скрипя клыками, прочь.
Вслед что-то Никодим кричал…
Прохладой освежила ночь.
И, ярости своей дав волю,
Вспугнув ночную тишину,
Оплакивая леших долю,
Выл долго Прошка на луну.
Могло бы показаться: Бога
Он молит милосердным быть
И, наказав когда-то строго,
Позволить вновь, как прежде, жить.
Ведь так бывает, что и нежить,
Как грешник, кается в вине,
И просьбами слух Бога нежит,
Взалкав забыть о Той Войне.
Но Прошка даже с Богом в торг,
Вступил бы, доведись просить.
Чужие беды лишь восторг
Могли в нем дикий пробудить.
И заунывный волчий вой
Был вряд ли плач по Сатане.
Но, впрочем, сердце с головой
Порой в разладе при луне.
Как плод, что цвел в саду небесном,
Она набухла над Землей,
И ночь всю в поединке честном
Извечный бой вела со мглой.
Ее к рассвету победила
Воительница князя тьмы
И небо густо очернила,
Не пожалев своей сурьмы.
И мир затих, печально внемля
Ветрам, что испокон веков
Пытаются утешить Землю,
Ей навевая сладость снов.
В сей час не спал лишь Никодим.
Не мышцы – разум напрягал,
Страшась того, что будет с ним.
Но ум ему не помогал.
Бессильна мысль пред заговором,
И Никодим об этом знал.
Но, поддаваясь уговорам,
Былой в нем здравый смысл молчал.
Бывает, что в одно мгновенье
Ночь, словно искра, угасает,
Как будто ветра дуновенье
Свечу небрежно задувает.
Но ночь бывает и иной.
Тогда она, как вечность, длится,
Пугая чуткой тишиной,
И, как пожарище, дымится.
В разгульной жизни Никодима
Бессонных и не счесть ночей,
Но в эту рядом с ним незримо
Смерть не смыкала злых очей.
К утру он все-таки признал,
Что истязал себя напрасно.
И, духом ослабев, призвал
К себе на помощь друга страстно.
– Эй, Афанасий, где ты, друг,
Куда идешь неутомимо?
Прислушайся, а ну как вдруг
Услышишь голос Никодима.
Я выручал тебя всегда,
Пришла пора и поквитаться.
Спеши, иль, может, никогда
Нам не придется повидаться!
И в затуманенном сознанье
Вдруг, словно гром, раздался голос:
– Скорей падет все мирозданье,
Чем с головы твоей хоть волос!
И Афанасий – морок дивный! –
Пред Никодимом сам предстал.
Из тьмы он вышел, еле видный,
Как будто бестелесным стал.
Зато глаза, как свет, ясны,
Как будто бы промыли их
Настоем трав, что до весны
Под снегом спят в полях земных.
Отсутствие бровей, ресниц
Лишь придавало глубину –
Недаром филин среди птиц
Мудрейшим назван в старину.
Был полевой рад несказанно,
Что призрак друга посетил
Его негаданно – нежданно
И утешал, что было сил.
Но, не смущаясь тем нимало,
Виденье привело с собой
Дух девы рыжей и взывало:
– Эй, Никодим, да что с тобой?!
– Ты, несомненно, добрый малый,
Таким и Афанасий был, -
Ответил полевой устало. –
Но Сатана меня забыл.
Я говорю – и сам не верю:
Не до веселья нынче мне.
Ведь попади я в лапы зверю,
То меньше мучился б вдвойне!
Будь Афанасий здесь сейчас,
Не ты, бесплотный морок бледный,
От смерти он меня бы спас.
Но сам в беде он, видно, бедный!
– Заворожен твой друг и бредит, -
Прервала дева разговор. –
Спроси его, пусть он ответит,
Наложен кем был заговор.
И Афанасий во плоти
Ожег дыханьем полевого:
– Эй, Никодим, не лопоти!
Кто пожелал тебе дурного?
И, слово за слово, сумел
Он выпытать, как Никодим
Злых чар избегнуть не сумел
И после что случилось с ним.
– Нет проще, – ведьма прошептала, -
Всех чувств и тела онеменье!
Рукой коснулась, пошептала –
И заговор был снят в мгновенье.
– Так ты не призрак, а живой?! –
И другу распахнул объятья,
Смеясь и плача, полевой,
Освобожденный от заклятья.
И Афанасий с Никодимом
Расцеловались горячо.
– Из города – да невредимым? -
Вскричал тот. – Сплюнь через плечо!
И, трижды плюнув сам, признался:
– Прилипчив суеверный страх!
Но я, признаюсь, ошибался,
Зло видя только в городах.
Оно повсюду, где порок
Гнездо в сердцах коварных свил,
И я даю себе зарок…, -
Он смолк внезапно и спросил:
– Да, кстати, что за солнце вдруг
Мой скромный посетило дом,
Мою лачугу из лачуг,
Где мрак кромешный даже днем?
– Мариной Силовной зовусь, -
И ведьма руку протянула. –
Я зло и есть, и тем горжусь.
Ты уж прости! – И подмигнула.
– Я не всегда такой, поверь, -
Воскликнул восхищенно тот. –
Глаза скорее с сердцем сверь –
В набат оно недаром бьет…
– И предвещает: быть беде! -
Вмешался леший в разговор. –
Порок, зарок… А зайцы где?!
Куда загнал их старый вор?
И Никодиму рассказать
Пришлось все без утайки другу.
Решил он рану врачевать,
А не потворствовать недугу.
Был Афанасий сильно взбешен.
Но, лишь себя во всем виня,
Скрыть не сумел, как безутешен:
– Ночь, звери, лес… И без меня!
– Так что болтаем зря? В дорогу! -
Вмиг загорелся Никодим. –
Быстрее зайцам на подмогу!
Вот только Прошка… Как быть с ним?
И было отчего смутиться:
Вернется леший в дом пустой –
И полевому в путь пуститься
Придется по миру с сумой.
– Обчистит он меня до нитки, -
Вздохнул печально полевой.
– Я сберегу твои пожитки, -
Марина молвила. – Не вой!
Не страшен мне ваш ярый враг,
С ним совладаю без труда.
В лесу же топь иль овраг –
Того гляди, свалюсь туда.
Поберегу я лучше ноги,
И без того горят в огне,
Так истоптала их в дороге.
Не беспокойтесь обо мне!
Все взвесив, леший с полевым
Решили – так тому и быть.
Ведь лес, и верно, мог быть злым
И горожанку невзлюбить.
А силы ведьмы колдовские
Их в трепет привели самих.
Ухватки Прошки воровские
В сравненье с ними просто чих.
И Афанасий с Никодимом
Оставили ее одну,
Во мгле растаяв легким дымом,
Беззвучно канув в тишину.
Глава 11, в которой Афанасий и Никодим в поисках зайцев набредают на охотников и решают завести их в болото.
Как хорошо быть снова дома!
Не изменилось ничего.
Холмы, тропинки – все знакомо,
И, как нигде, дышать легко.
И Афанасий каждым вздохом
Им о своей любви кричал.
Вот дуб, седым поросший мохом,
Что с новой бурей лишь крепчал.
А от него рукой подать
До тихой рощицы сосновой.
Здесь он любил порой мечтать,
Взяв сон недавний за основу.
И если по ручью идти,
Что между соснами плутает,
То можно к бучилу дойти,
Где дед Водяник обитает.
Вода шумит, стекая в падь,
И водяной, хоть нравом лют,
Валежником насыпал гать,
И звери мирно воду пьют.
Как Афанасий мысль не гнал,
Но возвращалась та упорно:
Ужель напраслину сказал
На водяного Прошка вздорный?
И был напрасен долгий путь,
И возвращение с Мариной…
Но как тогда в глаза взглянуть,
Когда к ней явится с повинной?!
Как скажет деве он, простак:
Доверчив, мол, был и проворен,
И бучу поднял просто так…
В веках он будет опозорен!
И, голову склонив понуро,
За полевым брел леший вслед,
Вокруг поглядывая хмуро
И новых ожидая бед.
А Никодим, напротив, шел,
Сияя солнцем в день погожий.
Он словно вновь алмаз нашел,
Во всем на Черта Око схожий.
В мечтах, сомнениях – не сразу
Друзья заметили вдали
Кровавому подобный глазу
Огонь, что люди разожгли.
Костер то будто затухал,
То вдруг он утреннюю дымку,
Воспламенившись, обжигал
И в пляс пускался с ней в обнимку.
Вокруг огня сидели трое,
Вели неспешный разговор.
– От зайцев всей деревне горе, -
Сказал старик, – один разор!
А молодой с угрозой ухнул.
Двустволку тут же сняв с плеча,
Изобразил он: «Бах!» – и рухнул,
Как заяц раненый крича.
Враз стихли все ночные звуки.
И в первозданной тишине
Звучал крик боли, полный муки,
Как будто корчился в огне.
Ребенок плачет так порою,
Когда терпеть невмоготу,
Платя ценою дорогою
За жизнь и сердца наготу.
И содрогнулись нежить, звери,
Жильцы лесов, полей и рек,
В предсмертный этот плач поверив.
Смеялся только человек.
– Так зайцев расплодилось много, -
Старик свою продолжил речь, -
Что скоро мы косых с порога
Начнем стрелять – и сразу в печь!
Покроется румяной коркой –
По мне, так мяса нет вкусней.
Накладывай тарелку с горкой,
И мигом я расправлюсь с ней.
Он, не сдержавшись, облизнулся,
Гнилых ряд обнажив зубов.
В нем дух былой сейчас проснулся,
Он полон сил был и здоров.
Ведь человека предок дикий
Охотой лишь и промышлял,
В звериных шкурах и безликий,
Свой голод кровью утолял.
Из рая изгнанный, на воле
Он выживал, как только мог,
Чужой не сострадая боли,
Забыв, что есть на свете Бог.
А Бог тогда страдал и сам…
Так долго это время длилось,
Что не изгладить и векам,
Пусть все давно уж изменилось.
Старик не знал, как дело было,
И почему в душе его
Порой рождалась злая сила
И кто виновником всего.
Но точно знал он, что охота
В нем пробуждала жажду жить,
И он ее с большой охотой
Спешил убийством утолить.
Немало на своем веку
Он истребил зверья лесного,
Но сладко спится старику,
Не мыслит он себе иного.
С ружьишком стареньким одним
Бродил всю жизнь он по лесам,
И смерть шагала рядом с ним,
Но чаще по его следам.
И если б только можно было –
По смерти собственной своей
Душе бы приказал унылой
Ружьишко взяв, идти за ней…
– Сегодня славно постреляем!
Жаль, без собак, – скривился он. –
Зато никто не выдаст лаем,
В тайге шуметь ведь не резон.
Но не беда, я буду с вами,
Со мной не бойтесь ничего! –
И закивали головами
Согласно спутники его.
– Ужо посмотрим, так ли это! -
Как будто ветер ноту спел,
Иль филин злобно гукнул где-то…
То Афанасий не стерпел.
Подкравшись тихо, с Никодимом
Давно он прятался в кустах.
Старик пропах табачным дымом
И пробуждал в нем гнев и страх.
– Я заведу людей в болото, -
Беззвучно другу он сказал. –
А угодит в трясину кто-то –
Я лишь тропинку указал.
Ты поспеши-ка к водяному,
Гостей незваных пусть он ждет.
Не верю я, что духу злому
Предать нас вдруг на ум придет.
Коль даже зол на леших он,
Но человек – исконный ворог.
А дед Водяник чтит закон,
Ему он больше жизни дорог.
– Уже одной ногой я там, -
Ответил Никодим, смеясь. –
И ты поверь моим словам –
Лицом я не ударю в грязь!
Сказав, он в тот же миг пропал,
И даже куст не шелохнулся.
Заклятье леший прошептал
И человеком обернулся.
Лишь глаз наметанный бы смог
В нем прежние черты найти.
Но если только суд не строг –
За божью тварь легко сойти.
Отводит взгляд, стыдится словно,
И гол лицом, как будто брит, -
Урод он внешне, безусловно,
Знать, оттого всегда молчит.
Когда охотники бы знали,
Что леший вдруг к костру их вышел,
То враз бы нежить в нем признали…
Но не пришло подсказки свыше.
Старик взглянул из-под бровей –
Был мужичонка хлипковат
И под котомкою своей
Согнулся, будто виноват.
Страшиться не было причин,
И он кивнул: – Садись к костру!
В лесу нам твой не важен чин
И робость нам не по нутру.
– Спасибо, добрый человек, -
Чуть слышно леший глухо буркнул,
Глаза прикрыв завесой век,
И в тень, как ящерица, юркнул.
Шумел лес грозно за спиною,
Людей неистово кляня,
Грозя им участью всем злою
И в бедах их во всех виня.
Но человек и глух, и слеп.
Он, притязая на господство,
Не ведает, как он нелеп
И как убог в своем уродстве.
Мог Афанасий подсказать,
Спроси охотники его.
Но те и не желали знать,
В плену безумья своего.
– Сойдет он за собаку нам, -
Шепнул старик, сверкнув глазами. –
Ему нести я зайцев дам,
И налегке пойдем мы сами!
– Он что-то все воротит рожу, -
Сказал с опаской молодой.
– И у меня мороз по коже, -
Признался третий, с бородой.
– Что за беда? – старик зевнул,
Лениво рот перекрестил. –
Да он ведь попросту заснул,
Должно быть, выбился из сил.
В лесу страшитесь лишь огня
Да затеряться меж трех сосен.
Зовут Георгием меня,
И я всегда победоносен!
Немало прежде бедолаг,
Что с миром не живут в ладу.
Передо мной спустили флаг
И служат дьяволу в аду.
Среди людей, скажу по чести,
Себе врагов не наживал.
Чтоб избежать их кровной мести,
Курок я первым нажимал.
Я твердо знаю: спор любой
Мне пуля выиграть поможет,
И честен я с самим собой –
Других пусть червь могильный гложет!
Старик уже почти кричал.
То ль оправдаться он пытался,
То ль смертный грех изобличал?
Но вновь непонятым остался.
Ведь были спутники его
Распалены грядущей бойней
И не слыхали ничего.
Ему б час выбрать поспокойней…
– А правду люди говорят -
Медведь здесь оборотень бродит,
Парней и девой всех подряд
В берлогу жить к себе уводит?!
Старик метнул тяжелый взгляд –
И встретил юный, глупый, чистый…
– На кой они медведю ляд?
В нем жить не может дух нечистый.
Вот волк совсем иное дело,
И от него не жди добра.
Легко свое меняет тело
Он в полнолунье до утра.
Однажды я видал такого.
Его и пули не берут!
Молитва лишь от духа злого
Да крест серебряный спасут.
– Молитва? Ну, тогда пропал.
Ведь ни одной, ей-ей, не знаю. –
Юнец в затылке почесал. –
Прочти, Георгий, заклинаю!
Коль встречу волка я в лесу,
То помолюсь на всякий случай,
И душу тем свою спасу.
Георгий, научи, не мучай!
– Не будь таким ты дураком!
Сам видишь – небо заалело, -
Старик ткнул парня кулаком. –
Гуляй до полнолунья смело.
– А зайцы-оборотни есть? -
Бок почесав, юнец спросил.
– Узнаешь сам, как брошу здесь, -
Старик угрюмо пробасил.
– Эй, борода, уйми мальца,
Да посмотри, сухи штаны ли –
На нем от страха нет лица…
Ох, что-то кулаки заныли!
И он, бранясь сердито, встал
И пару плюх юнцу отвесил.
Затем кострище затоптал
И, зло сорвав, стал снова весел.
– В час этот ранний зайцы спят,
Они такие же, как мы.
Как Иисус будь я распят,
Коль не набью своей сумы.
Что человек и заяц что?
Несоразмерны величины!
Я – божья тварь, а он ничто,
И есть на то свои причины.
Как я, он тоже может плакать.
Но может ли, как я, страдать?
Коль нет души, то слезы слякоть,
Здесь даже нечего гадать.
И зайца предавая смерти,
Творю благое дело я –
Ведь без души живут и черти,
А знать, они одна семья!
И сам невольно в небо глянул,
Как будто знака ожидал
Он в доказательство, что спьяну
Вдруг волю Бога угадал.
Что хочет, то и видит каждый.
Он не увидел ничего.
Пророк Георгий был неважный,
И не сподобил Бог его.
Но что о небе говорить –
Он лешего вблизи не видел
И продолжал речами злить…
Как Афанасий ненавидел!
Впервые в жизни люто так.
А он веков прожил немало.
Но все ж был не такой простак,
Чтоб показать до срока жало.
Смиряя гнев, он молча брел
Вслед за людьми с котомкой тощей.
Он, наконец, в себе обрел
Своих великих предков мощи.
Он лешим чувствовал себя
Впервые, может быть, с рожденья.
И, в сатанинский рог трубя,
В нем дух пылал и жаждал мщенья.