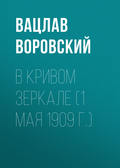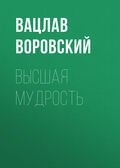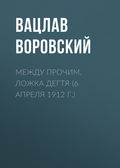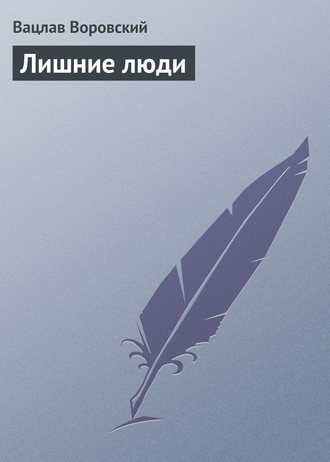
Вацлав Воровский
Лишние люди
– Ах вы… голубчик мой! И что же, вы того… оттолкнули эту руку?..
– Да, потому что, в сущности, ни на что не способен»[14].
Но если Попутков так искренне признает свою неспособность на что-нибудь путное, то нельзя сказать, чтобы его направление было столь же откровенно. Напротив, оно – как мы увидим ниже – со свойственным всякому отживающему течению непониманием старалось объяснить исключительно неблагоприятными внешними условиями свою неспособность сыграть самостоятельную общественную роль.
Ни паво, ни вороньи сомнения и колебания должны были вскоре разрешиться для Печерицы и его друзей в виде преодоления временного пессимистического настроения. Несмотря на высказываемый автором страх потонуть в болоте, потонуть они не могли, хотя бы уже потому, что, как говорит несколько дальше Печерица, «если в башке у человека зародилось кое-что, чему по законам человеческого прогресса положено развиваться, то такой человек не умирает».
Зато нельзя того же сказать про другое крыло народолюби-вой интеллигенции. То, что все определеннее зарождалось в «башках» этих элементов, лишь идеологически отражало разлагающиеся условия быта породившей их общественной группы; как эта группа, так и ее идеологи, были обречены историей на гибель. Гибель «вишневых садов» как определенной, самостоятельной хозяйственной категории, гибель того красивого мировоззрения и тех тонких настроений, которые вырастали в нежной атмосфере этих «вишневых садов», отражались в умах кающихся в форме мирового пессимизма.
Освободившись от идейной гегемонии разночинца, культурническое течение пришло окончательно к самосознанию, и это самосознание было бесплодно, как песок пустыни.
V
Выделившись из общей массы народолюбивой интеллигенции, культурно-народническое течение все резче и резче начало приобретать те характерные черты отживающего в историческом смысле общественного слоя, которые затушевывались прежде благодаря гегемонии разночинской идеологии.
Только после этого расхождения начали складываться и рельефно выступать оба указанные нами типичные настроения: жизнерадостное, оптимистическое, бодрое – разночинца и мрачное, пессимистическое, угнетенное – кающихся элементов. Вокруг этих двух настроений группировались оба течения народолюбивой интеллигенции, определяясь нередко в гораздо большей мере указанными психологическими факторами, чем социальным происхождением и положением. Дело в том, что и разночинец, и кающийся дворянин не имели под собой той прочной классовой подпочвы, которая властно определяет и направляет развитие взглядов, вкусов, понятий данной общественной группы; оба они происходили из отживающей, неспособной к самостоятельной общественной жизни среды. Разночинец, как это видно из самого названия, являлся продуктом разложения, отбросом разных социальных групп. Происходил ли он из разлагающегося как сословие крестьянства, или из недоразвившейся в России до самостоятельной роли мелкой буржуазии, или же из неустойчивых групп, как духовенство и мелкое чиновничество, – всегда в основе его психологии лежал разрыв с родной средой. Являясь по отношению к этой среде как бы «избыточным населением», колонистом, ищущим счастья вне родных условий, он отрицает и экономические условия ее жизни, и ее социальную роль, и ее типичную психологию. Конечно, в зависимости от силы этого отрицания и от степени проникновения его психологии элементами мещанства определяется и та среда, в которой он будет объекти-ровать свою новую идеологию, среда, к которой на службу он пойдет.
Нельзя не отметить, что теперь, когда капиталистические отношения и соответствующая им степень дифференциации общества приняли в России вполне определенные формы, громадный процент разночинцев растворяется в буржуазной среде; но в половине 70-х годов, в период еще слабой дифференциации, разночинец был по преимуществу народолюбив и в народной среде искал осуществления своих идеалов.
Несколько иной, хотя не менее неустойчивой, была социальная подпочва другого течения – кающегося дворянства. Происходя из тех слоев землевладельческого дворянства, которые, в силу экономического и социального характера своего быта, не могли приспособиться к новым буржуазно-капиталистическим методам хозяйства и мышления, это течение явилось, таким образом, продуктом оскудевающей, разлагающейся, обреченной на гибель общественной группы. Из родной среды оно вынесло отрицание этой среды, отрицание ее греховного прошлого и в то же время враждебное отношение к новому нарождающемуся буржуазному порядку.
Психология этого течения определялась желанием сохранить поэзию «вишневых садов» при необузданном товарном обращении, определялась переходными условиями между крепостным и капиталистическим хозяйством. Неудивительно, что кающихся потянуло в деревню, уже освобожденную от крепостной зависимости и еще не вовлеченную в торговый оборот буржуазного хозяйства.
Таким образом, психология кающегося дворянина также характеризуется отрицанием родной среды, но это отрицание – в противоположность разночинскому – нерешительное и половинчатое. Те единичные лица и группы, которые в силах были преодолеть эту половинчатость, уходили окончательно в ряды разночинцев.
Указанный нами выше раскол в рядах народолюбивой интеллигенции не только резко разделил ее на две группы, характеризуемые принадлежностью к тому или другому психологическому типу, но вместе с тем дал возможность самостоятельно развиться каждому из этих типов и принять ту форму, которая полнее всего выражала его сущность. В освобожденной психологии культурно-народнического течения сразу же выступили на первый план унылые, пессимистические нотки – отражение общественного вырождения и упадка, – и эти нотки «сомнения и колебания» стали играть в ней доминирующую роль. Спустившиеся с вершины Кавказа кающиеся элементы были ядром и вождем этого течения, и печать своей типичной психологии они наложили на все течение.
Сколько раз мы опускали руки,
Сколько раз бросали бурный спор,
И опять с отвагой шли на муки,
На борьбу за свет и за простор…[15] –
пело одно течение устами П. Я.
Неволя колыбель мою начала,
Бессилие могилу роет мне… –
отвечало другое словами Фруга.
Донкихотизму разночинцев культурно-народническое течение противопоставляло гамлетизм.
«Говорят, что беспощадный анализ – мучение, – писал в 1877 году четырнадцатилетний Надсон в своем дневнике. – Я, наоборот, нахожу в нем какое-то особенное наслаждение, особенное удовольствие…»