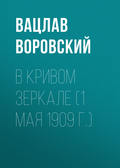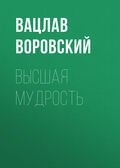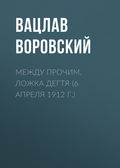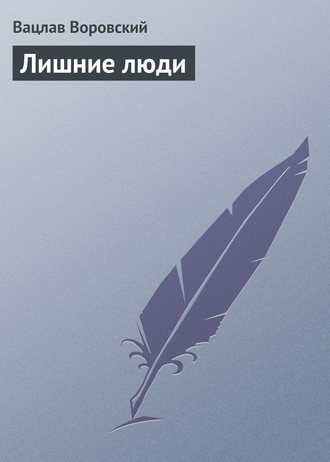
Вацлав Воровский
Лишние люди
Ответ найден, разрешена жизненная задача «лишних людей». Стройте жизнь по мещанскому шаблону, и ваша душа не будет утомляться, ваша совесть не будет болеть, вы перестанете быть лишним человеком. Классовый инстинкт подсказывает те самые практические правила жизни, которые с таким пафосом были отвергнуты в их теоретической формулировке. Анафема принципам буржуазного общества, и да здравствует мещанское благополучие в личной жизни! Чтобы спасти свое существование, чтобы перестать быть «лишними», «лишние люди» должны сбросить с себя так утомляющий их идеалистический наряд и стать мирными буржуа, как это им полагается по законам истории.
Но, найдя разрешение практической задачи, найдя правила жизни, наши герои не могут еще на этом успокоиться: нужно еще осмыслить эту жизнь, нужно осветить ее отблеском того огонька – каков бы ни был этот огонек, – на отсутствие которого так жаловался Астров.
«Или же знать, для чего живешь, или же все пустяки, трын-трава», – говорит одна из трех сестер – Маша. Но какой же смысл, какую более или менее возвышенную цель можно внести в «серенькую, заурядную» жизнь, построенную «по шаблону»? Тут на помощь является дядя Ваня.
«Когда нет настоящей жизни, то живут миражами, – говорит он. – Все-таки лучше, чем ничего». И вот таким миражом, долженствующим украсить жизнь, является особая, своеобразная теория счастья будущих поколений, ради которого «мы» живем, ради которого мы должны жить. «Счастья у нас нет и не бывает, мы только желаем его». Счастье – это удел далеких будущих поколений, для которых «мы» подготавливаем его своим существованием и трудом.
«Через двести, триста, наконец, тысячу лет – дело не в сроке – настанет новая, счастливая жизнь, – говорит Вершинин. – Участвовать в этой жизни мы не будем, конечно, но мы для нее живем теперь, работаем, ну, страдаем, мы творим ее – и в этом одном цель нашего бытия и, если хотите, наше счастье. И как бы мне хотелось доказать вам, – прибавляет он, – что счастья нет, не должно быть, не будет для нас… Мы должны только работать и работать, а счастье – это удел наших далеких потомков. Не я, хоть потомки потомков моих».
На той же точке зрения стоит и Астров. Спасая от порубки леса, насаждая новые, он питается надеждой, что, «если через тысячу лет человек будет счастлив, то в этом немножко буду виноват и я». Эта же мысль скрашивает и безнадежно печальное существование трех сестер.
«Пройдет время… – говорят они, – страдания наши перейдут в радость для тех, кто будет жить после нас, счастье и мир настанут на земле, и помянут добрым словом и благословят тех, кто живет теперь».
Правда, неисправимый скептик Астров позволяет себе иногда высказывать сомнения насчет благодарности будущих поколений. «Те, которые будут жить через сто – двести лет после нас и для которых мы теперь пробиваем дорогу, – размышляет он, – помянут ли нас добрым словом? Ведь не помянут!»
Но против этого маловерия выступает Маша со своим категорическим императивом: «Человек должен быть верующим или должен искать веры, иначе жизнь его пуста, пуста».
Эта обязательность веры является очень характерной чертой психологии «лишних людей», но вместе с тем она с логической неизбежностью вытекает из всей их позиции. У здоровых, бодрых поколений вера в будущее является неотъемлемой, органической частицей того общего настроения, которое толкает их на борьбу и заставляет выдвигать в борьбе известные цели и лозунги. Для этих поколений, по меткому выражению Базарова, принципов не существует, а есть только ощущения. Их цельные натуры не знают противоречий между задачами и средствами их выполнения, не знают разлада между сознанием и волей, между убеждением и верой. Они и мыслят, и верят, и действуют под влиянием единого настроения, единой цепи ощущений. Не то – падающие, отмирающие течения.
Их половинчатость и раздвоенность по необходимости противопоставляют принципы и ощущения, долг и желания. И долг, в силу этого, является чем-то чуждым, внесенным извне, каким-то холодным, бездушным императивом, тяготеющим над человечеством, как злой рок. Он не вытекает органически из цельной психологии субъекта в полном соответствии с его волей, с его общим настроением, а является каким-то внешним, суровым законом, навязанным человеку какой-то высшей силой. И человек-раб страдает под гнетом этого закона, но, понятно, подчиняется ему, ибо чувствует, что только в этой рабской атмосфере может прозябать его рабская душа. Он уже раскололся: между его сознанием и волей целая пропасть. Сознание твердит: ты должен работать для счастья будущих поколений; воля отвечает: не желаю, не верю.
И вот над человеком-рабом грозно встает скрижаль долга: ты должен верить, иначе ты погибнешь. И раб бросается в разные идеализмы, строит безобидные фикции счастья человечества, ради которого он якобы живет, и всячески старается приукрасить свое неприглядное существование. Потому что ведь «надо жить», как неоднократно подчеркивают чеховские герои.
«Человек должен быть верующим», – и разочарованный «лишний человек», которому под стать было пустить себе пулю в лоб, находит сразу в этой философии достаточное оправдание пошлости, оправдание своего зоологического существования.
«Что же делать, надо жить», – вздыхает он вместе с Соней и продолжает жить за счет будущих поколений.