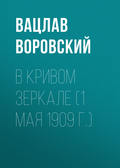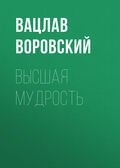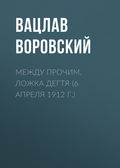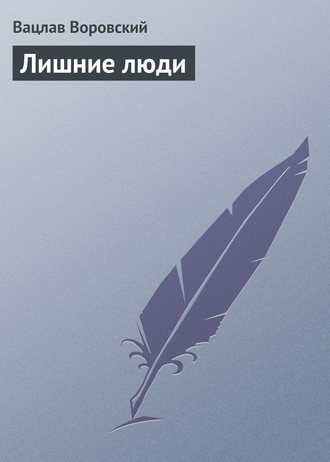
Вацлав Воровский
Лишние люди
«Разночинец чувствует свое бессилие в качестве самостоятельного общественного слоя, он ищет поэтому точку опоры для своих заветных целей, ищет ее в низинах, где так же страдают, как и он; он становится „народолюбив“. Таковы, на наш взгляд, основные психологические черты „разночинца“: они непосредственно вытекают из его социального положения» (А. П. Журнальные заметки)[6].
В первое десятилетие жизни обновленной России и кающиеся дворяне, и разночинец шли дружно в народную среду; первые – «чтобы уплачивать старинный, мучительный долг», по выражению А. О. Новодворского, вторые – «чтобы возиться с людьми». Правильнее даже сказать, что кающиеся шли за разночинцем, ибо этот молодой, жизнерадостный элемент с первых же шагов взял в руки дирижерскую палочку и на все движение наложил свой характерный отпечаток. Но недолго продолжалось это единомыслие.
При первых неблагоприятных обстоятельствах началось расхождение обоих течений и рельефно сказалось различие двух психологий: разночинец начал приспособлять обстоятельства к своим задачам, кающийся дворянин начал приспособлять свои задачи к этим обстоятельствам. И чем дальше, тем больше расходились их пути; бодрый, полный надежды разночинец пошел своей дорогой, а кающиеся элементы оказались не в силах жить самостоятельной жизнью: их дальнейшее шествие было постепенным падением. Мы и остановимся на истории этого падения, так как судьба разночинца не входит в рамки нашего очерка. Но прежде чем перейти к этой печальной истории, мы должны сделать одно замечание.
Два типа, разночинец и кающийся дворянин, являются в нашем дальнейшем изложении главным образом психологическими типами. Чем дальше от момента освобождения крестьян, тем больше затушевывается классовый характер обоих типов; состав обоих лагерей становится все более пестрым, но эта характерная психология, которую внесли в свое течение, с одной стороны, разночинец, с другой – разлагающееся прогрессивное дворянство, – эта психология продолжает налагать свой яркий отпечаток на оба течения.
Течение кающегося дворянства, которое можно было бы по его внутреннему содержанию назвать также культурно-народническим, являлось в рассматриваемый нами период идеологическим выражением настроений и взглядов той промежуточной, средне-дворянской, чиновничьей и интеллигентской среды, которая не успела еще дифференцироваться и раствориться в новых классах капиталистического общества.
IV
«Роман интеллигенции с народом» основывался, как мы видели, на том предположении, что освобожденный от крепостной зависимости народ должен мыслить, желать и развиваться так же, как и освободившаяся от своей прежней сословной психологии дворянская или разночинская интеллигенция. Из этой утопической предпосылки вытекала для сознания этой интеллигенции историческая возможность и моральная необходимость «идти в народ», слиться с ним, «опроститься».
«Мы идем слиться с народом, – говорит Серпороев[7], – мы бросаем себя в землю, как бросают зерно, чтобы зерно это взошло и уродило от сам-пять до сам-сто, как египетская пшеница».
«Вот где теперь потечет моя жизнь, – рассуждает другой герой того же романа, Караманов. – Вести беседу с этой теткой, жить жизнью, сердцем и мыслью батрака, войти в батрацкие интересы, отрешиться от всего мира, который вне батрачества, убить в себе потребности, которые развивают в человеке образование, богатство, знание, из крупного землевладельца, кандидата прав и литератора выродиться в поденщика и узкими интересами поденщика заглушить в себе все высокие человеческие интересы, – одним словом, буквально влезть в шкуру народа, чтобы понять этот народ и слиться с ним, отдать барское, белое, изнеженное тело посконной рубахе и сермяге, облечь узкую дворянскую ногу в онучу и лапоть, чтобы на себе самом почувствовать всю прелесть онучи и силу лаптя»[8].
С такими идеалистическими и альтруистическими намерениями пошла народолюбивая интеллигенция в деревню «работать и думать с народом». Но ее понятие о народе оказалось столь же наивным и фантастическим, как и представление о «прелестях онучи» и «силе лаптя». Народ действительный, реальный, а не водевильный народ старых сентиментальных романов оказался великим материалистом и эгоистом. Народ, – как это справедливо предполагал Михаил Михайлович, – действительно питал «ненасытную жажду» устроить жизнь по-новому; действительно хотел «вздохнуть полной грудью…». Но он жаждал устроить новую жизнь хозяйственного мужичка, жаждал материального благополучия мелкого буржуа, хотел вздохнуть полной грудью свободного собственника. Идеалистические порывы молодежи наталкивались на материалистическое желание: «Землицы бы»; ее альтруистическая проповедь не в силах была устранить эксплуатацию батрака его же односельчанином.
«Мы идем в народ, в курные избы, – мечтала народолюбивая интеллигенция, – и будем там жить, будем там пахать и сеять – не современные идеи, а просто рожь, ячмень и пшеницу, а после уже и идеи, если достаточно удобрим почву, унавозим ее»[9].
А между тем действительность с каждым днем все яснее доказывала, что чем успешнее унаваживалась земля «под рожь, ячмень и пшеницу», тем менее поддавалась почва унаваживанию под «современные идеи».
Объективный процесс развития деревни все резче и резче расходился с идеологической схемой народолюбивой интеллигенции.
Но на почве этого объективного, стихийного процесса, подготовлявшего жестокое разочарование, возникали и субъективные сознавательные факторы, противодействовавшие культурной деятельности молодежи. С одной стороны, над темным крестьянством тяготело мрачное привидение только что усопшего крепостного права со всеми его ужасами, а следовательно, и инстинктивное недоверие ко всякому «барину», ко всякому человеку не из деревни, как бы он ни наряжался в мужицкое платье; с другой стороны, на другой же день после падения старого порядка доминирующую роль в деревенской жизни начал играть новый человек – человек, не «ради идеи» носивший поддевку и сапоги бутылками, кость от кости той же деревни, близкий ей по психологии, а главное, сильный своей пронырливостью и превосходным знанием этой деревенской психологии. Человеком этим был – кулак. Кабатчик, лавочник или другая подобная личность, вообще человек с капитальцем, а следовательно, и с весом, заправлял всем миром и мирским хозяйством, задавал тон не только в вопросах сельской политики, но и по части этики и поведения отдельных мирян. Его сторону тянули, в силу сродства интересов, все денежные и хозяйственные мужички, в его руках – все волостное правление, старшина – кум, писарь – друг-приятель и т. д.