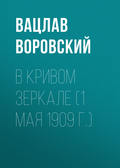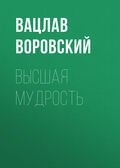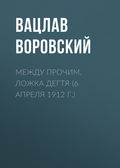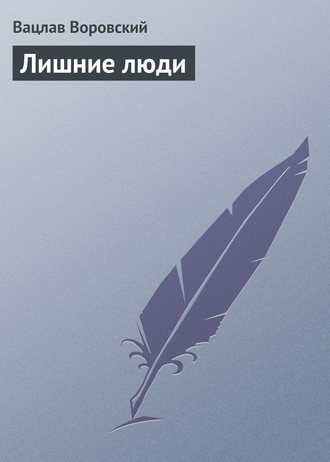
Вацлав Воровский
Лишние люди
VI
Вполне законченный тип «лишних людей» сложился, как мы уже видели, к концу 80-х годов. Последующее развитие общественных отношений, особенно новый подъем, которым ознаменовались 90-е годы, еще ярче подчеркнул те отрицательные черты рассматриваемого нами типа, которые так характерны для падающего, отживающего свой век течения. Как старая, полусгнившая баржа, занесенная песком и тиной, неподвижно лежит на дне реки, в то время как над ней проносится благодатный поток весеннего половодья, – так и наши эпигоны культурно-народнического типа не в силах были подняться из засосавшей их тины, когда над их головами зашумели волны нового весеннего разлива. И жизнь прошла мимо них.
Типичная психология «лишних людей», являясь, как мы указывали выше, «надстройкой» над их общественно-экономическим бытом – бытом вымирающего общественного типа, по необходимости окрашена в мрачный пессимистический цвет; и как сквозь черное стекло нельзя воспринять всей яркой жизнерадостной красоты майского утра, так и сквозь оболочку пессимистического настроения «лишних людей» не могли проникнуть бодрые голоса весны. Положение становилось безнадежно. Дальше идти было некуда. «Лишние люди» могли только или прозябать и гибнуть, или перерождаться в другие общественные типы, то есть опять-таки гибнуть как течение, как общественный слой. И оба эти явления – перерождение и гибель – можем мы наблюдать в среде чеховских героев.
Основная психологическая черта «лишних людей» – это разлад сознания и воли. Эта черта характерна для представителей всякого отмирающего, сходящего со сцены общественного течения. Если какая-нибудь социальная группа осуждена объективными историческими условиями на гибель, она становится уже неспособна смотреть вперед, задаваться далекими целями, ставить себе прогрессивные задачи. Ее роль, по существу, – консервативная. Не могут выдвигать жизненных задач и отдельные представители такой группы, поскольку они остаются на почве интересов и характерной психологии данной группы, поскольку они не впадают в отщепенство. Неудивительно поэтому, что у наших героев разлад сознания и воли сказывается прежде всего в неспособности ставить себе цели, в отсутствии идейных жизненных задач.
«Когда идешь темной ночью по лесу, – признается Астров, – и если в это время вдали светит огонек, то и не замечаешь ни утомления, ни потемок, ни колючих веток, которые бьют тебя по лицу. Я работаю, как никто в уезде… но у меня вдали нет огонька…»
Это отсутствие огонька, отсутствие руководящей цели не может, в свою очередь, не парализовать действенной энергии, не может не вызывать полного упадка воли. Нет цели в жизни, нет воли работать, нет желания не только делать что-нибудь для ближнего, но даже любить этого ближнего. Апатия одолевает человека, осмысленная жизнь утрачивает всякую прелесть.
«С тяжелой головой, с ленивой душой, утомленный, надорванный, надломленный, без веры, без любви, без цели, как тень, слоняюсь я среди людей и не знаю: кто я, зачем живу, чего хочу? – жалуется Иванов».
«Не слушаются ни мозг, ни руки, ни ноги, – продолжает он. – Ничего я не жду, ничего не жаль, душа дрожит от страха перед завтрашним днем».
Почти теми же словами выражает свое настроение и Астров: «Ничего я не хочу, ничего мне не нужно, никого я не люблю». Но эта атрофия воли не сопровождается притупленностью сознания: напротив, сознание работает и работает, подчеркивая и клеймя нравственное бессилие и нравственную негодность лишнего человека.
«День и ночь болит моя совесть, – говорит тот же Иванов, – я чувствую, что глубоко виноват, но в чем, собственно, моя вина, не понимаю… Я умираю от стыда при мысли, что я, здоровый, сильный человек, обратился… в лишние люди. Это возмущает мою гордость, стыд гнетет меня, и я страдаю».
Настоящее признание очень характерно. Иванов чувствует, что он виноват, но не знает, в чем. Сознание говорит ему, что его бездеятельность, безвольность, его паразитное существование – преступление перед обществом, но ему недоступно познание тех объективных причин, которые сделали его никуда не годным человеком. И он бьется, как рыба об лед, в тщетных поисках ответа на терзающий его вопрос: «В двадцать лет мы все уже герои… и к тридцати уже утомляемся, никуда не годимся. Чем, чем ты объяснишь такую утомляемость? Почему русский интеллигент „с женой замучился, с домом замучился, с именьем замучился, с лошадьми замучился!“» – вторит ему Вершинин.
«Отчего мы, едва начавши жить, становимся скучны, стары, неинтересны, ленивы, равнодушны, бесполезны, несчастны…» – плачется Андрей Прозоров. И все они – жалкие, беспомощные, лишние – обращаются к жизни со своим роковым «почему?». Но действительных, глубоких причин им не дано познать, и они вынуждены вращаться на поверхности жизни, довольствуясь наивными ответами.
«Не соразмерив своих сил, не рассуждая, не зная жизни, – говорит Иванов, – я взвалил на себя ношу, от которой сразу захрустела спина и натянулись жилы… Вот как жестоко мстит мне жизнь, с которой я боролся».
Это объяснение, равно как и пресловутая ссылка на «среду», которая «заела», конечно, не дает ответа на вопрос, откуда эта «утомляемость» «лишних людей». Почему же другие не утомляются, почему другие не надрывают спин, почему их не может заесть среда? История дает нам тысячи примеров того, какую исполинскую работу способны выносить целые общественные группы и их отдельные представители, раз этим группам самой жизнью суждено крупное будущее. Вера в идеалы, страстная жажда их осуществления, гигантская энергия в борьбе за эти идеалы – все это лишь функции той основной величины, которая определяет собой и положение данной группы в обществе, и содержание ее идеалов, и осуществимость их в историческом развитии. Но ограниченная групповая психология наших героев не позволяет им понять глубоких объективных причин их мелочных субъективных страданий.
Правда, эта же психология благодаря своей поверхностности позволяет им утешаться близорукими элементарными толкованиями. Познание истины, познание всей безнадежности их положения означало бы для них смерть. Объяснение «утомляемости», данное Ивановым, напротив, приводит их к выводам, позволяющим оправдывать жизнь. А выводы эти очень простые и ясные: если Ивановых губит то, что они взвалили непосильную ношу, то ясно, что, раз они страдают такой «утомляемостью», следует поберечь спину и поуменьшить ношу.
«Не женитесь вы ни на еврейках, ни на психопатках, ни на синих чулках, – назидательно советует Иванов, – а выбирайте себе что-нибудь заурядное, серенькое, без ярких красок, без лишних звуков. Вообще всю жизнь стройте по шаблону. Чем серее и монотоннее фон, тем лучше. Голубчик, не воюйте вы в одиночку с тысячами, не сражайтесь с мельницами, не бейтесь лбом о стены… Запритесь себе в свою раковину и делайте свое маленькое, Богом данное дело… Это теплее, честнее и здоровее…»