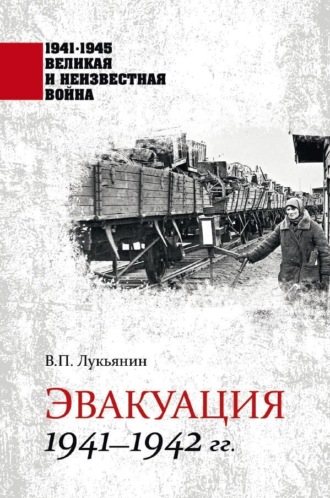
В. П. Лукьянин
Эвакуация. 1941—1942 гг.
Чувство причастности
Я, впрочем, вовсе не настаиваю, что именно «воспитательную» цель преследовали райкомовские деятели, когда строжили «нерадивых» председателей и директоров за поставку на сборные пункты некондиционных тракторов, уздечек и лошадей. Даже и сама мысль о том, что реквизиция жизненно необходимой техники и живности в первые дни войны под предлогом, что она нужна для фронта, на самом деле имела какую-то иную цель, кажется абсурдной. И я бы не решился выдвигать свою версию, если б она не подкреплялась многими другими, столь же непостижимыми с точки зрения здравого смысла действиями властей.
Самый загадочный, на мой взгляд, пример – масштабная кампания осени 1941 года по сбору теплых вещей для фронта. Начну рассказ о ней с телеграммы из Москвы, полученной в свердловском обкоме то ли в конце августа, то ли в начале сентября 1941 года (точная дата на документе, возможно, как-то зашифрована или вовсе не обозначена). Цитирую ее с сокращениями, ибо она довольно длинная, но изобилует повторами:
«ПЕРЕДАЕМ ЛОЗУНГИ О СБОРЕ ТЕПЛЫХ ВЕЩЕЙ ДЛЯ КРАСНОЙ АРМИИ ДВТ ПЕРВОЕ ТЧК КОЛХОЗНИЦЫ И КОЛХОЗНИКИ ЗНАК ВОСКЛИЦАНИЯ ОБЕСПЕЧИМ ТОПЛЫМИ ВЕЩАМИ НАШУ КРАСНУЮ АРМИЮ ЗПТ ВЕДУЩУЮ ГЕРОЧЕСКУЮ БОРЬБУ ПРОТИВ ФАШИСТСКИХ РАЗБОЙНИКОВ ЗНАК ВОСКЛИЦАНИЯ СДАВАЙТЕ ДЛЯ КРАСНОЙ АРМИИ ПОЛУШУБКИ ЗПТ ОВЧИНЫ ЗПТ ВАЛЕНКИ ЗПТ ФУФАЙКИ ЗПТ БЕЛЬЕ ЗПТ ШЕРСТЬ ЗПТ РУКАВИЦЫ ЗПТ ШАПКИ ТИРЕ УШАНКИ ЗПТ ВАТНЫЕ БРЮКИ ЗПТ КУРТКИ И ДРУГИЕ ТЕПЛЫЕ ВЕЩИ ЗНАК ВОСКЛИЦАНИЯ ВТОРОЕ ТЧК РАБОЧИЕ ЗПТ РАБОТНИЦЫ ЗПТ СЛУЖАЩИЕ И ДОМОХОЗЯЙКИ ЗНАК ВОСКЛИЦАНИЯ ОБЕСПЕЧИМ ТЕПЛЫМИ ВЕЩАМИ НАШУ КРАСНУЮ АРМИЮ ЗПТ ВЕДУЩУЮ ГЕРОИЧЕСКУЮ БОРЬБУ ПРОТИВ ФАШИСТСКИХ РАЗБОЙНИКОВ <…> ТРЕТЬЕ ТЧК КОМСОМОЛЬЦЫ И КОМСОМОЛКИ ЗНАК ВОСКЛИЦАНИЯ ОРГАНИЗУЙТЕ СБОР ТЕПЛЫХ ВЕЩЕЙ <…> ЧЕТВЕРТОЕ ТЧК ГРАЖДАНЕ СОВЕТСКОГО СОЮЗА <…> ПЯТОЕ ТЧК ЧЕМ ТЫ ПОМОГ ФРОНТУ ЗНАК ВОПРОСА СДАЛ ЛИ ТЕПЛЫЕ ВЕЩИ И БЕЛЬЕ ДЛЯ КРАСНОЙ АРМИИ ЗНАК ВОСКЛИЦАНИЯ НЕОБХОДИМО ИЗДАТЬ НА МЕСТЕ ОТДЕЛЬНО КАЖДЫЙ ЛОЗУНГ И РАСКЛЕИТЬ ВО ВСЕХ ГОРОДАХ И СЕЛАХ ВАШЕЙ ОБЛАСТИ ТЧК 2А ТЧК = ПРОПАГАНДА ЦЕКАПАРТ АЛЕКСАНДРОВ»[83].
Цитируя этот документ, сохраняю для наглядности его «телеграфный стиль»; не стал даже править и явные опечатки – в таком виде, мне кажется, он лучше передает дух ушедшей эпохи. Добавлю только, что тайный символ «2А» в последней строчке я не смог расшифровать, зато об Александрове, чья подпись значится под телеграммой, считаю уместным сказать несколько слов: это была фигура в свое время очень известная и в определенном смысле знаковая.
Еще до войны профессор-философ Г.Ф. Александров активно поучаствовал в создании книги «Иосиф Виссарионович Сталин. Краткая биография» и благодаря тому вошел в доверие вождя. После войны Георгий Федорович стал академиком, директором Института философии Академии наук СССР; уже при Хрущеве – министром культуры СССР. Избирался в Верховный Совет СССР, дважды получал Сталинские премии – и дважды был замешан в крупных скандалах, после чего был «сослан» в Минск. А с 1940 по 1946 год неуемный партийный философ заведовал отделом пропаганды и агитации ЦК ВКП(б).
Но подробности его остросюжетной биографии любознательный читатель легко найдет в Интернете, а здесь мне было важно подчеркнуть, что телеграмму о полушубках-валенках подписал не безымянный клерк со Старой площади, а крупный партийный функционер, и если агитационная кампания «декорировалась» даже лозунгами, утвержденными в ЦК, значит, ей придавалось большое значение.
Я впервые соприкоснулся с этой кампанией почти двадцать лет назад, работая над книгой о Свердловском заводе по обработке цветных металлов (СвЗ ОЦМ)[84]. Как выяснилось еще тогда, сбор теплых вещей для фронта на заводе и везде был инициирован постановлением бюро Свердловского обкома ВКП(б) от 6 сентября 1941 года[85] во исполнение указания ЦК, полученного, очевидно, незадолго до цитированной выше телеграммы. Меня тогда поразил накал страстей, возбужденных этой странной кампанией: завод просто лихорадило: на каждом собрании напоминали: давай-давай! И, например, за попытку сдать валенки, не принесенные из дома, а купленные (с использованием служебного положения) на торговом складе, директора завода на заводском же партсобрании чуть было не исключили из партии. Такой вот был разгул внутрипартийной демократии.
Между тем из скудного домашнего гардероба под маркой помощи фронту чего только ни тащили… Попался мне в архиве черновой список вещей, сданных в один из тех страдных дней. Для отчетности его потом переписали набело, кое-что очень уж неуместное исключив, и «официальный» экземпляр подшили в «деле». Но, видимо, по чистой случайности в той же папке сохранился и этот пожелтевший листок с небрежно оборванными краями, исписанный простым карандашом. Значились в нем: полушубок – 1, валенок – 5 (очевидно, пар), меховой жилет – 1, меховые рукавицы – 10 и немало других, безусловно, полезных для защиты от холода вещей; но значились там еще и полотенца, и вещи совсем уж в этом перечне экзотические: платье, юбки дамские, жакет дамский[86]. Когда я наткнулся на этот архивный раритет, еще была физическая возможность пообщаться с многоопытными фронтовиками, и я поговорил с троими. Я не стал у них выяснять, может ли красноармейцу в заметенной пургой подмосковной траншее переднего края понадобиться дамский жакет, а задавал вопрос в более общей форме: что они помнят о зимних вещах, собранных в тылу для фронта осенью 1941 года? И все трое, не сговариваясь (поскольку с каждым я разговаривал по отдельности и в разное время), категорически заявили, что не только не помнят, но и помнить тут нечего: даже в самые трудные моменты войны красноармейцы одевались строго по уставу. Вязаные носки или теплые варежки в посылке с подарками из тыла – это было в порядке вещей и даже поощрялось, а чтоб валенки или полушубок гражданского образца – такого, заверили меня фронтовики, не было, потому что быть просто не могло!
Так что же значил «тот сон», то есть история с полушубками для фронта? Зачем их собирали (под лозунги от будущего академика Александрова) и куда эти вещи потом бесследно канули? Этого мне по сей день никто объяснить не смог. Боюсь, тут повторялась история с полуторками и повозками для фронта в первый день войны. Правда, там хоть был план мобилизации: работал, скажем, трактор на колхозном поле, и все знали, что его можно использовать в качестве тягача для артиллерийского орудия, так что в случае войны его непременно реквизируют. Но на полушубки, валенки или ватные штаны мобилизационных планов не существовало точно. Как же вдруг возникла идея «мобилизовать» их тоже? Не уверен, что кампания могла спонтанно родиться исключительно в служебном кабинете будущего академика и сама собой приобрести всесоюзный размах: наверняка тут сложились креативные и административные ресурсы разных ведомств. Но какой в том был смысл?
Возможно, какой-то прагматический замысел у интендантов кремлевского уровня первоначально все-таки был, но, даже если это так, он быстро трансформировался в нечто иное. Не могу утверждать со стопроцентной уверенностью, ибо документов, которые однозначно подтверждали бы мою версию, мне не попадалось; по-видимому, их просто не существует. Но вполне допускаю, что «мобилизацией» теплых вещей в холодной стране власти стремились достигнуть радикального «воспитательного» эффекта: чтобы советский человек в самой бескомпромиссной форме ощутил личную причастность общему делу. Страна в опасности – и это уже не чья-то там (в штабах, в Кремле) забота, а лично твоя. Пожар в доме – и уже неважно, чье ведро подвернулось тебе под руку; неважно, что попачканы и обгорели парадные брюки, в которых тебя застало бедствие, и о растоптанной клумбе с тюльпанами или маргаритками будешь печалиться потом. А сейчас – все плечом к плечу, нет ни личного, ни чужого, вместе поборем бедствие – тогда и сочтемся. Вы спросите: а в чем логика таких действий? Но это примерно та же самая логика, что у сержанта, обучающего новобранцев: «Копать траншею от забора до обеда!» Зачем?! А затем, чтоб сразу усвоили: в армии приказы не обсуждают, а исполняют. Кстати, и не только в армии. Помните знаменитую сентенцию: «Верую, ибо абсурдно!»
Если согласиться с такой трактовкой – в истории Великой Отечественной войны просматривается многоплановая система мер, одна дополняет другую, а все вместе направлены на осознание общего бедствия как глубоко личного. Порой они отдают абсурдом – это так, но, возможно, потому и сработали!
Самый заметный и очень чувствительный для рядового советского человека компонент той системы – личное участие в финансировании военных действий. Война влечет за собой не только невосполнимые человеческие потери и безмерные разрушения материальных ценностей, но и неисчислимые финансовые затраты. Впрочем – почему «неисчислимые»? Когда я был студентом, майор Слюнько, бывалый фронтовик, преподаватель нашей военной кафедры, убеждал нас очень внимательно рассчитывать параметры артиллерийской стрельбы, чтоб не допустить лишнего расхода боеприпасов, ибо, как он говорил, «один выстрел – это пара хромовых сапог». Много времени спустя мне встретилась цифра: плановая себестоимость производства популярнейшей в войну 122‑мм гаубицы образца 1938 года на Уралмаше составляла более 90 тысяч рублей (реально удавалось делать ее дешевле). А теперь представьте себе (хотя бы по примелькавшимся кадрам кинохроники военных лет) «пейзаж после битвы»: до горизонта, сколько видит глаз, дымящиеся воронки от снарядов, подбитые танки, искореженные артиллерийские орудия… И это последствие только одного сражения! А сколько их было? И сколько вообще стоила война?
Вопрос не о «цене победы» (из «либеральных» СМИ), а именно о стоимости войны вполне корректен. Существует обширная литература об экономическом аспекте войны, где все соответствующие цифры обсчитаны самым тщательным образом. Не буду, однако, вместе с читателем всерьез погружаться в эту остропроблемную область и цифру возьму «с ближней полки» – из Интернета, в надежде, что она более или менее соответствует реальности: оказывается, 582,4 млрд рублей в ценах того времени составили расходы СССР на оборону. Из этой суммы 80 млрд рублей, то есть около 14 процентов, получено за счет государственных военных займов, которые распределялись среди населения; их за войну было четыре[87]. Доля не «контрольная», но весьма заметная. А не была бы заметная, так зачем и затевать подписные кампании?
Не сомневаюсь, что в условиях государственной («общенародной») собственности эти цифры можно было так переиграть, чтобы производство вооружения на все сто процентов оплачивалось из казны, а скудные семейные бюджеты советских людей при этом не были бы затронуты. Но власти страны предпочли «пропускать» эти 80 миллиардов через личные карманы с дальним прицелом: деньги все равно возвращались, но при этом оставляли у каждого «добровольно-принудительного» подписчика на военный заем чувство личной причастности к обороне страны.
Был широко распропагандирован еще такой неординарный «почин». Саратовский колхозник Ферапонт Петрович Головатый за свои кровные (будто бы продал на рынке бочку меда с собственной пасеки) купил на саратовском же авиазаводе два истребителя по 100 тысяч рублей каждый и передал их в фронтовую часть[88]. Летая сначала на одном из них, потом на втором летчик Б.Н. Еремин стал Героем Советского Союза, а потом дослужился до звания генерал-лейтенанта.
Разные версии происхождения богатства и причин щедрости колхозника («обобранного советской властью») можно найти в Интернете; у меня нет надежных источников, чтобы с ними спорить или соглашаться. В любом случае проявление такой инициативы не могло обойтись без серьезной организационной поддержки, и на такую поддержку партийные органы (а мыслимо ли было обойтись без их участия?) не пожалели ни времени, ни сил. Ибо это был знак и другим – поднатужиться. После того на личные сбережения советских граждан – больше в складчину, а в отдельных случаях и в одиночку, – стали покупать танки, самолеты, пушки, даже бронепоезда для фронта. Вы полагаете, что от того сильно возросла боевая мощь Красной армии? Честно говоря, это была капля в море: купленные в частном порядке самолеты, танки и прочая техника исчислялись единицами, а государственные военные заводы производили их тысячами и десятками тысяч.
Даже легендарный Уральский добровольческий танковый корпус, вооруженный техникой, созданной на народные деньги и укомплектованный добровольцами (при конкурсе 10 человек на место!), был не столь уж заметной «деталью» в панораме войны: в Курском сражении, где уральское формирование получило свое боевое крещение, с обеих сторон участвовало (по данным из Интернета) около 13 тысяч танков и самоходных артиллерийских установок, а в УДТК числилось около двухсот боевых машин. Но это был вклад уральцев – не столько, может быть, пример другим, сколько фактор самосознания.
Кампаний и починов, целью которых было включение каждого отдельно взятого советского человека в единый строй борцов против захватчиков, за полную и безоговорочную победу над гитлеровской Германией, было великое множество, они дополняли и развивали друг друга, следовали друг за другом непрерывной чередой, постоянно обновляясь, чтоб не утратить действенную силу из-за привыкания.
Молодые и физически крепкие мужчины уходили из цеха на фронт – на их место у станка, верстака, сборочного конвейера принимались их жены, подростки-сыновья, но, оказывается, не затем, чтобы, лишившись кормильца, самим зарабатывать на хлеб, а чтобы заместить их на рабочем месте, это подчеркивалось. Война становилась семейным делом!
На заводе создавались фронтовые бригады; в состав цеховых бригад включались работавшие в них прежде фронтовики; «виртуальное» присутствие воюющего вдалеке от Урала товарища сопровождалось вполне реальным назначением ему производственного задания, которое выполнялось общими усилиями членов бригады. Ему даже выписывали зарплату, которая шла на благородные и всем заметные цели.
Коллективные письма на фронт и письма фронтовиков в тыловые коллективы; фронтовые знамена – цехам, обмен делегациями и т. д., и т. п.
Обо всем об этом в советские времена писалось очень много, но как-то не принято было подчеркивать, что это и есть процесс созидания морально-политического единства советского народа. Без этой исключительно активной, неусыпной, изобретательной и, несмотря на некую «топорность» (а может, отчасти и благодаря ей), очень эффективной работы действительно не было бы советского народа, а было бы «население» – конгломерат «самоценных» индивидов, мучительно переживающих прежние обиды и новые утраты и лишения, всецело поглощенных заботой о собственном выживании и видящих в каждом «товарище по несчастью» конкурента, которого надо обойти, опередить, даже оттолкнуть, чтобы первым ухватиться за спасительную соломинку…
Наивно думать, что под натиском агитационно-пропагандистских мер человек прозревал (или, если такой подход вам ближе, утрачивал остроту зрения), забывал о прежних обидах и нынешнем неустройстве жизни, становился убежденным коллективистом и борцом за общее правое дело. В действительности все было гораздо сложней: он оставался сам собой, какой уж есть, но включался в другой социально-нравственный контекст и по этой причине вынужден был вести себя иначе.
Жизнь «на миру»
Сам механизм включения в «контекст» был прост и безотказен: политико-пропагандистская работа, направленная на то, чтоб склонить индивида, который «сам по себе», действовать по «общему уставу», совершалась, как правило, «на миру». А мир (в старину писалось «мiръ», в отличие от «мира», состояния без войны) – это не ближнее окружение, не «своя компания» (хотя «за компанию» делается много хорошего, но и плохого тоже), даже не «коллектив» в расхожем (хотя бы и нынешнем) понимании этого слова, а нечто другое, более глубоко – я бы сказал, онтологически – связанное с жизнью отдельно взятого человека.
Вообще-то в советское время про «мiръ» редко вспоминали (разве что в пословицах: «на миру и смерть красна», «миром и батьку бьют» и т. п.), а всегда говорили именно про коллектив, но это был коллектив по-советски. Что я имею в виду? Коллектив в обычном понимании – некое множество людей, объединенных общей деятельностью, и ничего более. Коллектив бригады или цеха, коллектив кафедры, коллектив фирмы. Отношения между работниками в таком деловом сообществе могут варьироваться в самом широком диапазоне: где-то коллеги просто «соседствуют» (как жители многоквартирного дома, не узнающие друг друга за пределами подъезда), где-то по-человечески сближаются – пьют чаи с тортом в дни рождения, по праздникам устраивают «корпоративы». Больше их ничто друг с другом не связывает.
Иное дело коллектив в советском понимании: он предполагает не только деловую, производственную, но и, скажем так, социальную близость – как в крестьянской общине или, того больше, в патриархальной семье, где, как правило, в тесном житейском симбиозе соединялись три поколения и складывалась негласная, но строгая субординация. Он организует и направляет жизнь каждого работника, который в нем числится: растит его (не только в профессиональном, но и в духовно-нравственном плане), задает нормы поведения, поощряет, порицает, при случае берет на поруки в намерении «перевоспитать», а в иных случаях «выдвигает» и «продвигает»: на учебу, на выборную должность, на награду. Коллектив гордится своими «продвинутыми» воспитанниками, как родители преуспевшими детьми, а те, в свою очередь, гордятся коллективом, их воспитавшим.
Такое понимание коллектива было естественно в стране, на протяжении жизни одного поколения превратившейся из аграрной в индустриальную. Энтузиасты радикальных социальных преобразований в двадцатые годы напридумывали много новаций, касающихся семьи и быта, но они не прижились, потому что повседневная народная жизнь в силу естественной внутренней логики постепенно возвратилась в привычные берега. «Мiръ» и семью изрядно порушили, но они тогда устояли. Косвенным подтверждением тому может служить хотя бы тот факт, что практически вся советская песенная классика 1930–1940‑х годов, с этими березками, тропинками, зорьками, крылечками, гармонистами, ромашками, – она же вся «деревенская» по теме, тональности, мелодическому строю.
Традиционные прообразы коллектива по-советски – деревенская община, патриархальная семья – сами по себе, по своей природе, не были идиллическими формами организации коллективной жизни. Народный опыт запечатлел негативные варианты: «Мир с ума сойдет – на цепь не посадишь»; «С волками жить – по-волчьи выть»; «Своя рубашка ближе к телу» и т. п. Конфликты, порой самые жестокие, случались и «в миру», и в семье, потому что мир состоит из отдельных людей, а они (у каждого свои интересы, амбиции, темперамент) не всегда с готовностью встраиваются в общий ряд («Паршивая овца все стадо портит»; «В семье не без урода», – осуждает ослушников «мир»), а организующее начало с таким неудобным «человеческим материалом» не всегда способно совладать, вот и получается: «Каков поп, таков и приход». Так что для традиционного «мира» и, соответственно, для коллектива по-советски всегда особое значение имело, скажем так, руководящее и организующее начало: «Мир всех старше, а и миру урядчик есть»; «Мир без старосты ватага»; «Мир без старосты (без головы), что сноп без перевясла»[89]. Ну, с руководящим началом при советской системе проблемы не было: роль урядчика, старосты, головы партия взяла на себя, а другого никто и не мыслил.
Для советской социально-организующей практики матрица «коллектива» оказалась очень подходящим инструментом достижения программных целей. Прежде всего – для обуздания индивидуализма, на который рассчитана буржуазная демократия. Индивид, предоставленный самому себе, может и желать недозволенного, и трястись за свою шкуру, и «распоясаться», и воображать о себе, а в коллективе («на миру») должен соответствовать принятым нормам, чтоб не стать «отщепенцем».
В матрицу «коллектива» хорошо укладывались «нормы советской жизни», какими они рисовались пропагандой: и добрососедские отношения, и коллективизм, и преемственность поколений, и справедливость как мера отношений между людьми, и превалирование нравственного над меркантильным, душевного над казенным. Пусть все знали, что это только декларации, а в жизни преобладают нравы менее возвышенные, – так ведь и библейские заповеди – не непреложный закон жизни, а всего лишь императив, который и преданный вере человек исполняет «по возможности». Считается, что за соблюдение библейских заповедей человек отвечает перед Богом, а это когда еще случится, да и случится ли. А коллектив – вот он, от него не укроешь ни неблаговидных поступков, ни даже помыслов, не отвечающих коллективным нормам, ибо жить в коллективе по-советски (то есть «на миру») – значит, жить открыто, как под рентгеном, не претендуя на так называемое «личное пространство». А по части соблюдения канонов коллектив бывает и непреклоннее Всевышнего, хоть может и проявить милосердие.
Нынче тем, кто помоложе, удивительно, что в советские времена жены, случалось, бегали в партком, чтоб пожаловаться на мужей, – но это же, как в семейной жизни к родителям мужа. И совсем уж нелепостью кажется, что на комсомольских собраниях могли обсуждать чью-то прическу или ширину брюк. А что тут удивительного? В советском коллективе жили «на миру», то есть как бы одной семьей, и никто не мог сказать: а вам, мол, какое дело? Всем до всех и всего было дело, тем более что и прическа, и одежда, и какие-то особенности поведения, демонстративно нарушающие «канон», принятый в этом коллективе, воспринимались как противопоставление себя коллективу, как вызов, – да ведь так оно и было!
Но эти мои примеры – уже послевоенные, в войну подобные вопросы, по-моему, просто не возникали, не до того было. Но «коллективная» мысль в военную пору поворачивалась порой даже более изощренным образом. Например, на июльском партсобрании на заводе ОЦМ один из самых уважаемых ветеранов, выдающийся мастер своего дела выступил так: «На меня очень плохое впечатление произвело сообщение докладчика, что в наших рядах оказались товарищи, которые отказались добровольно пойти в ряды РККА»[90]. «Отказались добровольно пойти» – такое нарочно не придумаешь. По простоте душевной оратор произнес вслух то, что все хорошо знали, но публично никогда не обсуждали: многое тогда основывалось на энтузиазме, который был «добровольно-принудительным». Пожалуй, еще более примечательна коллизия, нашедшая отражение в партдокументах того же предприятия более позднего времени. Партинформатор (да, таков был его статус!) сообщал в райком, как на заводе отреагировали на приказ Сталина о победе наших войск под Харьковом в августе 1944 года. Оказывается, в цехах № 2 и 9 митинги прошли как надо, а вот в цехе № 3 «ряд товарищей к вопросу отнеслись несерьезно: смеялись, разговаривали, ходили» – и называется несколько имен. Видимо, на этот «сигнал» сверху последовала негативная реакция, так что цеховым парторганизаторам пришлось писать объяснительную записку: «Митинг проходил делово и на должной политической высоте <…> Встречающиеся улыбки на лицах отражали радость за успехи Кр. Армии, ибо в этот день мы отмечали взятие города Харькова нашими войсками, а не гитлеровской Германией». А поведение одной нарушительницы чинного ритуала пояснили так: у нее, дескать, муж погиб на фронте, и она «сидела во время митинга со слезами на глазах, когда агитатор читал сталинские слова: “Слава павшим героям” <…> А если поздней она и улыбнулась и пошутила <…>, так ее веселости давно желает цех»[91].
При столь строгом контроле поведения «на миру», собрание коллектива (а тем более партсобрание) могло принимать только «правильные» решения. Такие решения могли противоречить личным интересам даже всех участников собрания, но если их мотивировка отвечала позиции, на которую был настроен «мир» (не сам собой, не спонтанно, а вследствие настойчивой и повседневной агитационно-пропагандистской работы), они принимались при общем одобрении.
Действие этого механизма можно проиллюстрировать забавной сценкой из некогда очень популярного, а ныне, увы, забытого романа В.Ф. Попова «Сталь и шлак». В мартеновском цехе собрание, посвященное подписке на государственный заем. Дело, как водится, «добровольное», и бывший начальник цеха, недавно перешедший в техотдел, решил подписаться на минимальную сумму – на двухнедельный оклад. Его стыдили, он будто бы соглашался, но настаивал на своем. И тогда не выдержала пенсионерка Дарья Васильевна, старая работница мартеновского цеха, подрабатывающая на пенсии уборщицей:
«Ну как тебе не стыдно, Ксенофонт Петрович? Я подписалась на весь оклад. А у тебя ведь домик свой, скотины в твоем хозяйстве сколько! Корова есть – это раз, телочка – это два, овечка – три, поросенок – четыре, и сам ты – скотина пятая!» «Скотина пятая» запомнилась не только свидетелям этой сцены, но и читателям.
Роман был очень «советский», но почти документальный: с довоенных пор инженер-металлург Владимир Федорович Попов, будущий писатель, работал на Енакиевском заводе; во время войны вместе с оборудованием цеха отправился в эвакуацию на Урал и свой первый роман «Сталь и шлак» писал, будучи еще начальником мартеновского цеха на Магнитке. Достоверностью изображения заводской жизни роман и покорил читателей.
Но есть у меня под рукой история с займом подлинная, художественно не обработанная и подтвержденная архивным документом. На заводе ОЦМ, который я упоминал выше, начальник строительного цеха Я.Н. Вологин, он же агитатор, назначенный парткомом, проводил политбеседу, и кто-то из слушателей, явно ерничая, изобразил радость по поводу нового государственного займа. Яков Никандрович, уловил иронический подтекст и ответил раздумчиво: я, мол, и сам не хотел бы, чтоб такие займы выпускались, да, видно, иначе пока не получается. Этот ответ получил огласку и стал поводом партийных разбирательств – сначала на партбюро, а потом на собрании. Вологин пытался оправдываться: «Я высказал это не серьезно, а в виде шутки». Оправдание не приняли: «Выступление тов. Вологина имело нежелательное направление в вопросе государственных займов среди коллектива»; «В таком вопросе шутки недопустимы». Вологин был коммунист со стажем, партийные порядки знал и решил на рожон не лезть: «Мое выступление было грубо ошибочно с политической точки зрения, но сделал это не умышленно». Покаяние не помогло: выговор с занесением в личное дело ему все-таки влепили[92]. Вскоре, однако, 38‑летний Яков Никандрович ушел на фронт – искупил вину. По возвращении работал начальников ремонтно-строительного цеха и оставил по себе добрую память на заводе.
Таким вот образом «коллективное» мнение становилось выразителем партийно-политических установок и активно работало на формирование чувства причастности каждого советского человека к общему делу накопления оборонной мощи, необходимой для разгрома врага. Кто-то из читателей вспомнит про «тоталитаризм», кто-то обвинит партийные органы в морально-психологическом давлении на личность… Такой подход, такие оценки некорректны, потому что они – из другого времени, отражают другой социальный опыт. А тогда жить «на миру» было, по крайней мере, понятно и даже привычно. Утрата «личного пространства» не всеми, пожалуй, и замечалась, а если для кого-то и составляла психологическое неудобство, так оно с лихвой компенсировалось щедрой психологической поддержкой, которая так необходима была каждому человеку в то время страданий и утрат. Тогда на слуху была мудрая сентенция, не знаю, кем впервые сформулированная, но многими прочувствованная: «Разделенное горе – половина горя, разделенная радость – двойная радость».
Партия в роли «урядчика», «старосты» проявляла жесткость, нередко граничащую с бесчеловечностью; оправдывать этого не буду. Однако враг был реален, силен и опасен; побороть его, чего бы это ни стоило, было целью труднодостижимой, но понятной и в той исторической ситуации безальтернативной. Пожертвовать одной из двенадцати месячных зарплат в пользу обороны, при тогдашней скудости средств выживания, было тяжелой нагрузкой на семейный бюджет, но «на миру» – малостью, цепляться за которую было неприлично, невозможно, недопустимо. Не из боязни санкций со стороны властей, а потому что тем самым ты противопоставишь себя «миру».
Нынешним борцам с «тоталитарным» наследием трудно понять психологическую атмосферу того времени, между тем человек, вырванный – да, организационными усилиями партии – из своего психологического заточения, где «гвоздь в сапоге кошмарней, чем фантазия у Гете», и помещенный в пространство общих забот, переживал даже морально-психологический подъем. Эта парадоксальная психологическая перемена начала ощущаться по мере того, как человек стал ощущать груз ответственности за тот «мiръ», частью которого он является волею судьбы. Вот заслуживающее безусловного доверия свидетельство М.М. Пришвина, писателя и мудреца, в особых симпатиях к советской власти не замеченного: «Приходил N и говорил мне, что люди у нас заметно изменились к лучшему: всех объединил страх за родину»[93], – записал он в своем знаменитом дневнике 4 июля, в 13‑й день войны. Возможно, и вам приходилось слышать от людей, переживших ту страшную войну: люди тогда были добрее и внимательнее друг к другу. Человечнее. Тем и победили.
По этой причине гитлеровское разбойное войско встретила не «ватага» (на что рассчитан был план «Барбаросса»), а энергично организуемая социальная субстанция, которая не рассыпалась от первого удара сильнейшей тогда армии на планете. И в дальнейшем, чем невыносимее становилось жить и бороться, тем больше крепла, превращалась в настоящий монолит (хоть и осыпались чешуйки «окалины»). Вот этой метаморфозы не могли предвидеть берлинские стратеги, жившие по иным социально-психологическим законам. Их менталитет, склад их ума не позволял им представить такое развитие событий. Оттого их «креативный» и хорошо просчитанный план и провалился.
А наша война против агрессора потому и завершилась Победой, что со дня нападения была объявлена Отечественной и под это понятие подстраивалась всей мощью партийной пропаганды и организационной работы. А в ходе накопления сил для ответного удара, по мере созревания монолита «морально-политического единства», набирала масштаб и в конце концов была не аттестована декретом сверху, а осознана народом как Великая. С полным на то основанием!


