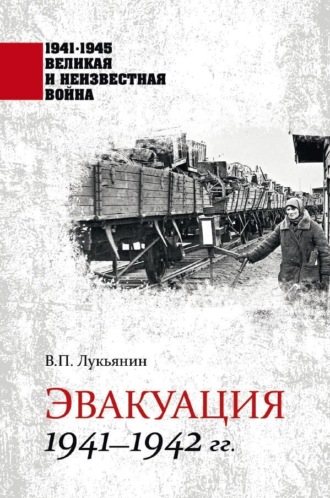
В. П. Лукьянин
Эвакуация. 1941—1942 гг.
Опорное понятие
Заключительную часть своего радиообращения 3 июля 1941 года Сталин начал с формулировки, которой была заложена идеологическая основа стратегии отражения вражеского нашествия: «Войну с фашистской Германией нельзя считать войной обычной. Она является не только войной между двумя армиями. Она является вместе с тем войной всего советского народа против немецко-фашистских войск… Вместе с Красной армией поднимаются многие тысячи рабочих, колхозников, интеллигенции…» Далее он говорит о «всенародной Отечественной войне», о «нашей Отечественной войне». И завершает: «Все силы народа – на разгром врага!»[65]
Это было не первое появление в публичном пространстве понятия «Отечественная» применительно к войне советского народа против гитлеровской Германии. Впервые такое определение прозвучало в полдень 22 июня 1941 года – в радиообращении В.М. Молотова по случаю начала войны. Однако, по свидетельству самого Молотова, текст его выступления составлялся не им одним, над ним поработало все Политбюро и Сталин в том числе. Неважно, кто произнес слово «Отечественная» первым; важно, что с первого же дня войны оно стало ключевым в организации сопротивления врагу.
Думаю, потому это определение сегодня особенно настойчиво атакуется публицистами антисоветского толка, которые пытаются – чем: сыростью, плесенью, ржавчиной? – разрушить фундамент нашей памяти о войне.
Кажется, от Суворова-Резуна пошло: не была, мол, она ни отечественной, ни великой. Некоторые публицисты (не стоит популяризировать их имена) его «наживку» с готовностью заглотили. Доводы у них были разные: народ, дескать, воевал под нажимом НКВД и под контролем заградотрядов; война будто бы могла называться отечественной, пока врагов изгоняли со своей территории, но когда вступили в Европу – быть таковой перестала; войну вела сталинская клика за то, чтоб удержаться у власти, а народу она была не нужна – ну, и иные фантазии в том же духе на эту тему.
Естественно, многие такую перелицовку здравого смысла категорически не приняли, и среди тех, кто достойно ответил Резуну, был Л.А. Аннинский. Писатель, правда, отдал дань «демократическим» веяниям: допустил, что «у Сталина был злой умысел. Как и у Гитлера <…> Но когда зарубежное воинство вторгается в твой дом, – продолжил он уже свою тему, – тут начинается совсем другая драма. И ”ярость масс” переходит в другой регистр. Это уже народная война. Отечественная. С чего она начинается, кто там кого подловил, упредил, объегорил – все это уже неважно. Отечественная война становится фактом, и от нее отсчитывается все <…> Никуда не уйдут из нашей истории ни московская осень сорок первого, ни ленинградские блокадные зимы, ни весна сорок пятого. Ни отчаянность Сталинграда, ни партизанская эпопея Беларуси, ни миллионы калек, умерших в госпиталях Урала и Сибири, ни миллионы бойцов, чьи кости безымянно разбросаны по брянским лесам и украинским степям»[66].
На месте Аннинского я не стал бы играть с Резуном «в поддавки» – насчет «злого умысла» у Сталина. Я понимаю ход мысли писателя: «Даже если – и то…» Надеюсь, для читателя, который согласился с моей трактовкой обстоятельств нападения Германии на СССР в предыдущих главах, никаких «если» быть не может. Но я согласен со Львом Александровичем в том плане, что для советского народа, помнящего и московскую осень 1941 года, и Сталинград, и все остальное, о чем он пишет, война 1941–1945 годов не может помниться иной, кроме как Отечественной.
И все же, я думаю, руководители Советского Союза, в первый же день объявившие начинающуюся войну отечественной (определение «великая» появится позже, когда станут подводить ее итоги[67]), имели в виду не совсем то, о чем говорит Аннинский. Он ведь говорит об опыте, вынесенном из войны, а руководители страны – о том, чем война, только начинающаяся, должна стать – вопреки всем противоречиям, накопившимся в советском обществе, несмотря на все травмы и обиды, нанесенные властями народу; несмотря на все вполне реальные причины, дающие повод нацистским вожакам предполагать, что у советского колосса «глиняные ноги», то есть советская государственность очень хрупкая и не выдержит мощного удара. Вопрос стоял буквально так: либо война станет Отечественной, то есть войной всего народа, либо она обернется страшной катастрофой.
Хочу обратить внимание читателя на два важных момента. Объявляя войну «Отечественной», советские руководители сразу же соотнесли острейшую «злобу дня» с народным опытом и народным самосознанием: дескать, такое уже было в нашей истории, и тогда мы, русский, российский народ, выдержали испытание с честью, так не уроните же эту честь сегодня. И еще: призывая к всенародной борьбе против гитлеровского нашествия, Сталин и его сподвижники были озабочены все же не сохранением «режима» (и собственных персон во власти), как домысливают нынешние антисталинисты; зависимость мыслилась прямо противоположной: только этот «режим» (употребите это слово, если оно вам так нравится) был способен мобилизовать все силы общества на отпор врагу; сама же по себе эта «ярость масс» (воспользуюсь этим выражением вслед за Аннинским), которая накалялась постепенно, трансформироваться в организованное сопротивление не могла.
Вот эти два положения: быть достойными потомками славных предков и в то же время быть «настоящими советскими людьми» (коллективистами, готовыми, по слову поэта, «каплей слиться с массою»), – они в совокупности и составляют суть явления, которое в официальных советских документах называлось «морально-политическим единством советского народа».
Положение о «морально-политическом единстве» как отличительной черте советского народа было выдвинуто Сталиным на XVIII съезде ВКП(б) и отражало дух незадолго перед тем принятой новой советской Конституции. В той Конституции говорились правильные вещи, вот только была она в действительности не «основным законом», а декоративной ширмой, за которой скрывались вопиющие беззакония. По этой причине многие нынешние историки не без оснований полагают, что на самом деле никакого морально-политического единства, как, впрочем, и «советского народа», как социально-политической реальности не существовало: это, дескать, не более как симулякры советской пропаганды.
Однако подобным образом можно поставить под сомнение существование любой социальной общности! Между тем даже какое-нибудь общество филателистов реально не потому, что некоторое множество людей в собирании коллекции марок видит смысл своей жизни, а потому что существует коллекционирование марок как род занятий, привлекающий многих – очень разных по всем социальным параметрам! – людей.
Так что не вижу оснований сомневаться, что «морально-политическое единство советского народа» существовало, но не как осуществленный идеал, а как нравственно-политический императив, как система норм поведения человека этого общества в это время. Если этим нормам не следовать – общество своих сегодняшних проблем не решит.
«Императивные нормативы» привычны в человеческой жизни, их всегда было и есть сейчас великое множество – от христианских десяти заповедей до нынешней корпоративной этики. В этом бесконечном ряду стоят и совет «в чужой монастырь со своим уставом не ходить», и «клятва Гиппократа», и «торжественное обещание юного пионера», и утесовская песня «Ты одессит, Мишка, а это значит…», и неотразимый аргумент комиссара Воробьева, заставивший встать на протезы вместо утраченных ног героического летчика Мересьева (в повести Бориса Полевого и фильме Александра Столпера «Повесть о настоящем человеке»): «Но ты же советский человек!»
Увы, нравственный императив – это не Уголовный кодекс, за несоблюдение которого могут и наказать «по всей строгости закона»; поэтому ни десять заповедей, ни монастырский устав, ни пресловутый «моральный кодекс» образца 1961 года сами по себе, лишь фактом своего существования, не могут заставить человека жить ни «по-божески», ни «по-советски». Но практически любой устав или кодекс соблюдается более или менее прилежно, если он подкрепляется системой мер, склоняющих человека, которому он предписан, следовать ему по каким-то личным причинам. Кто-то боится не попасть в рай, кто-то другой – изгнания из монастыря или исключения из партии; даже перспектива стать «нерукопожатным» может удержать кого-то третьего от поступков, противоречащих неписанному уставу некоего сообщества, принадлежность к которому для него значима. Тут есть о чем поразмышлять, но читатель это сделает сам, без моего наставления.
Я же клоню к тому, что нравственно-политический императив, заложенный в понятии «морально-политическое единство советского народа», на самом деле остался бы чисто пропагандистским симулякром, если б не был подкреплен очень эффективной системой мер «добровольно-принудительного» подчинения его требованиям. Благодаря этому каждый гражданин страны – получивший преференции от советской власти или, напротив, незаслуженно обиженный ею, «идейный» пролетарий, политически инертный крестьянин, осторожный обыватель «из бывших», специалист с высшим образованием или грамотей, прошедший ликбез, верующий или атеист – каждый, повторяю, не изменяя своей памяти и не поступаясь своим «я», вольно или невольно становился советским человеком, готовым пойти на любые лишения, сделать все, что в его силах, и даже более того, – лишь бы защитить отечество от вражеского нашествия, переломить ход войны, добиться общей победы. Вот это и есть подлинный смысл определения войны Советского Союза против гитлеровской Германии как Отечественной!
Важно, что она стала таковой не по факту (как трактует Л.А. Аннинский), а такое направление ей было задано военно-политическим руководством страны с самого начала, с первого дня. Причем это было не указание (лозунг, призыв), а организационный принцип, сразу же развернувшийся в программу действий. Эффективность этой программы проявилась с первых шагов, когда страна начала приходить в себя после ошеломляющего (а немцы думали, смертельного) удара в момент нападения. Первый итог усилий в этом направлении подвел И.В. Сталин в упомянутом выше докладе по поводу 24‑й годовщины Октября: «Вполне вероятно, что любое другое государство, имея такие потери территории, какие мы имеем теперь, не выдержало бы испытания и пришло бы в упадок. Если советский строй так легко выдержал испытание и еще больше укрепил свой тыл, то это значит, что советский строй является теперь наиболее прочным строем»[68].
Глаз нынешнего читателя непременно споткнется об это «легко выдержал»: мы-то нынче знаем, какие тяжелые потери понесла страна как раз в те первые месяцы войны. Да и участники торжественного заседания, собравшиеся не в празднично украшенном зале Большого театра (как бывало в прежние годовщины), а в подземном вестибюле станции метро «Маяковская», не заблуждались на этот счет. Но, как и 3 июля по радио (и по тем же причинам), вождь избегал чрезмерного сгущения красок, однако не обманывал слушателей в главном: советский строй выдержал удар, а потому выдержала и страна.
Но Сталин в знаменитом докладе ничего не сказал о природе этой стойкости, о «технологии» превращения дискретного (если не сказать дисперсного) человеческого материала в прочный монолит. А это, пожалуй, и есть главный секрет Победы. Не иносказательно, а на самом деле – секрет, ибо партия (естественно, ВКП(б): никакой другой партии тогда в стране не было), эту трансформацию осуществлявшая, свою «кухню», не всегда «стерильную», предпочитала не выставлять на всеобщее обозрение, и документы, касающиеся этой темы, до конца советской власти хранились под грифом «секретно». Ну, а когда полвека спустя одряхлевшую и действительно уже немощную партию отстранили от руководства страной и упразднили, о роли партии в Великой Отечественной войне стали говорить – в полном противоречии со старой латинской пословицей – либо плохо, либо ничего. Однако в этой зоне умолчания, по-моему, и таится та правда о войне, которую сегодня безуспешно ищут, сшибаясь умными лбами, «сталинисты» и «антисталинисты».
Начинали с партсобраний
Со времени хрущевского доклада на ХХ съезде КПСС о культе личности Сталина и по сей день не утихают споры о том, какую роль играл вождь в развитии военных событий. Почему-то чуть ли не ключевое значение придается вопросу, почему не он, а Молотов выступил по радио с обращением к народу о начале Отечественной войны. И вообще – достойно ли он себя повел в первый день войны?
Да так ли это важно? Допустим, он на самом дела растерялся, запаниковал (как «свидетельствовал» Хрущев – хотя сам этого видеть не мог, поскольку 22 июня находился в Киеве): живой ведь человек, а удар был сокрушительный.
Но партийно-государственная система, им созданная и возглавляемая, четко заработала в тот самый момент, когда страна узнала о начале войны. Никаких заметных поворотов в работе этой системы не произошло после того, как Сталин – то ли из прострации, то ли из процесса медитации по поводу сложившейся обстановки – возвратился на привычное ему и стране место и уже не выпускал штурвал из твердых рук до победного завершения маршрута. Известно, что хорошо «натренированный» оркестр, случись такая необходимость, способен сыграть и без дирижера; вот так и советская партийно-государственная система, отлаженная Сталиным (конечно, на свой, сталинский лад) в предвоенные годы, издала первый аккорд «военной симфонии», не дожидаясь взмаха дирижерской палочки.
Как прозвучал тот аккорд, лучше обсуждать, не сопоставляя доводы озабоченных сегодняшними идеологическими заморочками «сталинистов» и «антисталинистов», а обратившись к партийным документам первых дней войны. Я думаю, документы из бывшего партархива Свердловской области в этом плане представляют особый интерес по той причине, что все запечатленные ими действия предпринимались не под влиянием прямой угрозы вражеского нападения (слишком далеко находился Урал от театра военных действий) и не под прямым руководством Москвы (средства связи были слабоваты, да и не до провинциальных частностей было в тот момент руководству страны). Местные партийные органы действовали по своему разумению – и в то же время в силу инерции, заложенной в системе партийно-государственной власти. Действовали так, как если бы, говоря по-сегодняшнему, в режиме онлайн получали инструкции из Кремля.
По этой партийно-советской привычке вступление в «новую реальность» следовало начинать с партийных собраний – с них и начали.
Чтобы наглядней представить, как это происходило, приведу факты из докладной записки секретаря Арамильского райкома партии Ф. Глазырина, представленной в орготдел обкома ВКП(б) на третий день войны: к 24 часам 22/VI все уполномоченные, назначенные райкомом, были на местах (в сельских, поселковых советах); к 8 часам утра 23/VI во всех первичных парторганизациях проведены собрания, партийные силы расставлены «по участкам населения, для проведения разъяснительной работы»[69].
Оцените мгновенность реакции системы на событие. Но, как вы понимаете, война только-только разгоралась на расстоянии двух тысяч километров от Урала, и в тот момент на собраниях, на митингах, в разъяснительных беседах с населением говорить можно было, в основном, на уровне общих мест. Так и говорили.
К примеру, городское закрытое партийное собрание[70] в городе Тавде, состоявшееся 23 июня 1941 года, приняло постановление о том, что «целиком и полностью одобряет Указ Президиума Верховного Совета СССР о проведении воинской мобилизации для изгнания зарвавшихся германских фашистов с нашей священной земли и окончательного их разгрома», а также к «сплочению масс трудящихся вокруг большевистской партии, советского правительства и вождя народов товарища СТАЛИНА»[71]. И в других аналогичных документах преобладают императивы типа «одобрить», «обеспечить», «мобилизовать», «организовать».
Казалось бы, бессмысленные, чисто протокольные мероприятия. Зачем, к примеру, нужно было подкреплять постановлением городского партсобрания указ о воинской мобилизации, принятый в Москве накануне? Рай- и горвоенкоматы выполнили бы его и без партийных одобрений на местах.
Однако даже с мобилизацией оказалось не все просто.
С одной стороны, появились энтузиасты из числа членов ВКП(б), не получившие повестки, но желающие вступить в Красную армию добровольно, и райкомам приходилось решать, насколько целесообразно поддерживать их заявления. Так, на заседании бюро Красноуфимского горкома в один из первых дней войны рассматривалось десятка полтора подобных заявлений. В основном их поддержали, но в некоторых случаях и отказали. Например, Александру Кузьмичу Голышеву, 1904 года рождения (а по указу призыву подлежали граждане, начиная с 1905 года рождения), отказали «в виду состояния здоровья»[72], но, может, больше потому (хоть в протоколе об этом не сказано), что он работал приемщиком в промартели «Красный партизан», выпускавшей какую-то продукцию оборонного назначения: найди-ка ему замену в центре сельскохозяйственного района. С другой стороны, случалось и такое: в Нижне-Сергинском районе ветеринар (фамилию называть не стану, дело давнее, его давно уже нет в живых), услышав о мобилизации, отрубил себе палец, но уголовное деяние дополнилось конфузом, ибо выяснилось, что «самострел», хоть и был призывного возраста (1912 года рождения), по какой-то причине призыву не подлежал[73].
Однако эти примеры – простые и понятные, а настоящую головную боль (думаю, не только райкомам, но и властям более высокого уровня) доставляла информация другого рода. В частности, из Исовского райкома сообщали в обком: «С первых же дней мобилизации начали проявляться антисоветские настроения со стороны спец и трудпереселенцев и высланных кулаков, которых в районе имеется 8000 человек»[74]; бывший председатель сельсовета (фамилию опускаю) самовольно ушел из артели: «Лучше сесть в тюрьму, я этого добиваюсь, чем пойти в Красную армию»[75].
И еще из донесения секретаря Исовского райкома: члену партии <такому-то> «поручили проводить беседы о военных действиях и геройстве бойцов Красной армии. <Этот товарищ> заявил, что, мол, “я не болтун говорить об успехах Красной армии, когда ее бьют на всех концах и она отступает. Не хочу обманывать людей”». А вот еще «голоса из народа», зафиксированные в том же документе: «…кулаков выселяли, а сейчас берут в Армию и заставляют защищать что-то»; «…работница <…> говорит среди рабочих о том, что у нас сейчас голод, нечего купить, скоро сдохнем, даже картошки и той нет». «Со всеми этими лицами, – завершает сюжет партработник, – принимаются меры по линии НКВД»[76].
Исовской район[77] был территорией особенной: север, тайга, платиновые прииски с их специфическим производством, спецпереселенцы. Но вот справка из Дзержинского райкома (город Нижний Тагил): «…в цехе мелких узлов сварщица с 1920 года <…> будучи в раздевалке с 3‑мя работницами 27 июня заявила: “Скорей бы пришел Гитлер, открыл бы все церкви, было бы чего поесть и одеться”»[78]. (Хороши же были и ее наперсницы: ведь наверняка поддакивали, а потом кто-то из них побежал доносить!)
Подобные случаи отмечались и в других местах.
И ладно бы все эти суждения шли из каких-то враждебных, подрывных источников, а люди стояли за ними чужие, пришлые, может быть даже засланные, – но нет, все свои, здешние, и подобные «крамольные» мысли были у них не «подметные», а очень даже свои. Они рождались наверняка у них у всех от неустроенной, скудной, беспросветной жизни. Разница была лишь в том, что кто-то такие мысли осмотрительно таил в себе, а кто-то оказался на язык послабее… «По линии НКВД» языки, конечно, можно было «прищемить», да так постоянно и делали (как вы поняли даже из приведенных цитат), но недовольство, загнанное вглубь, своей разрушительной силы не теряет…
Думаю, на ту силу и рассчитывал Гитлер. Но, конечно, знал о ее опасности и Сталин, а потому с первого дня объявил войну Отечественной, и работа всей партийной системы сразу же была направлена на то, чтоб каждый гражданин Советской страны не обдумывал свои горести и болячки в одиночку, а жил «на миру» и стал действительно советским человеком, творящим общую судьбу вместе со всеми соотечественниками. Чтобы этот человек не по принуждению делал, что прикажут, для обороны, а считал усиление обороны Советской страны от захватчиков глубоко личным делом.
Началась эта – главная на тот момент – партийная работа, как видно из документов, с разъяснительных бесед. Вот почему Арамильский райком разослал уполномоченных по всем «участкам населения» уже на второй день войны; Нижнетагильской горком доложил в обком, что «по Тагилстрою проведено 699 бесед, читок и докладов с охватом 23 822 чел.»[79]. Информация из Верхне-Тавдинского района: «С 22 июня по 27 июня проведено более 80 митингов с охватом около 12 000 человек»[80]. А докладная записка из «проблемного» Исовского района напоминает донесение с поля боя: «В районе проводится глубокая агитационно-массовая работа. Агитаторы работают непосредственно в цехах, на драгах, на полевых станах и других производственных участках. Агитатор Вудилов (он же начальник драги) сумел поставить агитационную работу так, что драга выполнила полугодовую программу к 27 июня. Ни один рабочий драги не остается вне агитации»[81].
В документе не сказано, какие такие проникновенные слова удалось найти агитатору Вудилову, что они сразу конвертировались в проценты плана. Думаю, однако, что начальнику небольшого режимного (ибо имели дело с платиной) предприятия, работающего несколько обособленно от «большого мира», найти такие слова было проще, нежели какому-нибудь председателю колхоза или начальнику цеха, работавшим «на семи ветрах». Поэтому на агитацию не особо полагались. Она задает ориентиры, общий тон, но непременно должна сопровождаться какими-то практическими действиями, чтобы советский императив поведения прочно закрепился на уровне рефлекса. Не знаю, разрабатывал ли кто-то в идеологическом аппарате партии такую методику целенаправленно или она рождалась спонтанно; никогда не слышал и нигде не читал, чтобы этим занимались специальные организации или подразделения. Неужто поиски этих средств были поручены простым «инструкторам»? Так или иначе, средства находились, и они оказывались просто невероятными по своей простоте и действенности – хотя, надо признать, сильно отдавали цинизмом и жестокостью. Но, может, и это входило в расчет? Если по-живому, то острее чувствуется и лучше усваивается.
Вот наглядный пример. С первого же дня войны в райкомах и первичных партячейках много организационной энергии и нервных клеток было затрачено на выполнение планов мобилизации. Это слово очень часто употребляется в партийных документах первых дней войны, и поначалу я даже подумал: неужто райкомы были так озабочены призывом запасников на военную службу? Оказалось – нет, с призывом успешно справлялись военкоматы, а местные отделения НКВД в случае надобности всегда готовы были им помочь. А партийные комитеты занимались другой мобилизацией: лошадей, тракторов, автомашин и прочего «тягла» для армейских нужд.
Знатоки исторических реалий возразят мне, что «мобпланы», касающиеся техники, лошадей, инвентаря, составлялись еще до войны – «на случай чего». Это, кстати, вполне разумная, очень старая и даже народная, по-моему, традиция. В каждой деревне знали, кто несет в случае пожара ведро, а кто топор или багор. Не очень, однако, понятно, почему на этот раз «инвентарь» понадобился вдруг сразу и весь в первый же день, хотя пожар разгорался далеко и про него пока что мало было известно. Ведь в тот момент, как прозвучал набат, в разгаре был сенокос, за ним – уборочная страда; на производственных предприятиях все транспортные средства тоже были при деле (причем их обычно даже не хватало). И вдруг бóльшая и лучшая, самая пригодная для работы их часть изымается: какой непоправимый урон народному хозяйству! Причем на уровне района приемные пункты были определены четко, а вот куда и кем заполошно собранный «инвентарь» переместится потом? Как он будет доставляться и как распределяться; какая, в конце концов, будет польза фронту от этих изношенных полуторок и колхозных кляч?
Читая архивные документы, я не находил ответов на эти простые вопросы. Находил другое: рачительным хозяевам так же нелегко было сдавать вовсе не лишнее в хозяйстве имущество с не очень понятной целью, как Кондрату Майданникову уводить своего любовно выпестованного бычка на колхозный двор. Но шолоховский герой был простодушный трудяга, а уральские, скажем так, завхозы пытались в меру своего разумения и хозяйственного опыта схитрить: сдавали то, что поплоше, а то и снимали с передаваемой в фонд обороны техники дефицитные детали и узлы: со сданного имущества непонятно кому и какая будет польза, а в своем хозяйстве какой-нибудь аккумулятор точно пригодится. Скандалов по таким поводам возникало много, и партийное руководство тут же принялось наводить порядок.
Вот как развивались в этом плане события, например, в Туринском районе Свердловской области. Бюро райкома констатировало: «Из 22‑х машин [доставленных на приемный пункт] признаны годными к отправке всего лишь 7, остальные 15 автомашин к поставке не готовы»[82]. С другим мобилизуемым имуществом дело обстояло никак не лучшим образом, и бюро приняло постановление, в котором, в частности, говорилось:
«1. Обязать хозяйственные организации, у которых признаны автомашины негодными, в суточный срок закончить ремонт автомашин и тракторов и сдать их приемосдаточной комиссии в полной боевой готовности.
2. Обязать председателей колхозов к 18 часам 25‑го июня 1941 года привести в полную готовность обозные повозки и упряжь (хомуты, седелки, уздечки и др.), предупредить председателей колхозов и советов, что за малейшую задержку выполнений наряда они будут привлечены к уголовной ответственности».
Не знаю, насколько физически были выполнимы эти распоряжения (если б все было так просто, вероятно, и у хозяев-сдатчиков эти стратегические ресурсы содержались бы в более пристойном виде), но, предполагаю, главное было – поднять планку требований, и не способный до нее подняться человек станет покладистей.
И тут же было запротоколировано поручение районному прокурору: привлечь двух хозяйственных руководителей (они называются, но нам здесь их имена ни к чему) за то, что их хозяйства поставили некондиционных лошадей и неисправные повозки, к уголовной ответственности «как за уклонение от выполнения наряда военкомата и за подрыв оборонной мощи Советского Союза». Ни много ни мало!
Честно говоря, я не думаю, что эти исправные или неисправные автомашины, трактора, колхозные сивки-бурки, уздечки, седелки и повозки сколько-нибудь заметно влияли на соотношение сил воюющих гигантов в самом начале войны; не думаю также, что нехитрые уловки председателя колхоза или промышленной артели, пытающихся смягчить последствия весьма чувствительных для их хозяйств реквизиций, действительно тянули на уголовные преступления. Да, похоже, в большинстве случаев подобные разносы на бюро райкомов и не оборачивались очень уж суровыми оргвыводами – иначе скоро и руководить этими колхозами и артелями было бы некому. (Заметьте последнюю оговорку: во время войны такое соображение играло заметную роль.)
Тогда в чем был смысл столь шумных мероприятий, едва ли приносивших реальную пользу для фронта, но очень болезненных для экономики и весьма затратных в морально-психологическом плане? Ответа на этот вопрос (если не считать универсальное «все для фронта, все для победы») ни в советских, ни в постсоветских источниках я не нашел. Моя же версия заключается в том, что это была одна из ранних социально-технологических операций по «перековке» разнородной человеческой «массы» в советский народ – безмерно терпеливый, послушный и стойкий, ставящий интересы отечества выше личных интересов, готовый пожертвовать всем, что имеет, ради «одной на всех» победы. Делали эту операцию, как могли: арсенал партийных средств был довольно скуден, исполнители ни образованностью, ни душевной тонкостью, как правило, не отличались, да и время было суровое – «не до церемоний».


