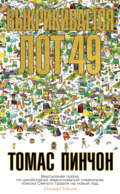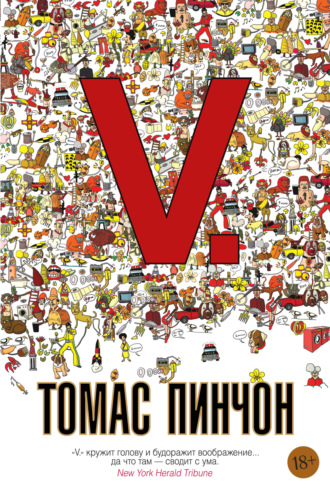
Томас Пинчон
V.
III
Той ночью Профан спал у Свина, рядом со старыми паромными причалами, и спал он один. Паола столкнулась с одной Беатрис и отправилась ночевать к ней, кротко пообещав Профану, что составит ему пару на встречу Нового года.
Около трех Профан проснулся на кухонном полу с головной болью. Ночной воздух, люто холодный, сочился под дверь, и откуда-то снаружи до Профана доносился низкий настойчивый рык.
– Свин, – хрипло выдавил Профан. – Аспирин у тебя где. – Нет ответа. Профан ввалился в другую комнату. Свина в ней не было. Рык снаружи набрал угрозы. Профан подошел к окну и увидел Свина в переулке: он сидел на мотоцикле и газовал. Крохотными мерцающими остриями падал снег, переулок держал причудливый снежный свет сам по себе: сведя Свина к черно-белому шутовскому костюму, а древние кирпичные стены, присыпанные порошей, к безучастной серости. На Свине была вязаная шапочка вахтенного, натянутая на лицо до шеи, отчего голова его представляла собой сферу мертвой черноты. Вокруг него тучами вздымались клубы выхлопа. Профана передернуло. – Ты чего делаешь, Свин, – позвал он. Тот не ответил. Загадка или зловещее виденье Свина и его «харли-дейвидсона» одних в переулке в три часа ночи ни с того ни с сего напомнили Профану о Рахили, а думать о ней ему совсем не хотелось, сегодня ночью в пронизывающей холодрыге уж точно, с головной болью, когда в комнату крадется снег.
Рахиль Филинзер владела, еще в 54-м, этим своим «МГ». Папашин подарок. Обкатав его в гарантийном плавании по местности вокруг Главного центрального (где располагалась Папашина контора), познакомив с телефонными столбами, пожарными гидрантами и случайными пешеходами, она отогнала машину на лето в Кэтскиллз. Тут мелкая, насупленная и роскошная фигурой Рахиль устраивала на этом своем «МГ» тпру и ну всем кровожадным поворотам и вывертам Трассы 17, виляя его наглым задом мимо возов сена, ворчливых полуприцепов, старых открытых «фордов», набитых под завязку стриженными ежиком гномами-студиозусами.
Профан только списался с Флота и тем летом работал салатным поваренком в «Трокадеро Шлоцхауэра», в девяти милях от Либерти, Нью-Йорк. Начальником у него был некто Да Конью, безумный бразилец, который желал сражаться с арабами в Израиле. Однажды вечером перед открытием сезона в салоне «Фиеста», сиречь баре «Трокадеро», появился пьяный морпех с автоматом.30-го калибра в самоволочном своем вещмешке. Он не очень соображал, как к нему попало оружие: Да Конью предпочитал считать, что его деталь за деталью контрабандой вынесли с острова Пэррис – так бы поступила «Хагана». После значительного торга с барменом, которому тоже хотелось автомат, Да Конью в итоге восторжествовал, обменяв на него три артишока и баклажан. Свой приз Да Конью присовокупил к мезузе, прибитой над овощным холодильником, и сионистскому флагу, висящему за салатной стойкой. В следующие недели, пока старший повар смотрел в другую сторону, Да Конью собирал свой автомат, маскировал его салатом «айсберг», жерухой и бельгийским эндивием и понарошку расстреливал собравшихся в зале едоков.
– Тары-бары, тары-бары, – озвучивал он, недобро щурясь в прицел, – в самую мертвую точку тебе, Абдул Саид. Тары-бары, мусульманская свинья. – Автомат Да Конью был единственным на свете, который стрелял «тары-бары». Да Конью засиживался до начала пятого утра, чистя его, грезя о пустынях, похожих на лунные, о жарком шепоте ченгов, о йеменских девушках, чьи изысканные головы покрыты белыми платками, а чресла ноют от любви. Он не понимал, как американские евреи могут самовлюбленно отсиживать в этой зале одну трапезу за другой, когда всего лишь за полмира от них трупы их сородичей неумолимо заносит песками пустыни. Как ему сказать об этом бездушным желудкам? Воспалить их речами масла и уксуса, умолить пальмовой сердцевиной. У него один голос – голос автомата. Услышат ли они его, умеют ли вообще желудки слушать: нет. Ведь никогда не слышишь того, что тебя пробирает. Нацеленный, быть может, на любой пищеварительный тракт в костюме от «Харта, Шаффнера и Маркса», что похотливо урчит, не скрываясь, любой проходящей официантке, автомат этот – лишь предмет, направленный туда, куда может его навести любая неуравновешенная сила: но к какой ременной пряжке Да Конью стремился прежде всего: к Абдулу Саиду, пищеварительному тракту, себе самому? Чего спрашивать. Знал он лишь одно – что он сионист, страдает, смятен, безрассуден до того, что готов стоять по самый верх носков в крупном песке любого кибуца совсем другого полушария.
Профан задавался тогда вопросом, что это у Да Конью с этим его автоматом. Любовь к предмету, это для него новость. Когда он вскоре после обнаружил, что у Рахиль с ее «МГ» то же самое, ему поступили первые разведданные, что под розой что-то происходит, возможно – дольше и у большего числа людей, нежели ему хотелось бы думать.
Познакомился он с нею через «МГ», как и все с ней знакомились. Она его чуть не сбила. Однажды полуднем он выбрел из черного хода кухни с мусорным баком, переполненным листьями латука, который Да Конью счел некондиционным, и тут откуда-то справа до него долетел зловещий рык «МГ». Профан шел себе дальше, исполненный крепкой веры в то, что отягощенные ношей пешеходы обладают преимущественным правом перед автомобилями. И тут же его задний конец подрезало правое крыло машины. Та, к счастью, двигалась со скоростью всего 5 миль/час – не так быстро, чтобы сломать ему что-нибудь, но Профан вместе с мусорным баком и листиками латука полетел вверх кармашками, как огромный зеленый фонтан.
Они с Рахилью, оба в латучной листве, посмотрели друг на друга, сторожко.
– Как романтично, – сказала она. – Чего доброго, вы еще и мужчина моей мечты будете. Снимите этот листик с лица, чтоб я разглядела хорошенько. – (Как бы стаскивая шляпу – вспомнив свое место, – он снял лист.) – Нет, – сказала она, – вы не он.
– А может, – сказал Профан, – в следующий раз попробуем с фиговым.
– Ха, ха, – ответила она и с ревом укатила. Профан нашел грабли и принялся собирать мусор в кучу. Он размышлял: вот еще один неодушевленный предмет, который его чуть не убил. Он не был уверен, о Рахили это или о ее машине. Груду латука собрал обратно в мусорный бак и вывалил его за автостоянкой в овражек, служивший «Трокадеро» выгребной ямой. А когда возвращался на кухню, Рахиль подъехала снова. Аденоидный выхлоп «МГ» звучал так, что слышали, должно быть, аж в Либерти. – Поехали катнемся, але-Жоп, – позвала она. Профан прикинул, что запросто. Накрывать на ужин еще через два часа.
Через пять минут по Трассе 17 он решил: если вернется вообще в «Трокадеро» живым и неискалеченным, забудет о Рахили и далее станет интересоваться только девушками из тихой пехтуры. Машину она вела, как про́клятая на каникулах. У него не было сомнений: способности и свои, и машины она знает, но откуда ей, к примеру, известно перед поворотом с плохой обзорностью на двухрядке, что до встречного молоковоза окажется ровно столько, чтобы успеть юркнуть обратно на свою полосу с зазором в целую шестнадцатую дюйма?
Профан слишком боялся за свою жизнь, чтобы, как это с ним бывало обычно, робеть с девушкой. Он протянул руку, открыл ее сумочку, нашел сигарету, закурил. Рахиль не заметила. Ехала она целеустремленно и не сознавая, что рядом кто-то сидит. Заговорила лишь раз – сообщила ему, что сзади стоит коробка холодного пива. Он дымил ее сигаретой и не понимал, тянет ли его к самоубийству. Казалось, иногда он нарочно подставляется злонамеренным предметам, шлимазнуться до полного несуществования. Зачем он тут вообще? Потому что у Рахили славная жопка? Он глянул вбок на нее – подскакивает на кожаной обивке, синхронно с машиной; понаблюдал за не-слишком-уж-простым и не вполне гармоничным колебаньем ее левой груди, не затухавшим под черным свитером. Наконец заехали в заброшенную каменоломню. Вокруг валялись корявые куски камня. Он не знал, какой породы, но все – неодушевленные. По грунтовке они поднялись к плоскому участку в сорока футах над дном карьера.
День выдался неуютный. С безоблачных, небережных небес лупило солнце. Профан, толстый, потел. Рахиль сыграла в «А Ты Знаешь» нескольких ее знакомых пацанов, что ходили с ним в одну среднюю школу, и Профан проиграл. Она болтала обо всех свиданках, какие обломились ей этим летом, и все, похоже, – со старшекурсниками из колледжей «Плющевой Лиги». Профан время от времени поддакивал, до чего это прекрасно.
Говорила она и о Беннингтоне, ее альма-матери. Говорила о себе.
Рахиль происходила из Пятиградья на южном берегу Лонг-Айленда – района, состоящего из Мэлверна, Лоренса, Сидархёрста, Хьюлетта и Вудмиэра, а иногда Лонг-Бича и Атлантик-Бича, хотя никому ни разу не приходило в голову называть его Семиградьем. Хотя живут там отнюдь не сефарды, район, видать, подвержен некоему географическому инцесту. Дщерей удерживают в волшебных границах страны, где эльфийская архитектура китайских ресторанов, дворцов морепродуктов и синагог с полуэтажами частенько завораживает, как море, и они там бродят туда-сюда, как толпа Рапунцелей, застенчивых и темноглазых; а когда созреют, их усылают в горы и колледжи Северо-востока. Не на мужей охотиться (ибо в Пятиградье достичь определенного паритета возможно всегда – согласно ему славный мальчик может предназначаться кому-то в супруги уже в шестнадцать или семнадцать лет); но дабы им дарована была иллюзия как минимум «нагуляться» – столь необходимая для эмоционального развития девушки.
Сбегают лишь самые смелые. Чуть воскресный вечер, гольф окончен, негритянки-горничные, устранив беспорядок после вчерашней вечеринки, отправляются в Лоренс навестить родню, а до Эда Салливана еще не один час, кровь королевства сего истекает из их громадных жилищ, просачивается в автомобили и следует к деловым районам. Там же забавляют они себя среди вроде бы бескрайних просторов креветок-бабочек и яиц фу-янг; азиаты кланяются и улыбаются, и порхают в летних сумерках, а в голосах у них поют птицы лета. И с паденьем нощи настает краткий променад по улице; отцовский торс крепок и уверен в костюме от Дж. Пресса; дочерние глаза тайны за солнечными очками, оправленными стразами. И как имя свое ягуар уделил маминой машине, так узор своей шкуры он подарил брючкам, облекающим ее округлые бедра. Кто отсюда сбежит? Кому захочется?
Рахиль хотелось. Профан, чинивший дороги вокруг Пятиградья, ее понимал.
Когда солнце закатывалось, они почти уговорили коробку на двоих. Профан был пагубно пьян. Он выбрался из машины, забрел за дерево и нацелился на запад, с некоторым намереньем обоссать солнце и погасить его раз навсегда и все такое, ибо это ему отчего-то было важно. (Неодушевленные предметы могут делать что хотят. Не что они хотят, потому что вещи хотеть не могут; только люди. Но вещи делают то, что делают они, и вот поэтому Профан ссал на солнце.)
Оно село; словно Профан в итоге его погасил и жил себе дальше бессмертным, богом потемненного мира.
Рахиль за ним наблюдала, в любопытстве. Он застегнул ширинку и спотыкливо побрел обратно к пивной коробке. Осталось две банки. Он их откупорил и одну протянул Рахили.
– Я загасил солнце, – сказал он, – выпьем же за это. – Почти все он расплескал себе на рубашку.
Еще две мятые банки пали на дно карьера, за ними – пустая коробка.
Рахиль из машины не сдвинулась.
– Бенни, – один ноготь коснулся его лица.
– Чё?
– Ты будешь мне другом?
– Тебе, похоже, хватает.
Она опустила взор в карьер.
– А давай притворимся, что никто из нас не реален, – сказала она: – никакого Беннингтона, никакого Шольцхауэра, никакого Пятиградья. Только этот карьер: мертвые скалы, что были тут до нас и будут после.
– Зачем.
– Мир не таков разве?
– Тебя этому учат по геологии на первом курсе или что?
Она вроде как обиделась.
– Я это просто сама знаю… Бенни, – вскрикнула она – тихим вскриком… – Будь мне другом, вот и все.
Он пожал плечами:
– Пиши.
– Только не жди, что…
– Как дорога. Твоя мальчуковая дорога, которой я никогда не увижу, с ее Дизелями и пылью, с придорожными тавернами, салунами на перекрестках. Больше ничего. Как там западнее Итаки и южнее Принстона. В местах, где я не побываю.
Он почесал живот.
– Верняк.
Профан и дальше сталкивался с нею по меньшей мере раз в день все оставшееся лето. Разговаривали они всегда в машине, он – пытаясь подобрать отмычку к ее зажиганию в глазах под приспущенными веками, она – откинувшись за рулем справа и треща без умолку, только словами «МГ», неодушевленными словами, а прекословить им он не умел.
Вскоре то, чего он боялся, случилось – он околично впутался в любовь к Рахили и удивлялся лишь тому, почему этого не произошло раньше. Лежал ночами во времянке, курил в темноте и взывал к апострофу тлеющего кончика сигареты. Около двух с ночной смены возвращался обитатель верхней койки – некто Дюк Клин, прыщавый браво[9] откуда-то из Челси, и его всегда подмывало поговорить о том, сколько ему обламывается, а обламывалось ему, вообще-то, с горкой. Это Профана и убаюкивало. Однажды ночью он и впрямь наткнулся на Рахиль и Клина, мерзавца, запаркованных в «МГ» перед ее коттеджем. Отполз к себе в койку, не особо ощущая себя преданным, ибо знал, что Клин ни к чему особо не подобьется. Даже засыпать не стал, чтобы Клин удостоил его, придя, пошаговым отчетом о том, как он ее чуть не склеил, только не вполне. Как обычно, Профан уснул на середине.
Он так никогда и не проник ни за треп о ее мире, ни дальше него – о мире предметов желаемых или ценимых, в такой атмосфере Профан задыхался. В последний раз он ее видел ночью на День труда. Назавтра она уезжала. В тот вечер, перед самым ужином, кто-то спер автомат Да Конью. Тот метался весь в слезах, его разыскивая. Главный повар поставил на салаты Профана. Тому удалось замешать мороженую клубнику во французскую приправу, а рубленую печень в «Уолдорф» плюс нечаянно уронить две дюжины или около того редисок во фритюрницу для картошки (хотя их клиенты приняли с восторгом, когда он подал их невзирая – лень было искать замену). То и дело через кухню с топотом и весь в слезах проносился бразилец.
Возлюбленный автомат свой он так и не нашел. Осиротелого и нервно-истощенного, его на следующий день уволили. Сезон все равно закончился – поди знай, думал Профан, может, Да Конью однажды и сел на судно в Израиль, возиться там с кишками какого-нибудь трактора, стараясь забыть, как многие изможденные работяги за границей, какую-то любовь, оставшуюся в Штатах.
После разборки Профан отправился искать Рахиль. Она ушла, как его проинформировали, с капитаном Гарвардской команды арбалетчиков. Профан побродил вокруг времянки и нашел угрюмого Клина, нехарактерно беспартнерного на вечер. До полуночи они дулись в очко на все контрацептивы, которые Клин не использовал за лето. Числом около сотни. Профан занял 50, и ему поперла везуха. Когда он обчистил Клина, тот побежал занимать еще. Вернулся через пять минут, качая головой.
– Мне никто не поверил. – Профан одолжил ему несколько. А в полночь проинформировал Клина: тот на 30 в долгу. Клин озвучил уместный комментарий. Профан сгреб резинки в кучу. Клин бился головой о столешницу. – Он их никогда не использует, – сообщил он столу. – Вот в чем сучность-то. Даже за всю жизнь.
Профан опять прибрел к коттеджу Рахили. Со двора за домом услышал плеск и бульканье, обошел разузнать. Там она мыла машину. Но среди ночи. Мало того, она с машиной беседовала.
– Прекрасный ты жеребец, – услышал Профан, – обожаю тебя трогать. – Чё, подумал он. – Знаешь, каково мне, когда мы с тобой на дороге? Одни, вдвоем с тобой? – Она нежно возила губкой по переднему бамперу. – Ты так смешно отзываешься, дорогой, я знаю это наизусть. Как у тебя тормоза чуть влево тянут, как где-то на 5000 об/мин ты содрогаешься, когда возбужден. И масло жжешь, если на меня сердишься, правда? Я знаю. – И никакого безумия тебе у нее в голосе; так школьница может играть, хотя все равно, признал Профан, затейливо. – Мы всегда будем вместе, – ведя замшей по капоту, – и совсем не надо волноваться из-за того черного «бьюика», который мы сегодня обогнали. Фу: жирная, сальная мафиозная машина. Того и гляди труп из задней дверцы вылетит, а? А кроме того, ты такой угловатый, настоящий англичанин, такой весь твидовый – и ах, такой Плющевый, что мне тебя никогда не покинуть, дорогой мой. – Профана осенило, что сейчас его вырвет. Так на него действовали прилюдные проявления сантиментов. Она забралась за руль и откинулась на спинку, горло подставлено летним созвездиям. Профан собрался было подойти ближе, но тут увидел, как левая рука ее, вся бледная, поползла змеей ласкать рычаг переключения передач. Остановился посмотреть и заметил, как она его трогает. Только что от Клина, связь он уловил. Больше видеть ему не хотелось. Он иноходью перевалил холмик и углубился в леса, а когда вернулся в «Трокадеро» – не сумел бы в точности сказать, где его носило. Все коттеджи были темны. Контора еще открыта. Дежурный вышел. Профан порылся в ящиках стола, пока не нашел коробку кнопок. Вернулся к коттеджам и до трех часов ночи ходил по дорожкам между ними под звездами и на каждую дверь прикнопливал по контрацептиву Клина. Никто ему не помешал. Он себя чувствовал Ангелом Смерти, метящим кровью двери завтрашних жертв. Смысл мезузы – одурачить Ангела, чтоб он тебя обошел. На этих сотне или около того коттеджей мезузы Профан не увидел нигде. Тем хуже для них.
После лета, стало быть, пошли письма, его – грубые и полные не тех слов, ее – поочередно остроумные, отчаянные, страстные. Годом позже она выпустилась из Беннингтона и приехала в Нью-Йорк работать секретаршей в агентстве по найму, а поэтому он видел ее и в Нью-Йорке, раз-другой, когда бывал там проездом; и хотя думали они друг о друге наобум, хотя ее йо-йошная рука обычно занималась другими делами, время от времени прилетал незримый рывок пуповины, вот как сегодня ночью – мнемонически, возбуждающе, и он не понимал, насколько он сам себе мужик. Надо отдать ей должное хотя бы в одном – Рахиль никогда не называла это Отношениями.
– Что же тогда это, эй, – как-то раз спросил он.
– Секрет, – с ее улыбкой совсем ребенка, от коей, как от Роджерза и Хаммерстайна на 3/4, Профан весь трепетал и студенился.
По временам она его навещала, как сейчас, среди ночи, подобно суккубу, наметалась вместе со снегом. Нипочем было не узнать ему, как и то и другое не впускать внутрь.
IV
Как оказалось, всей новогодней вечеринке суждено было покончить с йо-йошеньем, по крайней мере – пока. Вечер встречи обрушился на «Сусанну Сквадуччи», развел ночную вахту бутылкой вина и впустил команду с эсминца в сухом доке (после некоторой предварительной перебранки) на борт.
Паола сперва не отлипала от Профана, который не сводил глаз с некоей телесно роскошной дамы в чем-то вроде меховой шубки – дама утверждала, что она адмиральская жена. Наличествовали портативный радиоприемник, шумизаторы, вино, вино. Росни Гланд решил влезть на мачту. Мачту недавно покрасили, но Росни лез, чем выше, тем больше походя на зебру, под ним болталась гитара. Достигши салинга, Росни сел, потрямкал на гитаре и запел с вахлацким выговором:
Depuis que je suis né
J’ai vu mourir des pères,
J’ai vu partir des fréres,
Et des enfants pleurer…
Опять этот дес. Прямо неотступен на этой неделе. С рожденья вижу тут (говорил он), как папы умирают, как братья уезжают и дети слезы льют…
– В чем незадача этого воздушно-десантного мальчика, – спросил у нее Профан, когда она впервые ему перевела. – Кто этого не видел. Бывает и по другим причинам, не только из-за войны. При чем тут война. Я в гуверовских трущобах родился, до войны.
– В том-то и дело, – сказала Паола. – Je suis né. Родиться. Больше ничего делать не нужно.
Голос Росни вливался в неодушевленный ветер, так высоко над головой. Что сталось с Гаем Ломбардо и «Былыми временами»?
В одну минуту 1956 года Росни был на палубе, а Профан – верхом на рангоутном дереве, поглядывая сверху вниз, как прямо под ним совокупляются Свин и адмиральша. Из присвоенного снегом неба спорхнула чайка, сделала круг, присела на выстрел в стопе от Профановой ладони.
– Йо, чайка, – сказал Профан. Чайка не ответила. – Ой, чувак, – сообщил Профан ночи. – Нравится мне, когда молодые люди вместе. – Он обозрел главную палубу. Паола исчезла. Все вдруг прорвало. Подале на улице взвыла сирена, вторая. На причал с ревом вырвались машины, серые «шеви» с надписями «ВМФ США» на бортах. Зажглись прожектора, по пирсу загоношились людишки в белых бесках и черно-желтых нарукавных повязках БП. Вдоль левого борта побежали трое бдительных бражников, сталкивая в воду сходни. К транспортным средствам на причале, чье количество дорастало уже почти до штатного автопарка, подкатил грузовик с радиоустановкой.
– Так, ладно, нижние чины, – заревели 50 ватт бестелесного голоса: – ладно, нижние чины. – Считай, больше сказать ему было нечего. Адмиральша заверещала, что это супруг, наконец-то ее поймал. Два или три прожектора пришпилили их на месте (во жгучем грехе), Свин пытался продеть тринадцать пуговиц своей синей робы в нужные петли, а это почти невозможно, если торопишься. С пирса – аплодисменты и хохот. Кое-кто из БП по-крысиному уже лез по швартовам. Служившие некогда на «Эшафоте», пробужденные от сна в подпалубных помещениях, ковыляли вверх по трапам, а Росни вопил:
– По местам стоять, отражать абордаж, – и размахивал гитарой, как абордажной саблей.
Профан на все это смотрел и отчасти волновался за Паолу. Искал ее взглядом, но прожектора все время юлили, портя освещение главной палубы. Опять пошел снег.
– Предположим, – молвил Профан чайке, коя ему моргала, – предположим, я Бог. – Он проелозил до площадки и лег на живот, а за край остались торчать лишь нос, глаза и ковбойская шляпа, как у горизонтального Килроя. – Был бы я Бог… – Он показал на одного БП; – Тяп, БП, кранты твоей жопе. – БП продолжал заниматься своим делом: лупил 250-фунтового старшину – специалиста по управлению Пентюха Пагано в живот дубинкой.
К автопарку на пирсе прибавилась скотовозка, на флоте так называют автозаки, сиречь брюнетки.
– Тяп, – сказал Профан, – скотовозка, езжай дальше и свались с конца пирса, – что та почти и сделала, но вовремя тормознула. – Пентюх Пагано, отрасти себе крылушки и улетай отсель. – Но последний удар в поддыхало надежно свалил Пентюха. БП оставил его лежать. Сдвинуть его с места можно только вшестером. – Что такое, – заинтересовался Профан. Морской птице все это надоело, она снялась курсом на ОБФ. Может, подумал Профан, Богу положено быть положительней, а не швыряться молниями все время. Он тщательно наставил палец. – Росни Гланд. Спой им эту алжирскую песню пацифистов. – Росни, оседлав верхний леер на мостике, сыграл вступло на басовой струне и запел «Синие замшевые ботинки», на манер Элвиса Пресли. Профан перевернулся на спину, моргая летящему снегу. – Ну почти, – сказал он – отчалившей птице, снегу. Шляпу надвинул на лицо, закрыл глаза. И вскоре уснул.
Шум внизу стихал. Выносили тела, складывали их в скотовозку. Вещательный грузовик, после нескольких выплесков самозаводки, выключили и угнали. Погасли прожектора, сирены задопплировали прочь, в сторону штаб-квартиры берегового патруля.
Проснулся Профан спозаранку, под тонким слоем снега и ощущая накат сильной простуды. Он наобум сполз вниз по обледенелым скобам, через ступеньку оскальзываясь. На судне никого не было. Он спустился внутрь согреться.
Вновь оказался он в кишках чего-то неодушевленного. Несколькими палубами ниже шум: ночная вахта, скорее всего.
– Нипочем одному не остаться, – пробормотал Профан, на цыпочках идя по коридору. На палубе он заметил мышеловку, осторожно взял ее и метнул вдоль прохода. Та ударилась в переборку и разрядилась с громким ТРЕСЬ. Шаги резко стихли. Затем возобновились, осмотрительней, прошли под Профаном и вверх по трапу, туда, где лежала мышеловка. – Ха-ха, – сказал Профан. Увильнул за угол, нашел другую мышеловку и сбросил ее в сходный люк. ТРЕСЬ. Шаги захлопали вниз по трапу.
Четыре мышеловки спустя Профан оказался на камбузе, где вахта устроила себе примитивную кают-компанию. Прикинув, что вахтенный еще несколько минут будет попутан, Профан поставил себе кипятиться на плитку котелок воды.
– Эй, – завопил вахтенный, двумя палубами ниже.
– Ой, ой, – сказал Профан. Он тишком выбрался с камбуза и пошел искать еще мышеловок. Одну нашел палубой выше, вышел наружу, подкинул ее повыше невидимой аркой. Хоть мышей спасает. Сверху раздался приглушенный треск и вопль. – Мой кофе, – бормотнул Профан, перескакивая вниз через две ступеньки. В кипящую воду он бросил горсть помолки и выскользнул через другую дверь, едва не столкнувшись при этом с ночным вахтенным, который крался с мышеловкой, болтавшейся на левом рукаве. В такой близи, что Профан разглядел у этого вахтенного терпеливое лицо мученика. Тот вошел на камбуз, и Профана там не стало. Он поднялся на три палубы и только оттуда услышал рев с камбуза. – Что еще? – Он забрел в коридор, куда выходили пустые каюты. Нашел мелок, забытый сварщиком, написал «СУСАННУ СКВАДУЧЧИ ВО ВСЕ ДЫРЫ» и «ДОЛОЙ ВАС ВСЕХ БОГАТАЯ СВОЛОЧЬ» на переборке, подписал «ФАНТОМ», и ему получшело. Кто поплывет на этой штуке в Италию? Председатели советов директоров, кинозвезды, депортированные вымогатели, может. – Сегодня, – мурлыкнул Профан, – сегодня ночью, Сусанна, ты вся моя. – Его, чтоб всю разметить, чтоб в ней грохать мышеловки. Ни один оплаченный пассажир ей такого никогда не сделает. Профан фланировал по коридору, собирая мышеловки.
Снова у камбуза он принялся разбрасывать их в разные стороны.
– Ха, ха, – произнес ночной вахтенный. – Валяй, шуми. Я пью твой кофе.
И впрямь. Профан рассеянно взвесил на руке оставшуюся мышеловку. Она сработала, зажав ему три пальца между первой и второй костяшками.
Что мне делать, задался он вопросом, заорать? Нет. Ночной вахтенный и без того сильно ржал. Стиснув зубы, Профан отодрал от руки мышеловку, вновь зарядил ее, швырнул в иллюминатор на камбуз и сбежал. Уже выскочил на пирс, и тут получил снежком в затылок, от чего слетела шляпа. Он нагнулся за ней и подумал было вернуть бросок. Нет. Он побежал дальше.
Паола была у парома, ждала. Взяла его под руку, когда они заходили на борт. Он сказал только:
– Мы когда-нибудь сойдем с этого парома?
– Ты весь в снегу. – Она дотянулась его счистить, и он почти ее поцеловал. От холода его мышеловочная травма онемела. Поднялся ветер, от Норфолка. На этом переходе они оставались внутри.
Рахиль его настигла на автостанции в Норфолке. Он сгорбился рядом с Паолой на деревянной лавке, стертой до мертвенной бледности и сальности поколением случайных задов, два билета в один конец до Нью-Йорка, Нью-Йорк, заткнуты изнутри в ковбойскую шляпу. Глаза у него были закрыты, он пытался спать. Только его начало сносить, как по громкой связи вызвали его имя.
Он тут же понял, даже толком не проснувшись, кто это должен быть. Просто по наитию. Он о ней думал.
– Дорогой Бенни, – сказала Рахиль. – Я обзвонила все автостанции в стране. – В трубке фоном звучала вечеринка. Новогодняя ночь. А там, где он, лишь старые часы, время показывать. Да дюжина бездомных, съежились на деревянной скамье, стараются уснуть. Дожидаясь дальнобойного автобуса, ни «Борзого», ни «Путьдорожного». Он смотрел на них, не мешая ей говорить. Она говорила:
– Возвращайся домой. – Единственная, кому он такое позволял, за вычетом внутреннего голоса, от коего скорей бы отрекся как от блудного, нежели к нему прислушался.
– Ты знаешь… – попытался сказать он.
– Я пришлю тебе денег на автобус.
Прислала бы.
По полу к нему подтащился гулкий, блямкающий лязг. Росни Гланд, угрюмый и сплошь кости, волок за собой гитару. Профан бережно ее перебил.
– Вот пришел мой друг Росни Гланд, – сказал он, чуть ли не шепотом. – Он хотел бы спеть тебе песенку.
Росни ей спел старую песню Депрессии, «В скитаньях». Угри есть в океане, и в море их родня, а рыжая подруга обмишулила меня…
У Рахили волосы были рыжие, в прожилках ранней седины, такие длинные, что она их могла одной рукой отвести, поднять над головой и уронить вперед на долгие глаза. Что для девушки в 4ʹ10ʹʹ без туфель – жест нелепый; или должен им быть.
Он чувствовал этот незримый рывок струны пуповины у себя по миделю. Подумал о длинных пальцах, сквозь которые, быть может, ему и удастся ловить взглядом синее небо, изредка.
А я, похоже, никогда не брошу.
– Она тебя хочет, – сказал Росни. Девушка в будке Информации хмурилась. Широкая в кости, пестрая лицом: девушка откуда-то не из города, глаза ее грезили об оскалах радиаторов «бьюика», о шаффлборде в какой-нибудь придорожной таверне.
– Я тебя хочу, – сказала Рахиль. Он подвигал подбородком по микрофону трубки, скрежеща трехдневной щетиной. Подумал, что где-то аж на севере, вдоль 500 миль подземного телефонного кабеля, должны быть земляные черви, слепые тролли какие-нибудь, подслушивают. Тролли много волшбы знают: а могут они менять слова, подражать голосам? – Значит, так и будешь в дрейфе, – сказала она. За нею в глубине кто-то блевал, а те, кто смотрел, смеялись, истерически. Джаз на проигрывателе.
Ему хотелось сказать: Господи, чего мы только не желаем. Он сказал:
– Как вечеринка.
– Она у Рауля, – ответила она. Рауль, Сляб и Мелвин – это из компашки недовольных, на которую кто-то навесил ярлык «Цельная Больная Шайка». Полжизни они проводили в одном баре нижнего Уэст-сайда, под названием «Ржавая ложка». Он подумал о «Могиле моряка» и большой разницы не приметил. – Бенни. – Она никогда не плакала, он ни разу не помнил. Его это встревожило. Но, может, прикидывается. – Чао, – сказала она. Этот фуфлыжный, Гренич-Деревенский способ избегнуть прощания. Он повесил трубку.
– Славная там драчка, – сказал Росни Гланд, хмурый и красноглазый. – Старина Фортель так нарезался, что взял и укусил в жопу морпеха.
Если сбоку посмотреть на планету, что болтается по кругу на своей орбите, рассечь солнце зеркалом и вообразить бечевку, все это похоже на йо-йо. Самая дальняя от солнца точка называется апогелий. Точка, самая дальняя от руки с йо-йо, называется, по аналогии, апохир.
Той ночью Профан и Паола уехали в Нью-Йорк. Росни Гланд вернулся на судно, и Профан его больше никогда не видел. Свин отвалил на «харли», пункт назначения неизвестен. В «борзом» присутствовала одна юная пара, которая, едва остальных пассажиров сморил сон, имелась на заднем сиденье; один торговец карандашными точилками, видевший все территории страны, а посему способный сообщить интересную информацию о любом городе, в какой бы ни случилось ехать; и четыре младенца, всякий – с мамашей-неумехой, – размещенные на стратегических позициях по всему автобусу, они лепетали, ворковали, блевали, практиковали самоудушение, пускали слюни. Минимум один умудрился орать все двенадцать часов пути.