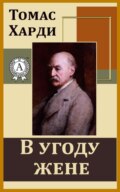Томас Харди (Гарди)
Старший трубач полка
Глава 7
О чем они говорили, когда шли полем
– Вы часто ходите этой дорогой? – спросил Фестус, лишь только поравнялся с Энн.
– Я прихожу за газетой или когда еще что-нибудь понадобится, – ответила Энн в растерянности, стараясь угадать, случайно или намеренно он здесь появился.
Несколько шагов они шли молча, только Фестус с победоносным видом щелкал хлыстом по траве.
– Вы что-то сказали, мисс Энн?
– Нет, – ответила девушка.
– Тысячу извинений. Мне показалось, вы что-то сказали. Зачем вы сходите с тропинки, – я могу идти и по траве, эти лютики не зажелтят мои сапоги, а вот ваши чулочки испортят. Ну, что вы скажете по поводу того, что по соседству с вашей деревней появилось столько военных?
– Мне кажется, это внесло большое оживление и приятное разнообразие в нашу жизнь, – подчеркнуто сдержанно отвечала Энн.
– Быть может, вы вообще не жалуете наше военное сословие?
Энн улыбнулась и ничего не ответила.
– Почему вы смеетесь? – воскликнул молодой фермер, испытующе заглядывая ей в лицо и багровея от гнева. – Что вы увидели смешного?
– Разве я смеюсь? – сказала Энн, испуганная его неожиданной обидчивостью.
– Ну конечно, вы смеетесь и сами прекрасно это знаете, вы насмешница! – сказал он тоном капризного ребенка. – Вы смеетесь надо мной – вот ведь над кем вы смеетесь! А хотел бы я знать, что вы будете без нас делать, когда в любую ночь французы могут свалиться на вас как снег на голову.
– А вы можете отразить их нападение?
– Что за вопрос! А иначе зачем мы здесь? Да вы, я вижу, совсем не цените военных!
Вовсе нет, ей нравятся военные, сказала Энн. И особенно, когда они, увенчанные славой, возвращаются домой с войны, хотя стоит ей подумать о том, как досталась им эта слава, и они уже нравятся ей гораздо меньше. Доблестный кавалерист, почувствовав себя умиротворенным, заявил, что она, должно быть, имеет в виду то обстоятельство, что на войне рубят головы, раскалывают черепа и проделывают еще многое в том же духе, и он находит вполне естественным, если подобные действия немного пугают такое нежное мягкосердечное создание. Ну а он совсем не прочь принять этим летом участие в каком-нибудь сражении вроде битвы при Бленхейме, которая произошла сто лет назад или что-то около того… Да, черт побери, совсем не прочь.
– Эй! Да вы опять смеетесь! Да-да, я же видел! – И вспыльчивый Фестус повернул к Энн побагровевшее лицо и так и впился в нее своими голубыми глазами, словно стремясь прочесть ее мысли. Энн попыталась храбро встретить его взгляд, но веки ее дрогнули и она опустила глаза.
– Ну конечно, вы смеялись! – повторил Фестус.
– Ну, право же, совсем чуть-чуть, – пробормотала она.
– Ага! Я же видел, что вы смеетесь! – загремел он. – Над чем же это вы смеялись, позвольте вас спросить?
– Просто… просто я подумала, что вы… что вы ведь служите в территориальной коннице, – лукаво промолвила Энн.
– И что же отсюда следует?
– А эта конница… говорят, там все больше фермеры, у которых мозги набекрень.
– Ну да, я так и думал: вы просто слушаете чужие шуточки, милейшая Энн. Верно, такая уж у вас, женщин, привычка, и я не придаю этому значения. Конечно, я готов признать, что среди нас есть не очень храбрые вояки, но я-то умею обнажить саблю, разве не так? Ну, попробуйте скажите, что это не так, попробуйте – чтоб раздразнить меня.
– Я уверена, что это так, – мягко сказала Энн. – Если на вас нападет француз, мистер Дерримен, вы разобьете его наголову или обратите в бегство.
– А, теперь вы мне льстите, – сказал Фестус, расплываясь в улыбке и сверкая белыми зубами. – Ну, разумеется, я прежде всего обнажу свою саблю. То есть я хочу сказать, что сабля моя будет уже наголо, и я пришпорю мою лошадь, то есть, выражаясь военным языком, моего боевого коня и, подскакав к неприятелю, скажу… Впрочем, нет, я, разумеется, ничего не скажу – мужчины в битве слов не тратят. Я займу третью оборонительную позицию – сабля клинком вниз, – затем перейду во вторую оборонительную…
– Этак вы будете не столько поражать неприятеля, сколько обороняться от него.
– Что такое! – вскричал Фестус, и сиявшее самодовольством лицо его сразу потемнело как туча. – Что вы понимаете в языке военных – вы же никогда не держали сабли в руке! Я вовсе не собираюсь рубить его саблей. – И, насупившись еще пуще, он продолжил: – Я сражу его пулей. Я стащу с правой руки перчатку, скину с плеч козью шкуру, достану пороховницу, засыплю порох на полку и… Нет, не так, не годится. Я выхвачу пистолет, что висит у меня с правого бока, заряжу его и, когда раздастся команда: «Взвести курки!» – я…
– Значит, в разгар битвы еще остается время отдавать такие команды? – с невинным видом спросила Энн.
– Вовсе нет! – сказал кавалерист, снова вспыхивая как порох. – Я ведь объясняю вам только, какая должна была бы последовать команда, если бы… Ну вот! Вы опять сме…
– Я не смеялась. Право же, право, я не смеялась!
– Верно, я и сам вижу, что не смеялись. Мне показалось. Ну, затем я ловко прицеливаюсь – смотрю все время вдоль ствола… только вдоль ствола… и стреляю. Не беспокоитесь, я отлично знаю, как открывать огонь по врагу. Но, кажется, мой дядюшка восстановил вас против меня.
– Он не обмолвился о вас ни единым словом, – сказала Энн. – Но я уже, конечно, слышала о вас.
– А что вы слышали? Уж, верно, ничего хорошего. Ух, во мне все кипит!
– Нет, ничего плохого, – успокоила его Энн. – Просто вспоминали вас разок-другой.
– Ну скажите же, что обо мне говорили, будьте умницей. Я не терплю, когда мне противоречат. Ну же! Я никому не скажу, клянусь!
Энн принужденно улыбнулась, пребывая в замешательстве, наконец решилась:
– Нет, не скажу!
– Ну вот опять! – мгновенно впадая в отчаяние, воскликнул кавалерист. – Я начинаю подозревать, что меня просто здесь ни во что не ставят!
– Но о вас не говорилось ничего худого, – повторила Энн.
– Тогда, значит, что-то, может быть, говорилось хорошее, – тотчас успокоившись, промолвил Фестус. – Что ж, хотя у меня, не скрою, довольно много недостатков, кто-нибудь может меня и похвалить. Так это была похвала?
– Да, похвала.
– Я, конечно, не очень-то смыслю в земледелии, и не слишком умею занимать разговором, и не так силен в цифрах, но должен признаться, раз уж меня к этому вынуждают, что на эспланаде выгляжу не хуже других молодцев из нашей конницы.
– Безусловно! – сказала Энн. Хоть вспыльчивость этого воина и нагоняла на девушку такой страх, что мурашки бегали по спине, все же отказать себе в опасном удовольствии слегка его подзадорить она не могла. – Выглядите вы превосходно, и кое-кто говорит, что вы…
– Что же такое они говорят? Ну, понятно: говорят, что я красив. Только это не мне в похвалу, поскольку я не сам себя создал. Эй! Что вы там увидели?
– Ничего, просто какая-то птичка вспорхнула с дерева, – сказала Энн.
– Что такое? Просто какая-то птичка? – загремел кавалерист, мгновенно выходя из себя. – Я же вижу, как трясутся ваши плечи, сударыня. Берегитесь, не дразните меня этим вашим хихиканьем! Клянусь Богом, вам это даром не пройдет!
– Тогда ступайте своей дорогой! – сказала Энн. Она была так возмущена его неучтивостью, что у нее пропала охота над ним потешаться. – Я не желаю с вами разговаривать, хвастун вы этакий! Вы, Фестус, просто ужасный, противный невежа и такой обидчивый, что с вами невозможно иметь дело. Ступайте, оставьте меня!
– Нет-нет, Энн. Я не должен был так разговаривать с вами. За это я позволяю вам говорить мне все, что вам только заблагорассудится. Скажите, что никакой я не воин, или еще что-нибудь такое. Выбраните меня, ну пожалуйста, будьте умницей. Я дурак, пустомеля, просто мусор, меня нужно вымести на свалку!
– Я ничего не намерена говорить вам, сударь. Оставайтесь здесь и дайте мне уйти.
– Ваш взгляд невольно заставляет меня повиноваться, и я не в силах ослушаться вас. А завтра вы снова будете проходить здесь в это время? Ну скажите, не будьте же так нелюбезны.
Энн была слишком великодушна по натуре, чтобы не простить Фестуса, но, упрямо поджав короткую верхнюю губку, пробормотала только, что вовсе не собирается приходить сюда завтра.
– Значит, в воскресенье?
– И в воскресенье нет.
– Тогда в понедельник?.. Или во вторник?.. В среду, наконец? – продолжал допытываться он.
Энн ответила, что не предполагает встречаться с ним когда-либо еще, и, не обращая внимания на его протесты, прошла в калитку и направилась через поле. Фестус постоял, глядя ей вслед, а когда ее стройная фигурка скрылась из глаз, бросил размышлять и повернул в противоположную сторону, негромко что-то напевая.
Глава 8
Энн совершает обзор лагеря
Уже приближаясь к околице, Энн заметила, что к ей навстречу идет какая-то сморщенная старушонка, взиравшая на мир и его обитателей сквозь заключенные в медную оправу стекла очков. Глядя на девушку и покачивая головой, отчего стекла очков поблескивали словно две луны, старуха сказала:
– Ага! Я видела тебя! Если б на мне были другие очки, короткие, в которых я читаю Евангелие и молитвенник, я бы тебя не увидела. А я, как пошла со двора, подумала: дай-ка надену эти, длинные. А разве я знала, что в них увижу. Да, в этих я узнаю всякого вдали как вблизи. Лучше этих очков, когда выходишь из дому, не найти, а вот короткие, те хороши для всякой домашней работы: чулки штопать, блох ловить, – это уж верно.
– Что же вы увидели, бабушка Симор? – спросила Энн.
– Ай, ай, мисс Нэнси, будто вы не знаете! – сказала бабушка Симор, все так же покачивая головой. – Он красивый малый и после смерти дядюшки получит все его денежки.
Энн ничего не ответила и с легкой улыбкой на губах прошла мимо бабушки Симор, глядя прямо перед собой.
Фестусу Дерримену, к которому относились слова бабушки Симор, шел в это время двадцать третий год, и он был весьма недурен собой, если принять во внимание его гренадерский рост и необычайно яркий цвет лица и волос. Признаки бороды и усов обнаружились у него в самом раннем возрасте вследствие настойчивого употребления бритвы, когда в этом орудии не было еще ни малейшей необходимости. Храбрый мальчик скреб свой подбородок украдкой в беседке и в погребе, в дровяном сарае и в конюшне, в парадной гостиной и в коровнике, в амбаре и везде, где только мог, не будучи замеченным, пристроить треугольный осколок зеркала или воспользоваться импровизированным его подобием, прижав шляпу к наружной стороне оконного стекла. Теперь же, в результате этих усилий, стоило ему хотя бы один день не брать в руки вышеозначенный инструмент, с которым он так неосторожно шутил когда-то, и лицо его тотчас покрывалось как бы тонким слоем ржавчины, на второй день проступало нечто вроде золотистого лишайника, а на третий – огненно-рыжая щетина принимала уже такие угрожающие размеры, что позволять ей расти дальше было совершенно невозможно.
Две основные врожденные черты составляли его характер: хвастливость и сварливость. Когда Фестус, что называется, напускал на себя важность, то был заранее уверен, что его поведение и манера себя держать должны казаться окружающим забавными, но если его начинала мучить зависть и он становился придирчив и сварлив, у него хватало ума на то, чтобы довольно ловко поддеть и высмеять собеседника. Он нравился девушкам, но вместе с тем вызывал у них желание поддразнить его, и хотя знаки внимания этого колосса были им приятны, они никогда не упускали случая посмеяться над ним за спиной. Во хмелю (несмотря на свои юные годы, Фестус был не прочь приложиться к бутылке) он сначала становился очень шумлив, затем чрезмерно общителен и, в конце концов, неизменно нарывался на ссору. В детстве он был хорошо известен своей милой привычкой задирать ребятишек победнее и послабее его, отнимать у них птичьи гнезда, опрокидывать их тележки с яблоками или наливать им за шиворот воды, но его воинственное поведение мгновенно и разительно менялось, как только мать обиженного мальчика, размахивая метлой, сковородкой, шумовкой или любым иным подвернувшимся под руку орудием, появлялась на сцене. Тут он пускался наутек и прятался где-нибудь под кустом, или за вязанкой хвороста, или в канаве и ждал, пока опасность минует, а однажды даже залез в барсучью нору и с большим упорством и решимостью пробыл в этом положении почти три часа. Ни один другой мальчишка в приходе, кроме Фестуса, не мог принудить язык почтенных отцов и матерей изрекать такое количество бранных слов. Когда остальные подростки закидывали его снежками, он прятался в каком-нибудь укромном уголке, лепил снежок с камнем в середке и пользовался этим предательским снарядом для ответа на их любезности. Не раз он бывал крепко бит своими приятелями однолетками; при этом он орал благим матом, но все же, обливаясь слезами и кровью, надрываясь от крика, продолжал драться.
Он рано начал влюбляться, и к тому времени, когда ведется наш рассказ, успел испытать жестокие муки неразделенной страсти по меньшей мере тринадцать раз. Любить легко и беспечно ему было не дано: в любви он был суров, придирчив и даже неистов. Ни малейшей насмешки от предмета своего обожания он перенести не мог, испытывая подлинные муки, и впадал в ярость, если насмешки не прекращались. Он был тираном тех, кто смиренно склонял перед ним голову, нагл с теми, кто не желал признавать его превосходство, и становился вполне славным малым, когда у кого-нибудь хватало духу обращаться с ним как со скотом.
Прошла неделя, прежде чем пути Энн Гарленд и этого геркулеса скрестились вновь. Но вот однажды вдова снова начала поговаривать насчет газеты, и хотя это поручение было Энн очень не по душе, она согласилась выполнить его, так как миссис Гарленд настаивала на сей раз с необычным упорством. Почему мать стала придавать такое значение этим пустякам, было Энн совершенно непонятно, но она надела шляпку и отправилась за газетой.
Как она и ожидала, около перелаза через ограду, которым она пользовалась иногда, чтобы сократить путь, маячил Фестус, всем своим видом показывая, что дожидается ее. Увидав его, Энн пошла прямо, словно и не собиралась вовсе переходить за ограду.
– Разве вы не тут ходите? – спросил Фестус.
– Я решила пойти кругом, по дороге, – ответила Энн.
– Отчего же?
Энн промолчала, показывая, что не расположена к разговорам.
– Я хожу по дороге, когда роса, – промолвила она наконец.
– Сейчас нет росы, – упрямо сказал Фестус. – Солнце сушит траву вот уже часов девять кряду. – Секрет заключался в том, что тропинка была более пустынной и укромной, чем дорога, и Фестусу хотелось прогуляться с Энн без помех. – Но мне, конечно, нет до этого дела, ходите где вам нравится. – И, спрыгнув с перелаза, он направился в сторону усадьбы.
Энн, подумав, что ему и в самом деле безразлично, где она пойдет, избрала тот же путь, что и он, но тут Фестус обернулся и с победоносной улыбкой стал ее поджидать.
– Я не могу идти с вами, – непреклонно заявила Энн.
– Вздор, глупенькая вы девочка! Я провожу вас до поворота.
– Нет, прошу вас, мистер Дерримен! Нас могут увидеть.
– Ну-ну, к чему такая стыдливость! – сказал он игриво.
– Нет, вы знаете, что я не могу позволить вам идти со мной.
– А я должен.
– А я не позволяю.
– Позволяйте или не позволяйте, а я пойду.
– Значит, вы крайне неучтивы, и мне придется подчиниться, – сказала Энн, и в глазах ее блеснули слезы.
– Ой, ой! Стыд мне и позор! Клянусь честью, ни за что на свете больше этого не сделаю! – полный раскаяния, воскликнул молодой фермер. – Ну, полно, полно, ведь я же думал, что ваше «ступайте прочь», означает «пойдите сюда», как у всех прочих женщин, особенно вашего сословия. Откуда мне знать, что вы, черт побери, говорили всерьез?
Так как Фестус не трогался с места, Энн тоже стояла и молчала.
– Вижу, что вы чересчур уж осторожны и совсем не так добродушны, как я думал, – в сердцах проговорил Фестус.
– Право, сэр, я вовсе не хотела вас обидеть, – сказала Энн серьезно. – Но мне кажется, вы и сами понимаете, что я поставлю себя в ложное положение, если пойду вместе с вами в усадьбу.
– Ну да, так я и знал, так я и знал. Конечно, я простой малый из территориальной конницы, рядовой, так сказать, солдат, и нам известно, что думают о нас женщины: что мы дрянной народ, что с нами нельзя и поговорить, чтобы не потерять своего доброго имени, что с такими, как мы, опасно повстречаться на дороге, что мы, словно буйволы, вламываемся в дом, пачкаем на лестнице сапогами, обливаем столы и стулья вином и пивом, заигрываем со служанками, поносим все, что есть высокого и священного, и если до сих пор еще не провалились в тартарары, то только потому, что можем все же пригодиться бить Бонапарта.
– Право же, я не знала, что вы пользуетесь такой дурной славой, – сказала Энн просто.
– Вот как! Разве мой дядюшка не жаловался вам на меня? Вы же любимица этого славного благообразного дряхлого старикашки, мне это известно.
– Никогда не жаловался.
– Ладно, а что вы думаете о нашем славном трубаче?
Энн поджала губы, всем своим видом давая понять, что не намерена отвечать на этот вопрос.
– Ну ладно, ладно, я серьезно вас спрашиваю: правда ведь, Лавде славный малый, да и папаша его тоже?
– Не знаю.
– Ну и скрытная же вы, плутовка! Слова из вас не вытянешь! Что ни спроси, на все, верно, будет один ответ: «Не знаю». Уж больно вы скромны. Ей-же-ей, сдается мне, что некоторые девушки, даже если их спросить: «Согласны вы стать моей женой?» – тоже ответят: «Не знаю».
Яркий румянец, заигравший на щечках Энн при этих словах, и блеск глаз свидетельствовали о том, что под внешней сдержанностью, на которую так сетовал Фестус, скрывается весьма живая натура. Выразив свое мнение, Фестус шагнул в сторону, давая Энн пройти, и отвесил ей низкий поклон. Энн церемонно наклонила голову и проследовала мимо него.
Его поведение вызывало в ней сильнейшую досаду, так как она не могла освободиться от неприятного ощущения, что он никогда не позволил бы себе столь вольно обращаться с ней, будь у нее богатые и влиятельные родственники мужского пола, которые могли бы поставить не в меру пылкого поклонника на место. Вместе с тем и на этот раз, так же как и при прежних встречах с ним, она не могла не ощутить своей власти над ним, видя, как легко удается ей приводить его в раздражение или повергать в состояние благодушного самодовольства, и это сознание, что она может играть на нем, как на послушном инструменте, заставляло ее относиться к нему с насмешливой снисходительностью даже в те минуты, когда она давала ему резкий отпор.
Когда Энн пришла в усадьбу, старик фермер, как обычно, стал просить, чтобы она прочла ему то, что ему еще не удалось прочесть самому, и крепко сжимал газету в своей костлявой руке до тех пор, пока Энн не согласилась. Он усадил ее на самый твердый стул – сиди она на нем двенадцать месяцев кряду, и то ей, верно, не удалось бы нанести ему ущерба больше, чем на пенни, – и все время, пока сидела, склонившись над газетой, пытливо приглядывался к ней краешком глаза, и во взгляде его сквозило участие. Быть может, это было вызвано воспоминанием о той сцене, которую он наблюдал из слухового окна, когда Энн приходила за газетой прошлый раз. Племянник внушал старику ужас, повергал в трепет не только душу его, но и тело, и теперь Энн сделалась в его глазах такой же, как он, жертвой этого тирана. Поглядев на нее с лукавым любопытством минуту-другую, он отвел глаза, и когда Энн случайно посмотрела в его сторону, то, как всегда, увидела только его заострившийся синеватый профиль.
Она дочитала газету примерно до половины, когда за спиной у нее послышались шаги и дверь отворилась. Старик фермер съежился в своем кресле и, казалось, уменьшился на глазах; он был явно испуган, хотя и делал вид, что весь обратился в слух и не замечает появления непрошеного гостя. Энн же, почувствовав гнетущее присутствие Фестуса, умолкла.
– Прошу вас, продолжайте, мисс Энн, – сказал Фестус. – Я буду нем как рыба. – И, отойдя к камину, устроился поудобнее, привалившись к нему плечом.
– Читайте, читайте, душечка Энн, – сказал дядюшка Бенджи, делая сверхъестественное усилие, чтобы хоть наполовину унять охватившую его дрожь.
Теперь, когда у Энн появился второй слушатель, ее голос звучал гораздо тише: скромность не позволяла ей в присутствии Фестуса читать столь же выразительно, как прежде, когда ее ничто не смущало, а газета вызывала живой интерес, и тем не менее, сколь ни было это для нее тягостно, она продолжала читать, чтобы он не подумал, будто его появление ее взволновало. Она знала, что молодой фермер, стоя у нее за спиной, разглядывает ее: чувствовала, как его беспокойный взгляд скользит по ее рукам, плечам, шее. Чувствовал на себе его взгляд и дядюшка Бенджи, и после нескольких разнообразных попыток украдкой взглянуть на племянника потерял терпение и дрожащим голосом спросил:
– Ты хочешь мне что-нибудь сказать, племянничек?
– Нет, дядюшка, благодарю вас, ничего, – благодушно ответствовал Фестус, – Мне просто приятно стоять здесь, думать о вас и смотреть на волосы на вашей макушке.
Почувствовав себя при этих словах кроликом под ножом вивисектора, испуганный старик совсем сник в своем кресле, а Энн продолжала читать до тех пор, пока, к облегчению их обоих, бравому вояке не надоело это развлечение и он не покинул комнату. Скоро Энн дочитала статью до конца и поднялась со стула, твердо решив не приходить сюда больше, пока Фестус обретается в этих местах. Щеки ее запылали при одной только мысли, что он, уж конечно, будет подстерегать ее где-нибудь по дороге домой.
По этой причине, покинув дом, она не пошла обычным путем, а проворно обогнула дом с другой стороны, проскользнула между кустами у садовой ограды и, отворив калитку, вышла на старую проселочную дорогу, которая когда-то, в дни процветания усадьбы, представляла собой красивую, усыпанную гравием подъездную аллею. Когда окна старого дома скрылись из виду, Энн припустилась бежать что было духу и выбралась из парка со стороны, противоположной той, где пролегала дорога, ведущая на мельницу. Она и сама не могла бы объяснить, что заставило ее обратиться в бегство: просто стремление бежать было непреодолимо.
Теперь ей не оставалось ничего другого, кроме как взобраться на взгорье слева от лагеря и обойти весь лагерь кругом, все его расположения: пехоту, кавалерию, палатки маркитанток и фуражиров, – и спуститься к мельнице с другой стороны холма. Это огромное путешествие Энн проделала быстрым шагом, ни разу не обернувшись и стараясь избегать проторенных тропинок, чтобы не повстречаться с солдатами. И только спустившись в долину, она приостановилась, чтобы немного передохнуть, и пробормотала:
– Почему я так его боюсь, в конце-то концов? Он же мне ничего не сделает.
Когда она уже приближалась к мельнице, впереди нее на склоне холма появилась статная фигура в синем мундире и белых лосинах и, спустившись вниз, к деревне, и обогнув мельницу, остановилась у перелаза, которым всегда пользовалась Энн, когда возвращалась домой обычным путем. Подойдя ближе, Энн увидела, что это трубач Лавде, но в эту минуту ей не хотелось встречаться ни с кем, и она, быстро пройдя через садовую калитку, скрылась в доме.
– Энн, дорогая, как долго ты ходила! – воскликнула ее мать.
– Да, мама, я вернулась другой дорогой – вокруг холма.
– Зачем это?
Энн ответила не сразу: причина этого поступка и самой ей казалась слишком несущественной, чтобы в ней можно было признаться.
– Просто я хотела избежать встречи с одним человеком, который постоянно старается попадаться мне на пути, вот и все.
Ее мамаша выглянула в окно и, увидев Джона Лавде, сказала:
– А вот и он идет, должно быть.
Молодому человеку прискучило ждать Энн у перелаза, и он решил проведать отца, а проходя мимо дома, не удержался, чтобы не заглянуть в окно, и, увидав Энн и миссис Гарленд, улыбнулся им.
Энн так не хотелось упоминать Фестуса, что она позволила матери пребывать в заблуждении, а та продолжала:
– Что ж, ты права, дорогая. Держись с ним учтиво, но не больше. Я кое-что слышала о твоем другом знакомом, и полагаю, что ты сделаешь очень разумный выбор. От души буду рада, если дело у вас пойдет на лад.
– О ком вы говорите? – спросила изумленная Энн.
– О тебе и мистере Фестусе Дерримене, конечно. Тебе нечего от меня таиться, мне уже давно все известно. Бабушка Симор заходила к нам в прошлую субботу и сказала, что видела, как он провожал тебя через Парк-Клоус на прошлой неделе, когда я посылала тебя за газетой. Вот я и решила отправить тебя туда сегодня опять, чтобы вы могли встретиться.
– Так значит, вам вовсе не нужна была газета и вы только за этим гоняете меня к старику Дерримену?
– Его племянник очень красивый молодой человек и вроде не из тех, кто даст девушку в обиду.
– Да, вид у него бравый, – сказала Энн.
– Он сдал в аренду фригольдерскую ферму своего отца в Питстоке и живет вполне припеваючи на доходы от нее. А после смерти старика Дерримена к племяннику, конечно, отойдут и все его угодья. Он получит никак не меньше десяти тысяч фунтов одними только деньгами да еще шестнадцать лошадей, экипаж и тележку, пятьдесят молочных коров и штук пятьсот овец, никак не меньше.
Энн отвернулась и, вместо того чтобы сообщить матери, что бежала, словно испуганная серна, дабы уклониться от встречи именно с этим предполагаемым наследником, о котором она говорила, сказала только:
– Мама, мне все это совсем не по душе.