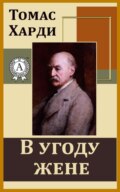Томас Харди (Гарди)
Старший трубач полка
Глава 6
Старый мистер Дерримен, владелец Оксуэлл-холла
В описываемый нами период истории Оверкомба какая-нибудь случайная газета нет-нет да и попадала в деревню. Бедмутский почтмейстер (который благодаря своим служебным связям каким-то таинственным путем приобретал эту газету совершенно бесплатно) одалживал ее мистеру Дерримену из Оксуэлл-холла, а тот, прежде чем газета становилась двухнедельной давности, передавал ее миссис Гарленд. Все, кто хоть немного помнит старика эсквайра, отлично, разумеется, понимают, что эта восхитительная привилегия: узнавать о событиях, происшедших в мире, из газетных столбцов – не была предоставлена вдове Гарленд за здорово живешь. Таким бесхитростным способом старик эсквайр расплачивался с вдовой за те услуги, которые ее дочь время от времени ему оказывала: читала вслух и вела его счета, – ибо сам эсквайр, чей капитал, исчисляемый в гинеях, уже достигал, как поговаривали, пятизначного, а по утверждению некоторых – и шестизначного числа, был не особенно силен в этих делах.
Почтенная вдова миссис Марта Гарленд занимала некое промежуточное положение между погрязшими в невежестве односельчанами, с одной стороны, и хорошо осведомленным джентри – с другой, и любезно помогала первым в написании и чтении писем и переводе с печатного языка на обычный. Нельзя сказать, чтобы она не получала известного удовольствия, когда, стоя вечером на пороге своего дома с газетой в руке в окружении кое-кого из соседей и с удовлетворением поглядывая на их разинутые рты, преподносила им какое-нибудь наиболее захватывающее сообщение, выбранное ею по своему усмотрению из вороха текущих событий. Покончив с газетой, миссис Гарленд передавала ее мельнику, мельник – своему помощнику, а помощник – своему сыну, в руках которого она начинала делиться на половинки, четвертушки и неравносторонние треугольники и заканчивала дни свои в форме бумажного колпака, затычки для фляги или упаковки для хлеба с сыром.
Несмотря на свое деловое соглашение с миссис Гарленд, старик Дерримен задерживал у себя газету так долго и так жалел тратить время своего слуги на поручения чисто интеллектуального порядка, что газета редко попадала в руки вдовы, если она за ней не посылала. Посыльным всегда была Энн. Прибытие в их местность солдат побудило миссис Гарленд послать дочь за газетой на следующий же день после вечеринки у мельника, и Энн, надев шляпку и накинув пелеринку, отправилась прямо в противоположную от военного лагеря сторону.
Пройдя лугом мили две, Энн отворила калитку в ограде и вышла на большую дорогу. По другую сторону дороги лежало какое-то заброшенное пастбище с поломанными жердями ограды, валявшимися по обе стороны ворот, и с полусгнившими воротами, потерявшими нижнюю перекладину. На сухой утрамбованной земле вырубки виднелись следы лошадиных и коровьих копыт, уже слабо различимые от наслоившихся на них отметин бесчисленных овечьих копыт, поверх которых прошлись еще ноги людей и собак. Среди всех этих геологических напластований вилась колея, почти заросшая травой, и по этой дороге Энн продолжала свой путь. Дорога спустилась по отлогому склону, нырнула под сень каштанов и старого, с потемневшей корой вяза и, когда впереди стал слышен шум водопада и морского прибоя, круто свернула в сторону, огибая болотце, заросшее жерухой и водяным крессом и бывшее когда-то рыбным садком. Тут из-за деревьев выглянул угол серого обветшалого здания. Это был Оксуэлл-холл – усадьба угасшего рода, обращенная ныне в ферму.
Бенжамен Дерримен, теперешний владелец этого разрушенного гнезда, был некогда всего лишь фермером-арендатором окрестных земель. Его жена принесла ему в приданое небольшое состояние, и когда его единственный сын был еще подростком, произошел раздел поместья Оксуэллов, и фермер, к тому времени уже вдовец, получил возможность приобрести дом с небольшим прилегающим к нему участком земли за баснословно низкую цену. Но два года спустя он потерял и сына, и с той минуты жизнь как бы остановилась для него. Поговаривали, что после этого печального события Дерримен завещал дом и землю какой-то своей дальней родственнице, дабы ничего не попало в руки его племянника, которого он терпеть не мог; впрочем, достоверно ничего известно не было.
Дом этот был весьма интересен, как всякая пришедшая в упадок усадьба, что очень убедительно показывает некий великолепный труд по истории графства. В этом знаменитом сочинении, изданном ин-фолио, имелась старинная гравюра, выполненная по заказу последнего отпрыска исконных владельцев поместья, и из этого произведения искусства явствовало, что в 1750 году, сиречь в год его публикации, окна этого здания были покрыты мелкими царапинами, напоминавшими зигзаги черных молний, над каждой печной трубой завихрялся крутой завиток дыма, похожий на охотничий рог, на газоне в напряженной позе застыла нарядная дама, прогуливающая комнатную собачку, а над деревьями с северо-восточной стороны повисло грузное облако и девять птиц неизвестной породы, распластавших крылья по небу.
Это запущенное и разрушающееся жилище обладало всеми романтическими достоинствами и практическими недостатками, присущими любым замшелым местам подобного рода, таким как пещеры, утесы, пустоши, ущелья и прочие поэтические уголки, в которых люди с возвышенной душой жаждут жить и умереть. На стенах, покрытых плесенью на три фута от земли, с успехом можно было бы выращивать горчицу или кресс-салат, а в кладовой между каменными плитами пола росли грибы на изысканно тонких ножках. Что же касается наружного вида дома, то здесь природа постаралась за этот щедро отпущенный ей срок размыть, стереть и уничтожить то, что не было приведено в негодность человеком, и потому подчас было нелегко определить, кто же из них явился причиной того или иного разрушения. Лепные украшения у входа утратили отчетливость своих форм, но произошло ли это от бесчисленного прикосновения чьих-то плеч и втаскивания и вытаскивания громоздкой мебели или то были следы времени в более величественной и абстрактной форме – решить не представлялось возможным. Железные прутья оконных решеток, изъеденные ржавчиной от дыхания многих поколений, оседавшего на них, словно роса, сделались у своего каменного основания тонкими, как проволока; стекла же либо помутнели совершенно, либо стали радужными, как павлиний хвост. Над входом сохранились солнечные часы; их расшатавшийся гномон свободно покачивался на ветру, отбрасывая свою тень то туда, то сюда и словно говоря: «Вот вам ваши прекрасные точные часы; вот вам любое время на любой вкус; это старые солнечные часы; неустойчивость – лучшая политика на свете».
Энн вошла в сводчатый портик главного входа, откуда винтовая лесенка вела в комнату привратника. Расположенная вдоль дома галерея с аркадами была перегорожена в нескольких местах, и Энн отворила первую загородку и закрыла ее за собой. Необходимость этих загородок стала очевидной, едва она за нее ступила. Грязь и навоз толстым слоем покрывали старинные плиты галереи, в которой обитали телята, гуси, утки и на удивление огромные свиньи с поразительно крошечными поросятами. Под крестовым сводом несколько телок, вытянув шеи, с довольным видом лизали лепную капитель, поддерживавшую свод. Энн направилась ко второй арке, в которую также была вделана перегородка, дабы скот не мог находиться в постоянном общении с обитателями дома. Дверного молотка не было, и Энн постучала небольшой палкой, которая была оставлена у стены для этой цели, но так как на стук никто не откликнулся, Энн вошла в холл и снова постучала – в дверь, ведущую во внутренние покои.
Послышался легкий шорох, дверь приоткрылась примерно на дюйм, и в образовавшейся щелке показалась часть увядшего лица – один глаз в окружении сетки морщин.
– Простите, пожалуйста, я пришла за газетой, – сказала Энн.
– А, это ты, милая Энн? – жалобно проскулил обитатель этого жилища, чуть-чуть увеличивая щелку. – Я так ослаб, что едва-едва добрался до двери.
Слова эти принадлежали старому, высохшему джентльмену в куртке того цвета, который являлся преобладающим на его скотном дворе, в панталонах того же оттенка, расстегнутых у колен, где над чулком виднелся кусок голой ноги, однако ослепительно белое жабо словно стремилось возместить небрежность нижней части туалета. Сквозь прозрачную кожу лба над глазными впадинами просвечивали кости черепа, а углы тонкого рта по самомалейшему поводу растягивались до ушей. Старик тяжело заковылял обратно в глубь комнаты, и Энн последовала за ним.
– Хорошо, ты можешь получить газету, если хочешь, только вы никогда не оставляете мне времени, чтобы поглядеть, что там написано! Вот, получай. – Он протянул Энн газету, но прежде чем она успела ее взять, отдернул руку. – Мне, можно сказать, так и не досталась газета, зрение у меня слабое, а тут не успеешь оглянуться, как за ней приходят! Меня обвели вокруг пальца с этой газетой. Ну что ж, уносите. У меня останется сознание, что я исполнил свой долг перед людьми. – И в полном изнеможении он утонул в кресле.
Энн сказала, что не хочет брать газету, если он ее еще не прочел, но ведь она пришла на этот раз даже позже, чем обычно, – из-за солдат.
– Солдаты. Да будь они прокляты, эти солдаты! Теперь все живые изгороди поломают, и все курятники обворуют, и всех молочных поросят украдут, и мало ли что еще может случиться! А кто будет за это платить, хотел бы я знать? Верно, из-за этих солдат, которые сюда препожаловали, ты уже не соблаговолишь остаться и почитать мне то, что я еще не успел прочесть сам?
Энн сказала, что почитает, если ему этого хочется, она никуда не спешит. И, опустившись на стул, развернула газету:
– «Обед в Карлтон-Хаусе».
– Нет-нет! Что мне до этого.
– «Оборона страны»?
– Можешь прочесть, если хочешь. Бог даст, в нашем приходе не будут ставить солдат на постой или устраивать еще какие-нибудь безобразия в этом роде. Ведь что делать такому несчастному, убогому калеке, как я, если в этот дом нагонят солдат? Мне же их нечем кормить.
Энн принялась читать, но уже минут через десять ее занятие было прервано появлением на болотистой равнине за окном колоссальной фигуры в мундире территориальной конницы.
– Что это ты там увидала? – с испугом спросил старик фермер, когда Энн запнулась и слегка покраснела.
– Там солдат… Из территориальной конницы, – сказала девушка, чувствуя себя не в своей тарелке.
– Провалиться мне, если это не мой племянник! – воскликнул старик, задрожав всем телом, словно в предчувствии неисчислимых бедствий, и фосфорическая бледность разлилась по его лицу, в то время как он пытался изобразить вымученно-радостную улыбку, дабы приветствовать прибывшего к нему родственника. – Покорнейше прошу: читайте дальше, мисс Гарленд.
Но долго Энн читать не пришлось: посетитель, перешагнув через загородку в галерее, появился в комнате.
– Ну, дядюшка, как поживаете? – спросил гигант, тряся руку старика с такой силой, словно дергал веревку большого колокола. – Рад вас видеть.
– Плоховато, Фестус, слабею все, – выдавил старик, продолжая дрожать всем телом от внезапно полученного им сотрясения. – Ой, полегче, прошу тебя, дорогой племянничек, помилосердствуй! У меня рука слабая, как паутинка.
– Ах вы, бедняга!
– Да, от меня уже один скелет остался. Со мной надо обращаться бережно.
– Весьма огорчен и постараюсь не забывать о вашем бедственном состоянии. Да что вы так дрожите, дядюшка Бенджи?
– А это все от радости, – ответил старик. – Меня всегда начинает трясти как в лихорадке, когда ко мне нежданно-негаданно приезжают мои любимые родственнички.
– А, вот оно что! – воскликнул племянник, так громко хлопнув ладонью по спинке кресла дядюшки, что тот испуганно подпрыгнул фута на три и плюхнулся обратно. – Прошу прощенья, что напугал вас, дядюшка. Но это у нас в полку такой обычай, а я позабыл, что вы больно пугливый. Вы небось совсем не ожидали меня увидеть, а я тут как тут.
– Я рад тебя видеть. Ты, верно, к нам ненадолго?
– Совсем напротив. Я намерен пробыть здесь как можно дольше.
– О, вот как! Очень, очень рад, дорогой Фестус. Как можно дольше, ты сказал?
– Да, как можно дольше, – заявил молодой человек, усаживаясь на покатую крышку бюро и вытягивая ноги, чтобы упереться ими в пол. – Пока наша часть стоит тут, я буду заглядывать сюда, как в родной дом, всякий раз, как получу отпуск. А потом, осенью, когда война закончится, совсем приеду и буду жить с вами, и буду вам заместо родного сына, и помогу управляться с вашими землями и с фермой – словом, буду, так сказать, баюкать вашу старость.
– Ах как приятно это слышать! – промолвил старик, криво улыбаясь и судорожно сжимая подлокотники кресла, дабы не рухнуть на пол.
– Да-да. Я уже давно подумывал приехать к вам, дядюшка Бенджи, – знал ведь, как вам этого хочется, ну и просто не хватило духу не ублажить вас.
– Ты в этом смысле всегда был очень добр.
– Да. Я всегда был добр. Но должен с ходу предупредить вас, чтобы вы потом не слишком огорчались: я не смогу находиться при вас неотлучно, я хочу сказать – весь день: служба в коннице налагает, понимаете ли, известные обязательства.
– Ах, так не весь день? Какая жалость! – воскликнул старик фермер, и тусклый взгляд его оживился.
– Я знал, что вы это скажете. И ночевать я здесь буду тоже не всегда – по той же причине.
– Не будешь оставаться на ночь? – проговорил старик с еще большим облегчением в голосе. – Но ты должен ночевать здесь… Ну конечно, ты должен. Нет, ты просто обязан! Но ты не можешь!
– Пока я в действующей армии – никак не могу. Но как только все это кончится, на следующий же день я буду с вами неотлучно и ночевать буду, чтобы доставить вам удовольствие, раз вы так горячо меня об этом просите.
– Спа… спасибо тебе, это будет очень приятно! – сказал дядюшка Бенджи.
– Да, я знаю, вам будет поспокойнее со мной. – И он снисходительно погладил дядюшку по голове, а старик при этом проявлении родственной нежности выразил свое удовольствие, скорчив чудовищную гримасу. – Мне бы следовало завернуть к вам еще прошлой ночью, когда я был тут неподалеку, – продолжал Фестус. – Но я и так слишком задержался и не мог дать такого крюка. Вы не обижаетесь на меня?
– Нисколечко, раз ты не мог. Я никогда не буду обижаться на тебя, если никак не сможешь ко мне заглянуть. Понимаешь, Фести?
Оба умолкли, и так как племянник продолжал хранить молчание, дядюшка Бенджи прибавил:
– Жаль, что и я не мог припасти для тебя подарочка. Как на беду, у нас пало много скотины в этом году, и у меня страх какие расходы.
– Ах вы, бедняга… Да я знаю, знаю. Может, одолжить вам семь шиллингов, дядя Бенджи?
– Ха-ха! Ах ты, шутник! Ну что ж, я подумаю. Говорят, Бонапарт должен высадить свои войска точнехонько здесь, на нашем берегу? А территориальная конница должна будет дать ему отпор и стоять насмерть.
– Кто это говорит? – вопросил румяный сын Марса, выцветая на глазах.
– Малый, который разносит газеты.
– А, пустая болтовня! – храбро заявил Фестус. – Правительство одно время так полагало, да что оно знает! – Тут Фестус обернулся и воскликнул: – Кого я вижу! Никак это наша малютка Энн!
Энн при его появлении спряталась за газету, а потом потихоньку отошла в глубь комнаты, и он только сейчас ее заметил.
– Скажите мне, мисс Энн, вы с матушкой намерены вечно торчать на этой мельнице, глазея на рыбешек в пруду?
Энн заставила себя поднять на Фестуса глаза и ответила, что будущее ей неизвестно, таким серьезным и искренним тоном, какого едва ли заслуживал заданный вопрос. При этом лицо ее вспыхнуло, порозовели даже плечи и шея, однако не потому, что огромные сапоги, устрашающего вида шпоры и прочие воинственные атрибуты кавалериста поразили ее воображение, как это подумалось Фестусу, а просто она не ожидала повстречаться с ним здесь.
– Надеюсь, что не вечно, и это в моих интересах, – сказал Фестус, не сводя глаз с округлой щечки.
Тут Энн приняла позу оскорбленного достоинства и холодно отвела взгляд, однако молодой человек, заметив ее недовольство, продолжал разговаривать с ней так вежливо и почтительно, что она невольно смягчилась, хотя и постаралась это скрыть. При каком-то особенно забавном замечании Фестуса ротик ее дрогнул, верхняя губка несмело обнажила краешек белых зубов, застыла на миг в этом состоянии… и обнажила их совсем в невольной улыбке, но тут же приняла первоначальное положение. Так улыбка порхала по лицу Энн словно бабочка, в то время как приятное желание улыбнуться, не скрывая своего удовольствия, боролось с желанием проявить степенность и невозмутимость. Энн хотелось показать Фестусу, что она не желает слушать его комплименты, и в то же время дать понять, что не настолько бесчувственна, чтобы ему нужно было подавлять в себе все искренние чувства, которые ему хотелось бы выразить.
– Почитать вам еще, мистер Дерримен? – спросила она, прерывая излияния Фестуса. – Если нет, так я пойду домой.
– Прогоните меня, чтобы я вам больше не мешал, – сказал Фестус. – Через две минуты, как только ваш слуга почистит мне сапоги, меня здесь не будет.
– Мы не задерживаем тебя, племянник. Эта барышня должна получить газету. Сегодня ее черед. Но она может почитать мне немножко, ведь я с этой газетой почти что и не познакомился. Ну что же ты примолкла, моя милая? Будешь ты читать или нет?
– Буду, но только не двоим, – ответила Энн.
– Хо-хо! Я, значит, должен удалиться, черт побери! – со смехом воскликнул Фестус, и, так как Энн не удостоила его больше ни единым взглядом, покинул комнату и, бряцая шпорами, направился на задний двор, где увидел слугу и, помахав ему рукой, крикнул:
– Энтони Крипплстроу!
Крипплстроу рысцой приблизился к нему, откинул со лба клок волос, водворил его на место и произнес:
– Да, сударь?
Он работал у старика Дерримена, помогая в чем придется по саду и огороду, и так же, как его хозяин, не претендовал на мужественную внешность и привлекательность вследствие сильно искривленного позвоночника и необыкновенного устройства рта, который растягивался только в одну сторону, отчего улыбка получалась какой-то треугольной.
– Ну, Крипплстроу, как дела? – покровительственно спросил его Фестус.
– Помаленьку, сударь, не так чтоб очень плохо. А как вы поживаете?
– Отлично. Давай-ка почисть мне сапоги: видишь, это военные сапоги, – я поставлю ногу на скамейку. Этот свиной хлев моего дядюшки не место для порядочного солдата.
– Хорошо, сударь, мистер Дерримен, я почищу. Да, конечно, это не место, сударь.
– Какая скотина пала в этом году у моего дядюшки, Крипплстроу?
– Сейчас скажу, сударь. Помнится, мы потеряли трех цыплят, одного голубя и одного недельного молочного поросеночка, а всего она их принесла десять штук. А больше я что-то ничего не припомню, сударь.
– Да, огромный падеж скота, ничего не скажешь! Вот старый мошенник!
– Нет, не очень много скота, сударь. Старый… как вы изволили сказать, сударь?
– Так, ничего. Он там сейчас. – Фестус мотнул головой в сторону дома. – Вонючий скряга.
– Хи-хи! Ай-ай-ай, мистер Дерримен! – сказал Крипплстроу, с восторженным осуждением покачивая головой. – Образованные господа не должны говорить такое. А вы еще и офицер к тому же, мистер Дерримен! Вы там у себя в коннице не должны забывать, что в ваших жилах течет кровь прославленных предков и вам не след дурно отзываться о них.
– Он скупая скотина.
– Верно, сударь: признаться, он малость скуповат. Это уж так повелось – многие старые, почтенные господа скуповаты. Ну, Бог даст, он не забудет вас в своем завещании, сударь.
– Надеюсь, не забудет. А что, здешний народ говорит что-нибудь обо мне? – спросил молодой человек, в то время как Крипплстроу продолжал возиться с его сапогами.
– Да, сударь, случается, что и говорят иной раз. Говорят, что наша добрая матушка-землица вырастила хороший кусок мяса и костей для нашей территориальной конницы… словом, все сходятся на том, что вы очень красивый малый, сударь. Хотелось бы мне так же мало бояться французов, как вы. Я ведь состою в местном ополчении, мистер Дерримен, и, поверите ли, каждую ночь вижу во сне, что защищаю родину от неприятеля, и этот сон совсем не доставляет мне удовольствия.
– А ты смотри на это веселее, как я, тогда мало-помалу привыкнешь и совсем перестанешь думать. Красивый мужчина – это еще не все, понимаешь ли. Да-да. В армии найдется кое-кто не хуже меня, а может, и лучше.
– И потом, еще говорят, что вы сумеете умереть как настоящий мужчина, когда падете на поле брани этим летом.
– Когда паду на поле брани?
– Ну да, да, так точно, сударь. Ох и горемычная ж судьбина! Ежечасно буду я молиться за упокой вашей души, когда вы будете гнить в своей солдатской могиле!
– Постой, – сказал наш воин, проявляя некоторое беспокойство. – Почему это они решили, что я должен погибнуть?
– Ну как же, сударь: по всему видно, что конница будет пущена вперед.
– Вперед? Вот и дядюшка говорил то же самое!
– Ну да, по всему видно, что так. И, уж конечно, ее скосят под корень, как былинку. И вас, бедняжку, такого молодого, такого храброго, заодно с остальными!
– Послушай, Крипплстроу, это же просто дурацкая болтовня. Как может конница быть пущена вперед? Да никто не будет пущен вперед. Какое нам, коннице, дело до высадки Бонапарта? Мы будем находиться в каком-нибудь безопасном месте, охраняя ценности и драгоценности. Ну, послушай, Крипплстроу, видишь ты хоть какой-нибудь резон в том, чтобы пускать конницу вперед? Ты думаешь, они и в самом деле могут это сделать?
– Да, сударь, боюсь, что могут, – сказал жизнерадостный Крипплстроу. – И я знаю, что такой храбрый воин, как вы, будет только рад случаю показать себя. Это же такое почетное дело – смерть в ореоле славы! Я, по чести, желаю вам этого от всей души, да и всем так говорю… Правду сказать, я даже молюсь об этом по ночам.
– О! Черт бы тебя побрал! Никто тебя об этом не просит.
– Нет, сударь, никто, я сам.
– Конечно, мой меч выполнит свой воинский долг. Но хватит болтать! Убирайся отсюда.
Угрюмо насупившись, Фестус возвратился в комнату дядюшки и увидел, что Энн собирается уходить. Он хотел было тотчас же отправиться вместе с ней, но она уклонилась от его предложения, и он подошел к окну и, барабаня пальцами по ставне, наблюдал, как она пересекает двор.
– А, ты еще не ушел, племянник? – спросил старик фермер, с опаской косясь на Фестуса одним глазом. – Ты видишь, в каком я плачевном положении. И хоть бы чуть полегчало. Потому и не могу я принять тебя так, как бы мне хотелось.
– Не можете, дядюшка, не можете. Но я не нахожу, чтобы вам было хуже, нет, будь я проклят! Вам еще не раз представится случай оказать мне хороший прием, когда вы поправитесь. А если вам кажется, что вы начали сдавать, почему бы не развеяться, не пожить где-нибудь в другом месте? Здесь у вас такая сырая, мрачная дыра.
– Верно, Фестус. Я и сам подумываю о том, чтобы перебраться в другое место.
– Вот как! И куда же? – с любопытством спросил удивленный Фестус.
– В мансарду, что в северной части дома. Там, правда, нет камина, да на что он такому горемыке, как я.
– Недалеко же вы собрались.
– Недалеко. Так ведь у меня нет ни единой родной души на десять миль в округе, а ты сам знаешь, что я не могу позволить себе арендовать помещение, за которое придется платить.
– Знаю, знаю, дядюшка Бенджи! Ладно, не расстраивайтесь. Как только эта суматоха с Бонапартишкой уляжется, я вернусь и позабочусь о вас. Но когда родина призывает к оружию, надобно повиноваться, если ты настоящий мужчина.
– Какой высокий боевой дух! – восхищенно заметил дядюшка Бенджи, придавая соответственное выражение своему лицу. – Я вот никогда этим не отличался. И откуда только это у тебя, мальчик?
– С материнской стороны, должно быть.
– Верно, так. Ну, береги себя, племянник, – сказал старик фермер, внушительно грозя пальцем. – Береги себя! В наше воинственное время твой боевой пыл может увлечь тебя прямо противнику в пасть, а ведь ты последний в нашем роду. Помни об этом и не позволяй своей отваге завлечь тебя слишком далеко.
– Не тревожьтесь, дядюшка, я буду держать себя в руках, – самодовольно заявил Фестус, раззадоренный против воли словами старика. – Разумеется, я буду бороться с собой сколько смогу, но рано или поздно натура должна взять верх. Ну, я пошел. – И, мурлыча себе под нос «Лагерь “Брайтон”», пообещав в самом непродолжительном времени наведаться снова, Фестус удалился, исполненный уверенности в себе, и чем дальше его уносили ноги, тем больше оживлялся старик дядюшка.
Когда же массивная фигура молодого кавалериста скрылась за дверью прихожей, дядюшка Бенджи проявил живость, противоестественную в человеке, столь обремененном недугами: стремительно вскочив с кресла без помощи палки, несколько раз подряд широко и беззвучно разинул рот, словно умирающая от жажды лягушка, – обычный для него способ дать выход своему веселью. Затем, словно шустрая старая белка, взбежал вверх по лестнице на чердак и припал к слуховому окну, из которого открывался вид на равнину за оградой фермы и тропинку, ведущую к деревне.
– Так-так! – воскликнул старик, подавляя визгливый смешок и приплясывая на месте. – Он побежал за ней. Она его зацепила!
На тропинке действительно появилась Энн Гарленд, а позади на некотором расстоянии размашисто шагал, спеша догнать ее, Фестус. Заметив его приближение, Энн пошла быстрее, но и Фестус прибавил шагу и догнал ее. По-видимому, он окликнул ее, потому что она обернулась, и он, поравнявшись с ней, зашагал бок о бок, после чего оба скрылись с глаз. Старик фермер еще с минуту производил какие-то телодвижения, словно на радостях водил по воображаемой скрипке смычком, а затем, внезапно посерьезнев, снова спустился вниз.