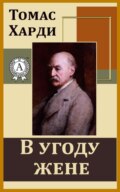Томас Харди (Гарди)
Старший трубач полка
– Да, разумеется, – сказала вдова, и две живописные фигуры – трубача Бака и седельного мастера сержанта Джонса – выступили вперед с самым учтиво-дружелюбным видом, после чего в прихожей почти тотчас снова послышались шаги, и выяснилось, что там каптенармус сержант Брет и старший ковач-коновал Джонсон пришли за господами Баком и Джонсом, которые пришли за трубачом Джоном.
Возникла опасность, что маленькая прихожая миссис Гарленд окажется забитой до отказа совсем незнакомыми людьми, но тут она с облегчением услышала, что Энн спускается по лестнице.
– А вот и моя дочурка, – сказала миссис Гарленд, и драгун-трубач с благоговейным страхом уставился на возникшее перед ним воздушное видение в муслиновом платье, да так и застыл онемев. Энн тотчас узнала в нем драгуна, которого видела однажды из своего окна, и приветливо ему кивнула. Его открытый честный взгляд сразу расположил ее к себе.
Непринужденность ее обхождения заставила Джона Лавде, который отнюдь не был дамским угодником, залиться краской, переступить с ноги на ногу, начать какую-то фразу без всякой надежды ее окончить и смутиться как школьника. Кое-как оправившись от замешательства, он учтиво предложил Энн руку, она приняла ее с присущей ей милой грацией, и он повел ее мимо своих товарищей по оружию, которые в строго вертикальном положении распластались вдоль стены, чтобы дать им дорогу. Когда эта пара вышла за дверь, за нею последовала миссис Гарленд под руку с мельником, а за ними и все прочие, шагая, как и подобало кавалеристам, так, словно их бедра были им не по росту. В таком порядке все один за другим переступили порог жилища мельника и направились дальше по коридору, в каменных плитах которого прилив и отлив посетителей, начавшийся еще во времена Тюдоров, проложил нечто вроде колеи.
Глава 4
О тех, кто присутствовал на скромном празднике мельника
Когда процессия вступила в гостиную, среди собравшихся произошла некоторая заминка в беседе, вызванная появлением новых гостей и (само собой разумеется) очаровательным обликом Энн. Затем почтенные отцы семейств, имеющие дочерей на выданье, разглядев, что перед ними едва сформировавшаяся девушка, перестали обращать на нее внимание и вернулись к прерванной беседе и к своим кружкам с пивом.
Мельник Лавде успел за эти дни сдружиться с половиной солдат из лагеря, что самым наглядным образом проявилось в посетившей его в этот вечер компании – как в смысле ее пестроты, так и во многих других смыслах. Среди присутствующих прежде всего бросались в глаза сержанты и старшие сержанты полка, в котором служил Джон Лавде: все молодцы, как на подбор, они сидели, освещаемые пламенем свечей, и, как видно, отдыхали и душой и телом; кроме них было еще несколько унтер-офицеров и кое-кто из иностранного гусарского полка: один немец, два венгра и один швед. Лица их были овеяны печалью – казалось, юноши тосковали по дому. Все они вполне пристойно изъяснялись по-английски. Самое старшее поколение было представлено Симоном Берденом, пенсионером, а почтенный возраст между пятым и шестым десятками – закадычным другом и соседом Симона капралом Тьюлиджем, который был туг на ухо и сидел в шляпе, надетой поверх красного бумажного платка, обмотанного вокруг головы. Оба эти ветерана несли сторожевую службу на ближайшем маяке, недавно воздвигнутом по приказу командующего гарнизоном, дабы не прозевать высадку неприятеля и вовремя зажечь сигнальные костры. Старики жили в крохотной хибарке на холме, возле куч хвороста, но на этот вечер нашли добровольцев, согласившихся подежурить вместо них.
За ними, в соответствии с более низким общественным положением и меньшим жизненным опытом, следовало назвать их соседа Джеймса Комфорта, служившего когда-то добровольцем, солдата по своей охоте и кузнеца по роду занятий, а также представителей местного ополчения: Уильяма Тремлета и Энтони Крипплстроу. Оба эти воина были в обычной крестьянской одежде и, скромно притулившись в уголке, с почтением поглядывали на солдат регулярной армии. Остальная компания состояла из соседей-фермеров с женами, приглашенных мельником, как с облегчением отметила про себя Энн, дабы они с матерью не оказались единственными женщинами на пирушке.
Лавде-старший шепотом принес миссис Гарленд свои извинения по поводу того, что ей придется разделить общество простых крестьян.
– Ведь они теперь, сударыня, овладевают военным искусством: готовятся встать на защиту родины и своего очага, да к тому же столько лет работали у меня, – ну я и решил пригласить их: подумал, что вы не будете на меня за это в обиде.
– Разумеется, нет, сосед Лавде, – сказала вдова.
– Вот тоже и старики Берден и Тьюлидж. Они немало и с честью послужили в пехоте, да и сейчас еще им иной раз куда как несладко приходится там, на маяке, в непогоду. Так что я сначала покормил их на кухне, а потом пригласил сюда, послушать пение. А они мне зато слово дали, что прибегут к нам, как только покажутся неприятельские суда с пушками; зажгут сигнал на маяке – и прямо сюда. А то ведь мы сами-то можем и проглядеть. Так что, понимаете, они тоже пригодятся, хоть и чудаковаты малость.
– Вы совершенно правы, сосед, – согласилась вдова.
Энн была очень смущена при виде лиц военного звания, представленных в таком внушительном количестве, и поначалу вела беседу только со знакомыми женами фермеров да с двумя стариками солдатами – жителями деревушки.
– А почему ты вчерась не захотела перекинуться со мной словечком, девушка? – спросил капрал Тьюлидж, старик помоложе, сидевший в шляпе. Энн в это время беседовала со стариком Симоном Берденом. – Ты встрелась мне на тропке и даже не взглянула на меня, – добавил он с укором.
– Простите, я очень сожалею, – сказала Энн, но слова ее пропали даром, так как она не решалась кричать во все горло в таком большом обществе, и капрал не услышал ни звука.
– Небось шла и мечтала невесть о чем, – продолжал громко разглагольствовать безжалостный капрал. – Да, стариков теперь не замечают, все смотрят на молодых! А ведь я не забыл, как младший-то Лавде, Боб Лавде, подкарауливал, бывало, тебя повсюду.
Щеки Энн вспыхнули, и она положила конец этому чрезмерному углублению в прошлое, поспешно заявив, что неизменно с большим почтением относится к таким пожилым людям, как он. Капралу же показалось, что она осведомилась, почему он сидит в шляпе, и он пояснил, что был ранен в голову в битве при Валансьенне в июле девяносто третьего года.
– Мы вели орудийный обстрел крепости, и осколок снаряда угодил мне в голову. Двое суток я был почитай что мертвец. Если б не эта рана да раздробленная рука, я бы, отслужив двадцать пять лет в армии, вернулся домой целехонек.
– Говорят, у тебя в череп вставлена серебряная пластинка, верно, капрал? – спросил Энтони Крипплстроу, придвигаясь поближе. – Говорят, это прямо чудо искусства – так ловко они починили тебе башку. Может, барышня хочет посмотреть, где она вставлена? Любопытная штука, мисс Энн, такое не каждый день увидишь.
– Нет-нет, спасибо, – торопливо сказала Энн, страшась, как все молодые девушки Оверкомба, увидеть капрала с непокрытой головой.
С тех пор как он вернулся из армии в девяносто четвертом году, его никто не видел без шляпы и носового платка, повязанного вокруг головы, и по деревне шли толки, что вид его без этого головного убора настолько страшен, что довел до судорог маленького мальчика, случайно увидевшего капрала, когда тот, сняв шляпу, ложился спать.
– Ладно, коли уж барышня не хочет поглядеть на твою голову, может, захочет послушать твою руку? – не унимался Крипплстроу, которому очень хотелось угодить Энн.
– Чего? – переспросил капрал.
– Рука у вас тоже повреждена? – выкрикнула Энн.
– Раздавило в лепешку тогда же, когда и голову, – равнодушно сообщил Тьюлидж.
– Погреми рукой, капрал, дай ей послушать, – сказал Крипплстроу.
– Ага, сейчас, – сказал капрал, не спеша поднимая поврежденную конечность и всем своим видом показывая, что, хотя демонстрация этого чуда уже утратила для него прелесть новизны, готов сделать одолжение. И принялся безжалостно вертеть правой рукой левую, вызывая в последней громкий треск костей и доставляя этим жутким звуком чрезвычайное удовольствие Крипплстроу.
– Какой ужас! – пробормотала Энп, мучительно желая, чтобы эта пытка прекратилась.
– Господь с вами, да ему совсем не больно. Верно, капрал? – сказал Крипплстроу.
– Нисколечко, – подтвердил капрал, продолжая с большим усердием крутить одной рукой другую.
– Кости-то совсем мертвые, совсем мертвые – я же ей говорю, капрал.
– Совсем мертвые.
– Все равно как мешок с кеглями, – продолжал свои пояснения Крипплстроу. – Они все хорошо прощупываются, барышня. Если пожелаете, он сейчас вмиг закатает для вас рукав.
– О нет, нет, не нужно, пожалуйста, не нужно. Я и так верю, – сказала девушка.
– Ну так что? Хочет она еще смотреть и слушать или не хочет? – спросил капрал, давая понять, что не желает терять время даром.
Энн заверила его, что не хочет ни под каким видом, и ловко выскользнула из своего угла.
Глава 5
Непрошеный гость появляется с песней
Драгуну-трубачу тем временем удалось пробраться поближе к Энн; он явно получал большое удовольствие от ее общества с первой же минуты ее появления. Энн держалась с ним непринужденно, спрашивала, полагает ли он, что Бонапарт в самом деле пожалует сюда этим летом, и задавала еще множество других вопросов, на которые храбрый драгун не мог дать ответа, но которые тем но менее ему было приятно выслушивать. Уильям Тремлет, начисто лишившийся сна, как только прошел слух, что первый консул может появиться в их краях, навострил уши, едва разговор коснулся этой темы, и спросил, видел ли уже кто-нибудь своими глазами страшные плоскодонные лодки, на которых собирается высадиться неприятель.
– Мой брат Роберт видел их недалеко от берега, когда последний раз пересекал Па-де-Кале, – сказал трубач и еще больше ошеломил собравшихся, добавив, что лодок этих, как предполагают, около полутора тысяч и каждая может принять на борт до сотни солдат. Так что высадку десанта в сто пятьдесят тысяч солдат можно ожидать в любой день, стоит только Бонапартишке привести в исполнение свой план.
– Господи, помилуй нас и спаси! – воскликнул Уильям Тремлет.
– Если они и рискнут, то только ночью, – уверенно заявил старик Тьюлидж, полагавший, как нечто само собой разумеющееся, что его ночные бдения на маяке позволяют ему лучше провидеть надвигающиеся события. – Я так считаю, что для высадки десанта они, понятно, изберут вон то местечко, – продолжал он, равнодушно кивнув в сторону берега, находящегося в пугающей близости от дома, где происходило сборище, причем представители местною ополчения Тремлет и Крипплстроу постарались сделать вид, что это соображение нисколько их не пугает.
– И когда, по-вашему, должно это произойти? – спросил воин-доброволец кузнец Комфорт.
– День указать не могу, – отвечал капрал, – но, уж конечно, они воспользуются приливом и, вместо того чтобы выгребать против течения, попросту дадут ему нести лодки и попадут прямехонько в Бедмутскую бухту. Это будет очень красивая военная операция, если ее ловко провести!
– Красивая! – проворчал Крипплстроу, беспокойно ворочаясь внутри своей одежды. – А что, если мы все будем в это время в постелях, капрал? Когда человек в одной сорочке, от него трудно ждать чудес храбрости, а в особенности от нас, от местных ополченцев, – ведь мы пока освоили только один прием: «ружье на плечо».
– Он не высадится этим летом. Он вообще никогда не высадится, – решительно заявил высоченный старший сержант.
Солдат же Лавде был всецело поглощен Энн и ее мамашей и не принимал участия в этих прогнозах; все его усилия были сейчас направлены на то, чтобы раздобыть для своих дам самое лучшее вино, из того, что имелось в доме, которое, к слову сказать, так незаметно пересекло Ла-Манш и темной ночью было выгружено на скалистом берегу, что Бонапарт со своим войском мог только позавидовать такой удаче. Затем трубач попросил Энн спеть, однако девушка, хотя и обладала очень милым голоском для домашнего, так сказать, употребления, отклонила его просьбу и перевела разговор на другое, не без некоторого замешательства осведомившись о его брате Роберте, который был только что упомянут.
– Роберт жив-здоров. Благодарю вас, мисс Гарленд, – ответил трубач. – Он сейчас плавает подшкипером на бриге «Черная чайка». Хотя по годам ему бы еще рановато на такую должность, да хозяин судна очень ему доверяет. – И, мысленно углубляя портрет описываемого персонажа, трубач добавил: – Боб влюблен.
Энн, казалось, была заинтересована и приготовилась внимательно слушать, но трубач ограничился этим сообщением.
– И сильно он влюблен?
– Не берусь сказать. Но вот что чудно – он никому не говорит, кто эта дама. Никто этого не знает.
– Ну, ведь когда-нибудь он об этом поведает, – подчеркнуто равнодушно заметила Энн, давая понять, что вопросы плотской любви лишены для нее интереса.
Трубач с сомнением покачал головой, и их уединенной беседе был положен конец одним из сержантов, который внезапно затянул песню; ее подхватили другие солдаты, причем каждый по очереди исполнял свой куплет, встав из-за стола, вытянувшись во весь рост и до отказа задрав кверху подбородок, словно задавшись целью натянуть кожу на шее как можно туже, так, чтобы не осталось ни единой складки. Когда с пением было покончено, один из гусар-иноземцев – «очень любезный, воспитанный», по словам мельника Лавде, немец, отрекомендовавший себя венгром, а по сути дела, не имевший принадлежности к какой-либо одной стране, исполнил по просьбе трубача – «чтобы мисс Энн поглядела, какие он откалывает штуки», – несколько довольно необычных телодвижений, названных им национальным танцем. Украшением компании была мисс Гарленд. Солдаты все, как один – и англичане и иноземцы, – были, по-видимому, совершенно очарованы ею, как оно и должно было быть, принимая во внимание, насколько редко доводилось им бывать в обществе такой дамы.
Энн и ее мамаша уже подумывали удалиться на свою половину, когда сержант Станнер из энского пехотного, призывавшийся в армию в Бедмуте, затянул шутливую песенку:
Когда меж двух соседей спор
Уладит миром крючкотвор,
Тогда своих солдат в поход
На Лондон Бони поведет.
Хор подхватил припев:
Рол-ли-кэм ро-рэм, тол-лол-ло-рэм,
Рол-ли-кэм ро-рэм, тол-лол-лей.
Когда не будет плут в чести,
А суд начнет закон блюсти,
Тогда своих солдат в поход
На Лондон Бони поведет.
Хор:
Рол-ли-кэм ро-рэм, тол-лол-ло-рэм,
Рол-ли-кэм ро-рэм, тол-лол-лей.
Когда, проклявши серебро,
Богач раздаст свое добро,
Тогда своих солдат в поход
На Лондон Бони поведет
Хор:
Рол-ли-кэм ро-рэм…[1]
Бедняга Станнер! Не помогли ему его сатирические куплеты. Через несколько лет после столь приятно проведенного лета вблизи морского курорта – резиденции короля Георга – он пал на поле кровавой битвы при Альбуэре, смертельно раненный и растоптанный конем французского гусара, в тот момент, когда бригада под командованием Бересфорда перестраивалась для атаки.
И вот по окончании тринадцатого и, по-видимому, последнего куплета, едва мельник Лавде успел сказать: «Здорово, мистер Станнер!» – а мистер Станнер скромно выразить сожаление по поводу того, что не мог спеть лучше, как за ставнями раздался громовый голос, повторивший снова:
Рол-ли-кэм мο-рэм, тол-лол-ло-рэм,
Рол-ли-кэм ро-рэм, тол-лол-лей.
При столь неожиданном подкреплении извне среди собравшихся на мгновение воцарилась тишина, и только представители военного сословия постарались сделать вид, что их ничем не удивишь. Пока все раздумывали, кто бы это мог быть, на крыльце раздались шаги, дверь распахнулась, и в комнату вошел молодой человек в форме кавалериста территориальной конницы, ростом и сложением напоминавший Геркулеса Фарнезе.
– Это молодой эсквайр Дерримен, племянник старого мистера Дерримена, – зашептались в глубине комнаты.
Не тратя времени на приветствие, а быть может, уже уяснив себе, кого он здесь перед собой видит, молодой гигант взмахнул шляпой над головой и грянул снова, да так, что стекла задребезжали в окнах:
Когда болтать и день и ночь
Вдруг станет женщинам невмочь,
Тогда своих солдат в поход
На Лондон Бони поведет.
Хор подхватил:
Рол-ли-кэм ро-рэм, тол-лол-ло-рэм…
Куплет этот был опущен галантным Станнером из уважительности к дамам.
Новоприбывший был рыжеволос, румян и, по-видимому, твердо убежден в том, что, явившись сюда по собственному почину, доставил собравшимся немалое удовольствие, что, впрочем, не противоречило действительности.
– Без церемоний, друзья мои, – сказал он. – Проходил мимо, и мои уши уловили ваше пение. Я люблю песни – душу согревают и веселят, ими не следует пренебрегать. Пусть кто-нибудь попробует сказать, что я не прав.
– Милости прошу, мистер Дерримен, – сказал мельник, наполняя стакан и протягивая молодцу. – Вы, значит, прямо из казармы? А ведь я вас не узнал спервоначалу – в военной-то форме. Как-то привычней видеть вас с лопатой в руках, сэр. Я бы нипочем вас не признал, если бы не слышал, что вы уже записались.
– С лопатой привычней? Думай, что говоришь, мельник! – сказал гигант, багровея еще пуще. – Я не люблю гневаться, но… но… честь мундира, знаете ли!
В глубине комнаты среди солдат послышались смешки, и доблестный кавалерист только тут заметил, что он не единственный представитель военного сословия в этой компании. Какую-то секунду он пребывал в замешательстве, но тут же обрел обычную уверенность в себе.
– Ничего, ничего, мистер Дерримен, не обижайтесь – я просто пошутил, – сказал добродушный мельник. – Теперь все стали солдатами. Хлебните-ка этого успокоительного и не придавайте значения моим словам.
Молодой человек незамедлительно хлебнул и сказал:
– Да, мельник, меня призвали в армию. И время сейчас беспокойное для нас, солдат. Наша жизнь в наших собственных руках. Чего эти молодцы там, за столом, скалят зубы? Я повторяю: наша жизнь в наших руках!
– Приехали погостить денек-другой на ферме у вашего дядюшки, мистер Дерримен?
– Нет-нет. Я же сказал – мы в шести милях отсюда. Нас расквартировали в Кастербридже. Но я должен проведать старого… старого…
– Старого господина?
– Господина! Старого скрягу. Он питается опилками. Ха-ха! – Ровные белые зубы его сверкнули, как первый снег на кочане красной капусты. – Впрочем, ремесло воина делает нечувствительным к таким мелочам, и я довольствуюсь малым.
– Вы совершенно правы, мистер Дерримен. Еще стаканчик?
– Нет-нет. Я никогда не пью лишнего. И никто не должен. Так что не искушайте меня.
Тут он увидел Энн, и какая-то непонятная сила повлекла его туда, где сидели женщины. По дороге он бросил Джону Лавде:
– А, это ты, Лавде! Я слышал, что ты здесь. Признаться, я пришел тебя проведать. Рад видеть тебя снова в добром здравии под отчим кровом.
Трубач ответил на приветствие вежливо, хотя, быть может, несколько угрюмо: продвижение Дерримена в сторону Энн, по-видимому, пришлось ему не по душе.
– Так это же дочка вдовы Гарленд! Ну конечно, это она! Вы меня помните? Я бывал здесь когда-то, Фестус Дерримен, из территориальной конницы.
Энн слегка присела.
– Я помню только, что вас зовут Фестус…
– Да-да, меня все знают… особенно теперь. – Он доверительно понизил голос. – Я вижу, ваши приятели обескуражены моим появлением: что-то примолкли. Я никак не намерен нарушать ваше веселье, однако часто замечаю, что все приходят в замешательство при моем появлении, особенно когда я в мундире.
– Вот как! Все приходят в замешательство?
– Да. Что-то во мне есть. – Он еще больше понизил голос, словно они с Энн знали друг друга чуть не с пеленок, хотя на самом деле он видел ее не больше двух-трех раз в жизни. – А вы как тут очутились? Мне это совсем не нравится, разрази меня гром! Такая приятная молодая леди – и в такой компании. Вам бы побывать на одной из наших вечеринок в Кастербридже или в Шоттсфорд-Форуме, где собираются йемены. И дамы, дамы бывают тоже! У нас; там все почтенные люди, все из хороших, солидных фамилий, многие даже землевладельцы, и все до единого имеют своих собственных коней, что этим мужланам, конечно, не по карману. – И он кивком указал на драгун.
– Тише, тише! Ведь это же все приятели и соседи мельника Лавде, а он наш большой друг… самый лучший наш друг! – с жаром проговорила Энн, краснея от возмущения при этих несправедливых и обидных для хозяина словах. – Как можно так говорить! Это неблагородно!
– Ха-ха! Вы оскорбились. Это зря, мой прекрасный ангел, моя прекрасная… как это говорится… прекрасная весталка. Хотел бы я видеть вас в своем доме – вот где бы вам был оказан должный прием! Но сейчас честь должна стоять на первом месте, галантность – на втором. О-ля-ля! Прошу прощения, моя прелесть, вы мне нравитесь! Может, я и роняю себя, ведь я как-никак землевладелец, но все равно вы мне нравитесь.
– Сэр, прошу вас, уймитесь, – в полном смущении и расстройстве проговорила Энн.
– Хорошо-хорошо. Ну, капрал Тьюлидж, как ваша голова? – вопросил Дерримен, направляясь в другой конец комнаты и предоставив Энн самой себе.
Компания снова мало-помалу развеселилась, и прошло немало времени, прежде чем сей хвастливый Руфус нашел в себе силы покинуть это приятное общество и доброе вино, хотя последним он уже успел основательно накачаться еще прежде, чем переступил порог. Местные жители знали этому молодчику цену, а солдаты из лагеря, сидевшие за столом, посасывали свои трубки, скрывая усмешку, и не без добродушной иронии подмигивали друг другу, и Джон Лавде не отставал от прочих. Однако и он, и его приятели были слишком хорошо воспитаны, чтобы обращать внимание на пространные излияния этого молодца, и охотно позволяли ему поучать их и давать им разнообразные советы по части жизни воина в походе и на бивуаке. Драгунам, казалось, было совершенно все равно, кто и что на этот счет думает, лишь бы им самим не докучали этими разговорами, и как ни странно, но военное искусство, по-видимому, интересовало их меньше всего. А вот искусство хорошо попировать в доброй компании на оверкомбской мельнице да различные хозяйственные заботы мельника, количество его кур, состояние его пчелиных роев, откорм его свиней – все эти предметы представляли для них куда больший интерес.
Автор этих строк, коему вышеозначенное пиршество было описано несчетное количество раз многими представителями фамилии Лавде и другими почтенными лицами, ныне уже отошедшими в мир иной, не может переступить порога старой гостиной на оверкомбской мельнице без того, чтобы веселая эта сцена не возникла у него перед глазами, слегка затуманенная дымкой семи-восьми десятилетий, минувших с той поры. Прежде всего взор его ослепляют огни дюжины свечей, расставленных повсюду, без всякой оглядки на их стоимость, и заботливо очищаемых от нагара самим хозяином, который каждые пять минут обходит всю комнату с щипцами в руке и отщипывает кончики фитилей с такой старательностью и с таким решительным видом, словно орудует не щипцами для снятия нагара, а ножом гильотины. Далее глаз начинает различать красные и синие мундиры и белые лосины солдат, которых собралось тут десятка два, не считая величественного Дерримена, чья голова, как, впрочем, и головы всех, кто не сидит, а стоит, находится в опасном соседстве с закопченными балками потолка. Никому, ни единому человеку из присутствующих здесь, еще не известно значение слова «Витория», и ни для кого еще слово «Ватерлоо» не звучит предвестником его грядущей смерти или славы. И, наконец, перед автором возникает сдержанная и невинная Энн, нимало не помышляющая о том, что готовит ей судьба в самом недалеком будущем. Вот она с тревожной улыбкой поглядывает искоса на Дерримена, который, звеня портупеей, топчется по комнате; она горячо надеется, что он уже не почтит ее больше своим вниманием, заведя приватный разговор, а он именно это и делает, ибо фигурка в белом муслине неудержимо влечет его к себе. Она же на сей раз вынуждена быть с ним более любезной, дабы он из сентиментального ухажера не превратился снова в грубияна, – превращение, как подсказывает ей наблюдательность, отнюдь не являющееся недостижимым для этого воина.
– Ну ладно, эти пустые забавы не по мне, друзья, – заявил он наконец, к большому облегчению Энн. – Говоря по чести, мне вообще не следовало сюда заходить, но я услышал, как вы развлекаетесь, и решил: надо поглядеть, что тут такое. А мне до ночи предстоит отмахать еще не одну милю. – С этими словами он потянулся, раскинув руки и задрав кверху подбородок, отряхнулся с таким видом, словно хотел не оставить на своей персоне ни одной неподобающей складки или морщинки, небрежно пожелал всем доброй ночи и удалился.
– Жаль, что ты не подразнил его еще малость, отец, – без улыбки заметил трубач. – Еще немного, и он рассвирепел бы как медведь.
– А зачем мне его раздражать – ни к чему это. Он в общем-то пришел к нам по-хорошему, – возрозил добряк мельник, не поднимая глаз.
– Ну да! По-моему, он был не слишком-то дружелюбен, – возразил Джон.
– С соседями нужно жить в ладу, разве уж что терпежу не станет, – добродушно заметил отец, снимая пиджак, чтобы пойти нацедить еще пива; эта необходимость периодически разоблачаться до рубашки объяснялась малыми размерами погреба и постоянной угрозой, что на парадную одежду налипнет паутина.
Кто-то из гостей заметил, что Фес Дерримен не такой уж скверный малый, нужно только уметь с ним обращаться и потрафлять ему; другие заявили, что он, в сущности, никому не причиняет вреда, кроме самого себя, а дамы постарше оживленно упомянули о том, что после дядюшкиной смерти он должен получить немалую толику денег. Только один человек не сказал ничего в его пользу – это был тот, кто знал его лучше других, кто много лет рос с ним вместе, когда он жил в большей близости от Оверкомба, чем ныне. Этим единственным человеком, воздержавшимся от всяких похвал по его адресу, был трубач.