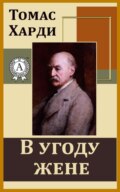Томас Харди (Гарди)
Джуд неудачник
Часть I
Меригрин
«Многие сошли с ума из-за женщин и сделались рабами чрез них. Многие погибли и сбились с пути и согрешили через женщин… О мужи! Как-же не сильны женщины, когда так поступают они?»
2 Ездры, IV, 26. 27. 32.
I
Школьный учитель оставлял село, и все обитатели его казались грустными. Мельник из Крескома дал ему небольшую крытую повозку с лошадью для перевозки пожиток в город к месту его назначения, миль за двадцать отсюда. Эта колесница оказалась совершенно достаточно вместительною для имущества уезжавшего педагога. Дело в том, что часть домашней обстановки учителя была доставлена администраторами и составляла принадлежность школы, а единственный громоздкой предмет, принадлежавший учителю, в дополнение к чемодану с книгами, заключался в деревенском фортепиано, купленном им на одном аукционе в тот год, когда он мечтал об изучении инструментальной музыки. Потом этот пыл прошел, – оказалось, что учителю не суждено отыскать и развить в себе музыкальный дар, и купленный инструмент сделался для него вечным мучением при перекочевках с одного места на другое.
Директор школы отлучился на этот день, так-как не долюбливал никаких перемен, и не намеревался возвратиться до вечера, когда приедет и водворится новый учитель и все опять пойдет как по маслу.
Кузнец, местный староста и сам учитель стояли в недоумевающих позах в гостинной перед инструментом. Учитель заметил, что если он даже и взвалит его на тележку, то все-же не будет знать, что с ним делать по приезде в Кристминстер, город, куда он переезжает, где на первое время ему придется поместиться во временном жилище.
Какой-то мальчик, лет одиннадцати, задумчиво помогавший в укладке вещей, подошел к этим людям, и, когда они почесывали в затылках, он смело проговорил, краснея от звука собственного голоса: «У тетки моей есть большой угольный сарай, куда пожалуй можно-бы поставить фортепиано, пока вы найдете ему у себя настоящее место, сэр».
– Верно сказано, – одобрил кузнец.
Решено было отправить депутацию к тетке мальчика, местной старой деве, спросить ее, поместит-ли она у себя фортепиано, пока м-р Филлотсон пришлет за ним. Кузнец и староста пошли посмотреть, насколько пригодно указанное помещение для рояля, а мальчик и учитель остались вдвоем.
– Жалеешь, что я уезжаю, Джуд? – спросил учитель ласково.
Слезы выступили на глазах мальчика, не смотря на то, что он не был из постоянных дневных учеников, стоявших гораздо ближе к жизни учителя, и посещал вечерние классы только в последнее время. Обыкновенные ученики, сказать правду, в настоящий момент оставались в стороне (подобно известным историческим ученикам), не чувствуя желания оказать какую-либо энергичную добровольную помощь своему учителю.
Мальчик неловко раскрыл книгу, которую держал в руке, подаренную ему при разлуке на память м-м Филлотсоном, и признался, что жалеет его.
– И я тебя тоже, – сказал м-р Филлотсон.
– Зачем вы уезжаете, сэр? – спросил мальчик.
– Ах, это длинная история. Ты не поймешь моих побуждений, Джуд. Поймешь, пожалуй, когда будешь старше.
– Я думал, что вы сейчас объясните, сэр.
– Ну, хорошо, только не болтай об этом никому. Знаешь-ли ты, что такое университет и университетский диплом? Это необходимый ярлык для человека, желающего достигнуть чего-нибудь в деле преподавания. Мой план или мечта – это сделаться кандидатом богословия и затем посвятиться в духовный сан. Отправляясь на житье в Кристминстер или его окрестности, я буду, так сказать, в главной квартире, и если вообще мой план осуществим, то полагаю, что нахождение в этом пункте даст мне больше шансов для его осуществления, нежели где-либо в другом месте.
Между тем кузнец и его спутник возвратились. Сарай старой мисс Фолэ оказался сухим и весьма удобным, и она охотно согласилась дать в нем помещение для рояля. Поэтому он был оставлен в школе до вечера, когда можно найти более свободных рук для его переноски. Уезжавший учитель бросил последний взгляд кругом.
Мальчик Джуд помогал в укладке кое-каких мелких вещей. В девять часов м-р Филлотсон уселся рядом с своим чемоданом и другими пожитками, и распростился с провожавшими друзьями.
– Я не забуду тебя, Джуд, – сказал он, улыбаясь, когда повозка тронулась. – Помни-же, будь хорошим мальчиком, добрым к животным и птицам, и читай все, что можешь. А если когда попадешь в Кристминстер, то не забудь разыскать меня, по старому знакомству.
Повозка заскрипела по лужайке и исчезла за углом дома ректора. Мальчик возвратился к колодцу у края лужайки, где он оставил свои ведра, когда пошел помогать в сборах своему патрону и учителю. Губы его нервно дрожали, и открыв накрышку колодца, чтобы приступить к спусканию бадьи, он задумался, уставившись головой и руками в блок, причем лицо его выражало серьезность впечатлительного ребенка, которому рано пришлось почувствовать первые уколы жизни. Колодезь, в который он смотрел, был так-же стар, как самая деревня, и при теперешном положении Джуда казался глубокой цилиндрической перспективой, кончающейся блестящим диском дрожащей воды на глубине сотни футов. Ближе в верху сруба зеленела полоска моха и еще какой-то поросли. Тут мальчик несколько расчувствовался. Вспомнилось ему, сколько раз, вот таким-же утром, учитель накачивал воду из этого колодца. Больше он уж никогда не будет этого делать. «Я видел однажды, как он смотрел в глубь колодца, утомленный вытягиванием ведра, – вот как и я теперь устал, – и как он отдыхал минутку перед тем, как нести ведра домой! Но он был слишком умен, чтобы жить здесь дольше, в такой сонной жалкой деревушке!»
Слезы скатились с его глаз в глубину колодца. Утро было довольно туманное и дыхание мальчика клубилось еще более густым туманом в тихом и тяжелом воздухе. Неожиданный крик вывел его из раздумья.
– Неси что-ли воду-то, лентяй!
Этим восклицанием разразилась какая-то старушка, высунувшаяся из двери близлежащего, крытого тростником, коттеджа. Мальчик живо кивнул головой в ответ, вытянул бадью с большим усилием, так-как был хилого сложения, наполнил пару своих более легких ведер, и, остановившись, чтобы перевести дух, пошел с ними по вязкой лужайке почти в самую середину небольшего селения или, скорее, деревушки.
Деревушка была стародавняя и маленькая и лепилась на взгорье, примыкающем к дюнам северного Вессекса. Впрочем, как ни была она стара, блочный колодезь был вероятно единственной сохранившейся в прежнем виде реликвией местной истории. Много жилых домов с тростниковыми крышами и слуховыми окнами были снесены в последние годы и много деревьев порублено на лужайке. Но прискорбнее всего, что оригинальная церковь, с горбатой крышей, с красивыми архитектурными изломами и деревянными башенками, была так-же разрушена, и кирпич её или разбит на кучи щебня для трамбовки улицы, или пошел на стены свиных закут, садовые скамейки, устройство оград и на бордюры цветочных рабаток у соседей. Взамен этой церкви появилось высокое новое здание германо-готической архитектуры, чуждой английскому вкусу, воздвигнутое на новом месте каким-то разрушителем исторической старины, примчавшимся из Лондона и в тот-же день уехавшим обратно. Место, где так долго стоял старинный храм в честь христианских святых, не был даже чем-нибудь отмечен на зеленой и ровной лужайке, с незапамятных времен бывшей церковным двором, и только обвалившиеся могилы были увековечены грошовыми чугунными крестами, разрешенными в последние пять лет.
II
Как ни тщедушен был на вид Джуд Фолэ, он нес домой два полные ведра не отдыхая. Над дверью коттеджа имелась прямоугольная синяя дощечка, на которой желтыми буквами было написано: «Булочница Друсилля Фолэ». За маленьким оконцем с мелким переплетом, единственным остатком уцелевшей старины, виднелись пять бутылок с сиропом да три лепешки в плетеной корзинке.
Сливая ведра у заднего крыльца домика, Джуд мог слышать оживленный разговор, происходивший в комнате между его теткой, означенной на дощечке Друсиллой, и зашедшими к ней соседками. Они видели, как уезжал учитель, и теперь обсуждали подробности этого события и пускались в предсказания относительно его дальнейшей судьбы.
– А это кто? – спросила одна из собеседниц, по-видимому не здешняя, когда вошел мальчик.
– Э, охота вам спрашивать, мистрис Вильямс. Это мой племянник, пришедший ко мне уже после того, как вы у меня были здесь в прошлый раз.
Отвечавшая на вопросы обитательница этого жилища была худощавая старушка, говорившая высоким слогом о самых обыкновенных вещах и обращавшаяся поочередно к каждой из собеседниц.
– Он пришел с год тому назад из Мельстока, в южном Вессексе, – плохое место для мальчишки, Билинда! (Она повернулась вправо). Отец его который там жил, был сражен ударом и умер в два дня, как вы знаете, Каролина (Она обратилась влево). Было бы истинное счастье, еслиб Господь милосердый прибрал и тебя за твоими родителями, несчастный бесполезный мальчишка! Но я взяла его к себе, чтобы присмотреться, на что он годен, и должна была предоставить ему какой-нибудь, хоть пустяшный, заработок. Вот теперь он пугает птиц на огороде фермера Траутхэма. Это спасает мальчишку от праздности. Чего ты отворачиваешься. Джуд? – продолжала она, обращаясь к племяннику, заметив, что тот, в смущении от ехидных взглядов посетительниц, отошел в сторону.
Одна из собеседниц, местная прачка, заметила, что вполне одобряет решение мисс или мистрис Фолэ (как они безразлично называли ее) держать его при себе: – Чего же ему лучше, как жить в вашем уединенном обществе, носить воду, закрывать ставни вечером, да мало-мальски помогать в булочном деле.
Мисс Фолэ сомневалась в этом.
– Почему ты не просил учителя взять тебя с собою в Кристминстер и поместить в школу? – продолжала она с шутливой серьезностью. – Я уверена, что он ничего лучшего не мог-бы сделать. Мальчик помешан на книгах, – вот он у меня какой! В этом он в наш род пошел. Его двоюродная сестра Сусанна тоже такая, как я слышала. Но я столько лет ужь не видала девочку, хотя она родилась в этом самом домике, – в этих четырех стенах. Вот как дело было. Моя племянница и муж её после свадьбы долго не имели своего дома, а как только обзавелись домиком… нет, уж об этом лучше не распространяться. Смотри, Джуд, никогда не женись, мой голубчик. Не для Фолэ писана такая судьба. Эта племянница, единственная из всех, была мне как родная дочь, Билинда, пока над ней не разразилась беда. Ах, кабы бедняжка знала что будет!
Джуд, видя, что общее внимание опять сосредоточилось на нем, вышел из пекарни, где съел сладкий пирог, приготовленный ему на завтрак. Теперь настал конец его отдыха и он, выйдя из сада через плетень, пошел тропинкой в северном направлении, пока не спустился в обширную и уединенную низину с засеянным полем. Это обширное поле было поприщем его трудов на пользу фермера, м-ра Траутхэма, и мальчик остановился в центре поля.
Серая поверхность посева тянулась кругом в горизонту, где постепенно терялась в тумане, скрывавшем его действительные размеры и обособлявшем от всего окружающего. Единственными приметами на этой однообразной площади были сложенный в прошлогоднюю уборку скирд, стоявший среди пашни, грачи, поднявшиеся с приходом Джуда и тропинка, по которой он спустился в низину. Бог весть кому теперь была нужна эта тропинка, хотя когда-то по ней ходили многие из его умерших родных.
– Как здесь нехорошо! невольно вырвалось у него.
Свежия борозды тянулись подобно дорожкам рубчатого бархата в бесконечную даль, скрадывая перспективу поля и стирая с него мимолетное прошлое последних лет. А между тем в каждом комочке земли, в каждом камне хранилось много воспоминаний и отголосков песен минувших дней жатвы, веселых речей и тяжелых работ. Каждый вершок земли был ареной, где временами разыгрывались энергия, веселье, игры, споры, в перемежку с утомительной работой. Группы собирательниц колосьев кишели на солнце по всему полю. Любовные союзы, давшие население соседней деревушке, заключались здесь между порою созревания и уборки хлеба. Под изгородью, отделявшей поле от далекой плантации, девушки отдавались своим обожателям, которые не захотят и оглянуться на них в следующую жатву. На этом же старом поле не один парень делал предложение девушке, при голосе которой он дрожал в следующий посев, уже закрепив с нею свой союз в соседней церкви. Но ни Джуд, ни окружавшие его грачи, не обращали внимания на эту поэзию, ибо для них это было просто уединенное место. Мальчика оно интересовало как поле его трудовой деятельности, а птиц, как источник зернового корма, который надо клевать.
Мальчик стоял подле скирда, то и дело погромыхивая своей трещеткой. Каждый раз при этом грачи подымались с пашни, но вскоре опять спускались и, недоверчиво поглядывая на мальчика, принимались клевать на более почтительном расстоянии.
Джуд кружил трещетку до того, что рука его онемела. Наконец его сердце смягчилось и уступило упрямству голодных птиц. Грачи, подобно ему самому, жили в свете, который не нуждался в них. Зачем будет он отгонять их от корма? Мальчик все больше и больше видел в них своих друзей и воспитанников, – единственных друзей, на которых он мог положиться, так как грачи были хоть сколько-нибудь заинтересованы в нем, между тем как тетка часто говорила ему, что ей до него нет дела. Он перестал трещать, и птицы снова уселись клевать.
– Бедные, милые птицы! – проговорил вслух Джуд. – Должны же вы иметь себе какую-нибудь пищу. Добра тут довольно – на всех хватит, и вам, и хозяину. Фермер Траутхэм в состоянии прокормить вас. Кушайте же, мои милые грачики, наклюйтесь себе на славу!
Грачи уселись и принялись за свое дело, а Джуд любовался их завидным аппетитом. Сознание общей беззащитной доли невольно пробуждало в одиноком мальчике сострадание к этим гонимым птицам.
С этими мыслями он сел на корточки, отбросив в сторону трещетку, как орудие коварное, равно обидное и для птиц, и для него самого, их покровителя. Вдруг он почувствовал сильный удар по спине, сопровождавшийся знакомым звуком, напомнившим его испуганному воображению противную трещетку. Птицы и Джуд всполошились одновременно, и изумленным глазам мальчика представилась важная фигура самого Траутхэма. Красное лицо его злобно уставилось на жертву, скорчившуюся от страха и боли, а рука размахивала подхваченной трещеткой.
– Так ты вот как, дрянной мальчишка! Кушайте – говорит, милые птички, а? Ешь какой добряк нашелся – кушайте! Я вот спущу тебе штаны да и посмотрю, как ты тогда у меня запоешь! – Кушайте, милые птички! Да еще ты смел болтаться у учителя, вместо того, чтоб явиться сюда к своему делу, а? Это так-то ты зарабатываешь свои шесть пенсов в день за пугание грачей с моего поля!
В то время как в ушах Джуда раздавалась эта крикливая ругань, Траутхэм схватил его за руку и гоняя кругом себя, снова стал бить по спине его же трещеткой, так что эхо отдавалось в поле от ударов, сыпавшихся на беднягу при каждом обороте.
– Ой, ой, ой, не бейте, сэр, ради Бога, не бейте! – вопил кружившийся мальчик, перед глазами которого поочередно мелькали холм, скирд, плантация, тропинка, грачи. – Я… сэр… я ведь думал, что ничего… что тут много, и грачи могли маленько поклевать – и вам не будет убытка, сэр – да и м-р Филлотсон учил, чтобы я был жалостлив к животным… Ой, ой, ой!
Это простодушнее объяснение только пуще взбесило фермера, и он продолжал истязание с удвоенным ожесточением.
Наконец, Траутхэн утомился, бросил дрожащего мальчика, вынул из кармана шестипенсовую монету в уплату за его дневную работу, приказав ему убираться домой и никогда не попадаться ему на глаза на этом поле.
Джуд отшатнулся и пошел по дороге, заливаясь слезами, – не столько от боли, хотя и она давала себя чувствовать, сколько от горького сознания, что он окончательно осрамил себя, не прожив и года в этом приходе и что теперь он на всю жизнь должен быть бременем для своей престарелой тетки.
С такими мрачными думами Джуду не хотелось показываться на деревне, и он пошел домой по обходной тропинке через пастбище. Здесь, на сырой поверхности земли, он увидал, как это всегда бывает после дождя, множество свернувшихся земляных червей. Трудно было пройти, чтобы не подавить их.
Но не смотря на только что испытанную обиду, Джуд не в состоянии был причинить зла никакой живой твари. Он не мог принести домой гнезда с молодыми птенчиками без того, чтобы не мучиться за них потом всю ночь, и кончал тем, что утром относил их вместе с гнездом на прежнее место. В детстве он не любил смотреть, как рубят или подчищают деревья, воображая, что это причиняет им боль, – особенно весною, когда сок уже пошел вверх и потом обильно стекает в подрезанном месте. Такая слабость характера, – как пожалуй можно назвать эту черту, – указывала, что Джуд был из категории неудачников, которым суждено много пострадать прежде, чем падение занавеса на их ненужную жизнь навсегда успокоить их от всех невзгод и треволнений… И мальчик старательно пробирался на цыпочках между червями, так чтобы не давить их.
Когда он вернулся домой, тетка отпускала копеечную булку маленькой девочке.
– Что это значит, что ты изволил вернуться среди дня?
– Меня прогнали.
– Что-о?
– М-р Траутхэм уволил меня за то, что я позволил грачам поклевать немного на его поле. Вот и заработок – последний в моей жизни!
И мальчик с сердцем бросил на стол шестипенсовую монету.
– Хорош! – воскликнула тетка, едва сдерживая свой гнев, и принялась отчитывать его. Ведь ей придется теперь всю весну держать его у себя на шее, без всякого дела. – Уж если ты не можешь пугать с поля птиц, так что-же ты можешь-то? спасибо, нечего сказать! Да не смотри таким волком… Так вот каков этот м-р Траутхэм, – ну, не ожидала. Впрочем, как справедливо говорил Иов многострадальный: «А ныне смеются надо мною младшие меня летами, те, которых отцов я не согласился-бы поместить со псами стад моих». – Как никак, а его отец был в поденщиках у моего отца, и дура я, что позволила тебе наняться к этому нахалу, который годился бы только разве для того, чтобы вытащить тебя из грязи.
Вообще тетка сердилась на Джуда больше за то, что он оскорбил ее службою у такого презренного человека, нежели за неисправное исполнение своей обязанности.
– Но это и я скажу: не следовало тебе позволять птицам клевать посев фермера Траутхэма. В этом ты, конечно, был не прав. Эх, Джуд, Джуд, – продолжала она, – почему ты не поехал с этим твоим учителем в Кристминстер или еще куда-нибудь? Нет, уж видно таким олухам нет счастья… Из твоей семьи никогда не выходило путного человека, и никогда не будет!
– А где этот чудный город, тетушка, куда отправился м-р Филлотсон? – спросил мальчик после некоторого раздумья.
– Ах, Боже мой, да тебе пора ужь знать, где Кристминстер. Всего миль двадцать отсюда. Этот город слишком хорош для тебя и тебе там совершенно нечего делать, – вот что я думаю, мой бедный мальчик.
– А м-р Филлотсон всегда там будет?
– А я почем знаю!
– Могу-ли я сходить повидать его?
– Ах, Джуд, если бы ты был поумнее, ты не делал бы подобных вопросов. Ни нам не приходилось иметь никакого дела с жителями Кристминстера, ни жителям Кристминстера с нами.
Джуд вышел и, чувствуя более чем когда-нибудь свое одинокое, никому ненужное существование, прилег на подстилку у свиного хлева. Туман тем временем несколько рассеялся и сквозь него тускло просвечивало солнце. Он натянул на лицо соломенную шляпу и в тяжелом раздумье смотрел чрез её просветы в туманную даль. Он понимал, что возраст налагает известную ответственность.
Но факты не согласовались с его представлениями. Естественная логика вещей казалась ему слишком несимпатичной, чтобы принимать ее во внимание. То обстоятельство, что сострадание к живым существам одного вида оказывалось жестокостью относительно другого, оскорбляло его чувство нравственной гармонии. Когда человек приходит в возраст и чувствует себя в центре природы, а не на какой, либо точке её окружности, как он чувствовал это ребенком, им овладевает какой-то безотчетный ужас, думалось Джуду. Все кругом казалось ему чем-то ослепительно ярким, веселым, шумным, и весь этот шум и яркий блеск обрушивался на его маленькую ячейку, называемою жизнию, потрясал и опалял ее.
Ах, еслиб он только мог остановить свои годы! Он не желал быть взрослым.
И вот, как дитя природы, мальчик скоро забыл свое отчаяние и вскочил на ноги.
После обеда, он прошел на деревню. Здесь он спросил у одного обывателя, где город Кристминстер.
– Кристминстер? А это должно вон в той стороне, хоть я там никогда не бывал. В этом городе у меня никогда не было никакого дела.
Прохожий указал на северо-восток, в направлении, где находилось то самое поле, на котором так осрамился Джуд. Хотя такое совпадение было не особенно приятно, но оно только усилило его желание попасть в этот город. Что за важность, что фермер запретил ему показываться на этом поле; – полевая тропинка была для всех. И вот, выбравшись незаметно из деревни, Джуд спустился в ту самую ложбину, которая была в это утро свидетельницей его позора и, не сворачивая с злополучной тропинки, долго карабкался утомительным подъемом по другую сторону низины. Наконец он выбрался на большую дорогу у маленькой группы деревьев. Здесь пашня кончилась, и перед ним развернулась незнакомая ему обширная равнина.
III
Ни души не было видно на большой дороге, ни по сторонам её, и в перспективе казалось, будто белая дорога все подымается и, постепенно суживаясь, тонкою лентой уходит в небо. На самом подъеме она пересекалась оригинальною старою римскою дорогою, проходившей чрез этот округ. Древний путь шел далеко, разветвляясь к востоку и западу, и в прежнее время служил для прогона стад и табунов на ярмарки и базары. Но теперь дорога была брошена и заросла травою.
В эту сторону Джуд никогда не заходил так далеко от своей укромной деревушки, куда он был приведен носильщиком со станции железной дороги, одним темным вечером, несколько месяцев тому назад. До настоящего времени он и не подозревал, что такая обширная равнина находилась так близко под рукою, у самой границы его нагорной страны. Пред ним расстилалась вся северная часть горизонта, на расстоянии сорока или пятидесяти миль; воздух был заметно более синим и влажным сравнительно с тем, которым он дышал дома.
Недалеко от дороги стояла разрушенная непогодой старая рига из побуревшего кирпича, крытая черепицей. В этом околодке она была известна под именем браун-хауза. Джуд уже хотел миновать ее, как заметил, что к крыше приставлена лестница. Он решил воспользоваться его, чтобы вглядеться в даль, для чего свернул с дороги и пошел к риге. На гребне крыши два работника сменяли черепицы.
Поглазев сначала на работу, мальчик собрался с духом и поднялся по лестнице к кровельщикам.
– Тебе что здесь нужно, приятель? – спросил незнакомца один из рабочих.
– Мне желательно-бы узнать, далеко-ли город Кристминстер. Коли знаете, скажите, пожалуйста.
– Кристминстер вон там, за той рощей. В ясный день его даже видно отсюда. А сейчас, пожалуй, трудно разглядеть.
Другой кровельщик, радуясь всякому отвлечению от скучной работы, тоже обернулся посмотреть в указанном направлении.
– Не всегда удается видеть город в такую погоду, как нынче, – сказал он. – Для этого самое удобное то время, когда солнце закатывается ярким заревом. Тогда город представляется – уж я и не знаю чем…
– Небесным Иерусалимом, – подсказал молчаливый парень.
– Да, хотя, признаться, я этого еще не замечал… Только нынче я что-то не вижу никакого Кристминстера.
Джуд тоже, сколько ни таращил глаза, не мог разглядеть далекого города. Он спустился с крыши и с легкомыслием ребенка, позабыв о Кристминстере, пошел бродить дальше, высматривая, не попадется-ли чего интересного вблизи. Проходя мимо риги на обратном пути в Меригрин, Джуд заметил, что лестница стояла по-прежнему, но люди окончили свою работу и ушли.
День склонялся к вечеру; все еще стоял легкий туман, но он несколько прояснился, за исключением более влажных мест и по течению реки. Мальчик вспомнил опять о Кристминстере, и раз он отошел так далеко от дома тетки в этом направлении, – ему захотелось теперь же увидать замечательный город, о котором он столько наслушался. Но еслиб он и решился подождать здесь, трудно было рассчитывать, что туман рассеется до наступления ночи. Однако он не хотел расставаться с этим местом, поднялся по лестнице, желая еще раз посмотреть в указанную ему сторону, и уселся на самом гребне крыши. Помолившись про себя, чтобы поскорее разошелся туман, застилавший Кристминстер, он стал ждать. И вот мало-помалу редевший туман разошелся совсем, пред заходом солнца облака унеслись и догоравшие солнечные лучи опять выглянули между двумя грядами серых облаков. Джуд тотчас-же стал всматриваться в указанном направлении.
В некотором отдаления, на открывшейся площади, заблестели как топазы какие-то светлые точки. Вскоре ясность воздуха позволила угадать в этих точках очертания флюгеров, окон, мокрых черепичных кровель и шпицев на церквах и других высоких зданиях. Это несомненно был Кристминстер, или в его настоящем виде, или отраженный в виде марева в своеобразном прозрачном воздухе.
Джуд не отрываясь продолжал смотреть на заманчивую панораму незнакомого города, пока окна и шпицы не перестали отливаться и блестеть на солнце. Они потускнели внезапно, словно потухшая свечка. Таинственный город снова закутался в туман. Обернувшись на запад, Джуд увидал, что солнце скрылось. Передняя часть ландшафта погрузилась в густой мрак и ближайшие предметы принимали форму каких-то привидений.
Мальчику стало жутко и он, сойдя с лестницы, пустился домой бегом, стараясь не думать ни о каких ведьмах, великанах и прочих ночных чудищах. Хотя Джуд и вырос из веры в такие ужасы, но все-же был рад несказанно, когда увидал церковную колокольню и огни в окнах теткиного домика.
В этом домике с его «булочной» форточкой в окне, с переливающимися разными цветами старыми стеклами, Джуд нашел себе приют на долгие безрадостные годы. Но грезы его были столь-же беспредельны, как тесна и мизерна была его обстановка.
За массивным барьером мелового нагорья, простиравшагося к северу, его воображению постоянно представлялся пышный город, уподобленный им новому Иерусалиму. Быть может, этот идеал далеко не соответствовал действительности. Но как-бы то ни было, сам город приобрел известную реальность, устойчивость, оказывал влияние на жизнь пылкого мальчика, и главным образом в силу того микроскопического обстоятельства, что человек, пред знаниями и целями которого Джуд преклонялся, действительно жил в этом городе, и не только жил сам по себе, но среди наиболее ученых и развитых людей.
Джуд, конечно, понимал, что в дождливое время года и в недалеком Кристминстере тоже идет дождь, но с трудом мог себе представить, что там такая-же унылая дождливая погода, как и в их деревне. Как только ему удавалось урваться из дома на часок-другой, что бывало не часто, он пробирался к браун-хаузу на горке и пристально вглядывался в даль. Иногда любопытство его вознаграждалось видом отдаленного собора или высокого шпица, или он различал курящийся дымок, представлявшийся ему при его мистическом настроении восходящим к небу фимиамом.
Раз как-то ему вздумалось попасть к месту наблюдения после сумерок и пройти мили на две подальше, в надежде увидать вечерние огни города. Положим, тогда придется возвращаться ночью и одному, но даже это соображение его не останавливало, а только возбуждало опасную решимость.
Сказано – сделано. Было еще не поздно, – сумерки только-что наступили, когда Джуд пришел к излюбленному месту, – но хмурое облачное небо при резком северном ветре делало ландшафт грустным и мрачным. Джуд был доволен, хотя уличных огней еще не было видно; над городом еще разливалось потухающее зарево заката, причем самый город представлялся в расстоянии около двух миль.
Всматриваясь в перспективу города, Джуд дал волю своей фантазии и размечтался о его улицах, домах, жителях, о счастливом учителе. Вдруг пахнул ветерок и с его дуновением что-то донеслось до слуха Джуда, точно желанная весточка из города… Вероятно это был звон колоколов, нежный и музыкальный, как-бы говоривший ему: «Как хорошо у нас, как все счастливы здесь!»
Джуд был выведен из своего сладкого забытья самым прозаическим обстоятельством. Невдалеке от него тихо спускался с отлогой горы воз с углем. Такой груз в нагорную страну только и можно было провезти этой дорогой. Воз сопровождали фурман с подручным, тормозившим теперь задния колеса, чтобы дать утомленным лошадям продолжительный отдых. Фурман достал с воза фляжку и стал пить сам и угощать товарища.
Оба восчика были уже немолодые люди, с мужественными голосами. Джуд обратился к ним с вопросом, не едут-ли они из Кристминстера.
– Боже упаси, с таким-то грузом! – воскликнули восчики.
– Город должно быть вон там.
Джуд идеализировал Кристминстер с нежностью молодого любовника и из застенчивости не решился вновь повторить название города. Он указал им на полоску догорающей зари, едва заметную для немолодых глаз.
– Да, пожалуй. Там в северо-восточной стороне как-будто что-то светлеется, хотя я сам и не разгляжу хорошенько; надо думать это и есть Кристминстер.
В эту минуту маленькая книжка, бывшая у Джуда под мышкой, выскользнула и упала на дорогу. Фурман многозначительно смотрел на мальчика, когда тот, подняв книжку, расправлял её растрепанные листы.
– Эх, малыш, – внушительно заметил он, – да у тебя голова треснет за чтением таких книжек, прежде чем ты сумеешь понимать то, что читают ученые люди в том городе.
– А что? – спросил мальчик.
– Да то, что они и глядеть-то не станут на наши глупые книжки, – продолжал философствовать фурман, чтобы убить время. – Они только и читают на тех языках, что были в ходу до потопа, когда не было двух семей говоривших на одном языке. Они завывают на этих языках не хуже иного филина, и все там наука, одна наука, за исключением религии. Положим, это тоже наука, потому что я никогда не мог уразуметь её. Да, это очень глубокомысленный городок…
– Но откуда вы все это знаете?
– А ты не перебивай, мальчик. Никогда не перебивай старших. Сверни-ка переднюю лошадь в сторону, Боб, а то вон кто-то едет. Ты послушай, что я скажу тебе о жизни в ихних колледжах. Учителя держат себя там очень гордо, это ужь нечего сказать; хотя я об них не больно высокого мнения. Вот как мы стоим здесь на видимой высоте, так и они возвышаются умственно; все люди благородного характера, иные из них умеют зарабатывать сотни размышлением вслух или проповедью. Что-же касается до музыки, то в Кристминстере дивная музыка на каждом шагу. В городе есть одна улица – главная называется – так другой подобной в свете нет. Да, могу сказать, что кое-что знаю о Кристминстере.