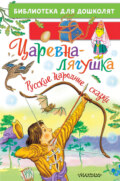Алексей Толстой
Хождение по мукам. Книга 2. Восемнадцатый год
4
Алексей Красильников спрыгнул с подножки вагона, взял брата, как ребенка, на руки, поставил на перрон. Матрена стояла у вокзальной двери, у колокола. Семен не сразу узнал ее: она была в городском пальто, черные блестящие волосы ее покрывал завязанный очипком, по новой советской моде, белый опрятный платок. Молодое, круглое, красивое лицо ее было испуганно, губы плотно сжаты.
Когда Семен, поддерживаемый братом, подошел, еле передвигая ноги, карие глаза Матрены замигали, лицо задрожало…
– Батюшка мой, – сказала она тихо, – дурной какой стал.
Семен с болью вздохнул, положил руку на плечо жене, коснулся губами ее чистой прохладной щеки. Алексей взял у нее кнут. Постояли молча. Алексей сказал:
– Вот тебе и муж предоставлен. Убивали, да не убили. Ничего, – косить вместе будем. Ну, поедемте, дорогие родственники.
Матрена нежно и сильно обняла Семена за спину, довела до телеги, где поверх домотканого коврика лежали вышитые подушки. Усадила, села рядом, вытянув ноги в новых, городского фасона, башмаках. Алексей, поправляя шлею, сказал весело:
– В феврале один кавалер от эшелона отбился. Я его двое суток самогоном накачивал. Ну, и пятьсот целковых дал еще керенками, вот тебе и конь. – Он ласково похлопал сильного рыжего мерина по заду. Вскочил на передок телеги, поправил барашковую шапку, тронул вожжами. Выехали на полевую дорогу в едва зазеленевшие поля, над которыми в солнечном свете, трепеща крыльями, жарко пел жаворонок. На небритое, землистое лицо Семена взошла улыбка, Матрена, прижимая его к себе, взором спросила, и он ответил:
– Да, вы тут пользуетесь…
Приятно было Семену войти в просторную, чисто выбеленную хату. И зеленые ставни на маленьких окошках, и новое тесовое крыльцо, и вот, – шагнул через знакомую низкую дверь, – теплая, чисто вымазанная мелом печь, крепкий стол, покрытый вышитой скатертью, на полке – какая-то совсем не деревенская посуда из никеля и фарфора, налево – спальня Матрены с металлической широкой кроватью, покрытой кружевным одеялом, с грудой взбитых подушек, направо – комната Алексея (где прежде жил покойный отец), на стене – уздечка, седло, наборная сбруя, шашка, винтовка, фотография, и во всех трех комнатах – заботливо расставленные цветы в горшках, фикусы и кактусы, – весь этот достаток и чистота удивили Семена. Полтора года он не был дома, и – гляди – фикусы, и кровать, как у принцессы, и городское платье на Матрене.
– Помещиками живете, – сказал он, садясь на лавку и с трудом разматывая шарф. Матрена положила городское пальто в сундук, подвязала передник, перебросила скатерть изнанкой кверху и живо накрыла на стол. Сунула в печь ухват и, присев под тяжестью, так что голые до локтей руки ее порозовели, вытащила на шесток чугун с борщом. На столе уже стояли и сало, и копченая гусятина, и вяленая рыба. Матрена сверкнула глазами на Алексея, он мигнул, она принесла глиняный жбанчик с самогоном.
Когда братья сели за стол, Алексей поднес брату первому стаканчик. Матрена поклонилась. И когда Семен выпил огненного первача, едва отдулся, – оба – и Матрена и Алексей – вытерли глаза. Значит, сильно были рады, что Семен жив и сидит за столом с ними.
– Живем, браток, не то чтобы в диковинку, а – ничего, хозяйственно, – сказал Алексей, когда кончили хлебать борщ. Матрена убрала тарелки с костями и села близко к мужу. – Помнишь, на княжеской даче клин около рощи, землица – золотое дно? Много я пошумел в обществе, шесть ведер самогону загнал хрестьянам, – отрезали. Нынче мы с Матреной его распахали. Да летось неплохой был урожай на полосе около речки. Все, что видишь: кровать, зеркало, кофейники, ложки-плошки, разные тряпки-барахло, – все этой зимой добыли. Матрена твоя очень люта до хозяйства. Ни один базарный день не пропускает. Я еще по старинке – на денежки продаю, а она – нет: сейчас кабана, куренков заколет, муки там, картошки – на воз, подоткнет подол и – в город… И на базар не выезжает, а прямо идет к разным бывшим господам на квартиру, глазами шарит: «За эту, говорит, кровать – два пуда муки да шесть фунтов сала… За эту, говорит, покрывалу – картошки…» Прямо смех, как с базара едем, – чистые цыгане – на возу хурда-бурда.
Матрена, пожимая мужнину руку, говорила:
– Двоюродную мою сестру, Авдотью, помнишь? Старше меня на годочек, – за Алексея ее сватаем.
Алексей смеялся, шаря в кармане:
– Бабы эти прежде меня решили… А и верно, браток, надоело вдовствовать. Напьешься и – к сводне, такая грязь, потом не отплюешься…
Он вынул кисет и обугленную трубочку с висящими на ней медными побрякушками, набил доморощенным табаком, и заклубился дым по хате. У Семена от речей и от самогона кругом пошла голова. Сидел, слушал, дивился.
В сумерки Матрена повела его в баньку, заботливо вымыла, попарила, хлестала веником, закутала в тулупчик, и опять сидели за столом, ужинали, прикончили глиняный жбанчик до последней капли, Семен хотя еще был слаб, но лег спать с женой и заснул, обвитый за шею ее горячей рукою. А наутро – открыл глаза – в хате было прибрано, тепло. Матрена, посверкивая глазами, белозубой улыбкой, месила тесто. Алексей скоро должен был приехать с поля завтракать. Весенний свет лился в чистые окошечки, блестели листы фикусов. Семен сел на кровати, расправился: как будто вдвое прибыло здоровья за вчерашний день, за эту ночь, проспанную с Матреной. Оделся, помылся, спросил – где у брата бритва? – в его комнате у окошка перед осколком зеркала побрился. Вышел на улицу, стал у ворот и поклонился сидевшему у соседей в палисаднике древнему старику, помнившему четырех императоров. Старик снял шапку, важно нагнул голову – и опять сидел, ровно поставив мертвые ноги в валенках, ровно сложив жиловатые руки на клюке.
Знакомая улица в этот час была пуста. Между хатами виднелись далеко уходящие полосы зеленей. На курганах, на горизонте, кое-где стояли распряженные телеги. Семен поглядел налево, – над меловым обрывом лениво вертели крыльями две мельницы. Пониже, на склоне, среди садов и соломенных крыш, белела колокольня. За еще прозрачной рощей горели от солнца окна бывшего княжеского дома. Кричали грачи над гнездами. И роща, и красивый фасад дома отражались в заливном озере. Там у воды лежали коровы, бегали дети.
Семен стоял и поглядывал исподлобья, засунув руки в просторные карманы братниной свитки. Глядел, и находила печаль ему на сердце, и понемногу сквозь прозрачные волны жара, струящиеся над селом, над лиловыми садами и вспаханной землей, видел он уже не этот мир и тишину. Подъехал Алексей на телеге, еще издали весело окликнул. Отворяя ворота, внимательно взглянул на Семена. Распряг мерина и стал мыть руки на дворе под висячим рукомойником.
– Ничего, браток, обтерпишься, – сказал он ласково. – Я тоже, с германского фронта вернулся, ну не глядел бы ни на что: кровь в глазах, тоска… Ах, будь она, эта война, проклята… Идем завтракать.
Семен промолчал. Но и Матрена заметила, что муж невесел. После завтрака Алексей опять уехал в поле. Матрена, босая, подоткнувшись, ушла возить навоз на второй лошади. Семен лег на братнину постель. Ворочался, не мог уснуть. Печаль томила сердце. Стиснув зубы, думал: «Не поймут, и говорить нечего с ними». Но вечером, когда вышли втроем посидеть у ворот, на бревнышке, Семен не выдержал, сказал:
– Ты, Алексей, винтовку бы все-таки вычистил.
– А ну ее к шуту… Воевать, браток, теперь сто лет не будем.
– Рано обрадовались. Рано фикусы завели.
– А ты не серчай раньше-то времени. – Алексей раскурил трубочку, сплюнул между ног. – Давай говорить по-мужицки, мы не на митинге. Я ведь это все знаю, что на митингах говорят, – сам кричал. Только ты, Семен, умей слушать, что тебе нужно, а чего тебе не нужно – это пропускай. Скажем, – землю трудящимся. Это совершенно верно. Теперь, скажем, – комитеты бедноты. У нас в селе мы этих комитетчиков взнуздали. А вон в Сосновке комитет бедноты что хочет, то и делает, такие реквизиции, такое безобразие, – хоть беги. Именье графа Бобринского все ушло под совхоз, мужикам земли ни вершка не нарезали. А кто в комитете? Двое местных бобылей безлошадные, остальные – шут их знает кто, пришлые, какие-то каторжники… Понял али нет?
– Эх, да не про то я… – Семен отвернулся.
– Вот то-то, что не про то, а я про то самое. В семнадцатом году и я на фронте кричал про буржуазию-то. А хлопнуло, – дай бог ему здоровья, кто меня хлопнул тогда пулей в ногу, – сразу эвакуировался домой. Вижу, – сколько ни наешь, на другой день опять есть хочется. Трудись…
Семен постучал ногтями по бревну.
– Земля под вами горит, а вы спать легли.
– Может быть, у вас во флоте, – сказал Алексей твердо, – или в городах революция и не кончилась. А у нас она кончилась, как только землю поделили. Теперь вот что будет: уберемся мы с посевом и примемся мы за комитетчиков. К Петрову дню ни одного комитета бедноты не оставим. Живыми в землю закопаем. Коммунистов мы не боимся. Мы ни дьявола не боимся, это ты запомни…
– Будет тебе, Алексей Иванович, гляди – он весь дрожит, – проговорила Матрена тихо. – Разве можно с больного спрашивать?
– Не больной я… Чужой я здесь! – крикнул Семен, встал и отошел к плетню.
На том разговор и кончился.
В полосе уже погасшей зари летали две мыши, два чертика. Кое-где горел свет в окошках, – кончали ужинать. Издалека доносилась песня – девичьи голоса. Вот песня оборвалась, и по широкой погруженной в сумрак улице понесся дробный стук копыт. Скакавший приостановился, что-то крикнул, опять пустил коня. Алексей вынул изо рта трубку, прислушиваясь. Поднялся с бревен.
– Несчастье, что ли? – сказала Матрена дрогнувшим голосом.
Наконец показался верхоконный, – парень без шапки скакал, болтая босыми ногами…
– Немцы идут! – крикнул он. – В Сосновке уже четырех человек убили!..
После заключения мира, к середине марта по новому стилю, германские войска по всей линии от Риги до Черного моря начали наступление – на Украину и Донбасс.
Немцы должны были получить по мирному договору с Центральной радой 75 миллионов пудов хлеба, 11 миллионов пудов живого скота, 2 миллиона гусей и кур, 2 1 /2 миллиона пудов сахару, 20 миллионов литров спирта, 2 1 /2 тысячи вагонов яиц, 4 тысячи пудов сала, кроме того – масло, кожу, шерсть, лес и прочее…
Немцы наступали на Украину по всем правилам – колоннами зелено-пыльного цвета, в стальных шлемах. Слабые заслоны красных войск сметались тяжелой германской артиллерией.
Шли войска, автомобильные обозы, огромные артиллерийские парки с орудиями, выкрашенными изломанными линиями в пестрые цвета, гремели танки и броневые автомобили, везли понтоны, целые мосты для переправ. Жужжали в небе вереницы аэропланов.
Это было нашествие техники на почти безоружный народ. Красные отряды, – из фронтовиков, крестьян, шахтеров и городских рабочих, – разрозненные и во много раз уступающие немцам численностью, уходили с боями на север и на восток.
В Киеве на место Центральной рады, продавшей немцам Украину, был посажен свитский генерал Скоропадский; одетый в любезную самостийникам синюю свитку, подбоченясь, держал гетманскую булаву: «Хай живе щира Украина! Отныне и навеки – мир, порядок и благолепие. Рабочие – к станкам, землеробы – к плугу! Чур, чур! – сгинь, красное наваждение!»
Через неделю после того, как по улице села Владимирского проскакал страшный вестник, ранним утром на меловом обрыве у мельниц показался конный разъезд, – двадцать всадников на рослых вороных конях, – крупные, нерусского вида, в коротких зелено-серых мундирах и уланских шапках со шнурами. Посмотрели вниз на село и спешились.
В селе был еще народ, – многие сегодня не выехали в поле. И вот побежали от ворот к воротам мальчишки, перекликнулись бабы через плетни, и скоро на церковной площади собралась толпа. Глядели наверх, где около мельниц – ясно было видно – уланы ставили два пулемета.
А вскоре затем, с другой стороны, по селу загромыхали кованые колеса, защелкал бич, и на площадь широкой рысью влетела пара караковых в мыле, запряженная в военную тележку. На козлах правил белоглазый, с длинной нижней челюстью, нескладный солдат в бескозырке и в узком мундире. Сзади него, – руки в бока, – сидел германский офицер, строгого и чудного вида барин, со стеклышком в глазу и в новенькой, как игрушечной, фуражке. По левую сторону его жался старый знакомец, княжеский управляющий, сбежавший прошлой осенью из имения в одних подштанниках.
Сейчас он сидел, насупясь, в хорошем пальто, в теплом картузе – круглолицый, бритый, в золотых очках, – Григорий Карлович Миль. Ох, и зачесались мужики, когда увидели Григория Карловича.
– Шапки долой! – внезапно крикнул по-русски чудной офицер.
Некоторые, кто стоял поближе, нехотя стащили шапки. На площади притихло. Офицер, сидя все так же, подбоченясь, поблескивая стеклышком, начал говорить, отчеканивая слова, с трудом, но правильно произнося:
– Землепашцы села Владимирского, вы увидели там, на горке, два германских пулемета, они отлично действуют… Вы, конечно, благоразумные землепашцы. Я бы не хотел причинять вам вреда. Должен сказать, что германские войска императора Вильгельма пришли к вам для того, чтобы восстановить среди вас жизнь честных людей. Мы, германцы, не любим, когда воруют чужую собственность, за это мы наказуем очень беспощадно. Большевики вас учили другому, не правда ли? За это мы прогнали большевиков, они никогда больше к вам не вернутся. Советую вам хорошенько подумать о своих дурных поступках, а также о том, чтобы незамедлительно вернуть владельцу этого имения то, что вы у него украли…
В толпе даже крякнули после этих слов. Григорий Карлович все время сидел, опустив козырек на глаза, – внимательно всматривался в мужиков. Один раз на полном лице его мелькнула усмешка торжества, – видимо, он узнал кого-то. Офицер окончил речь. Мужики молчали.
– Я исполнил мой долг. Теперь скажите вы, господин Миль, – обратился к нему офицер.
Григорий Карлович в очень почтительных выражениях отклонил это предложение:
– Господин лейтенант, мне с ними говорить не о чем. Они и так все поняли.
– Хорошо, – сказал офицер, которому было наплевать. – Август, пшел!
Солдат в бескозырке хлопнул бичом, и военная тележка покатилась сквозь раздавшуюся толпу к княжескому дому, где еще три дня тому назад находился волисполком. Мужики глядели вслед.
– Подбоченился немец, – проговорил в толпе чей-то голос.
– А Григорий Карлович, ребята, помалкивает.
– Подожди, он еще разговорится.
– Вот беда-то, господи, – да за что же это?..
– А теперь скоро жди исправника.
– В Сосновку уж прибыл. Созвал сход, и давай мужиков ругать, – вы, мол, такие-сякие, грабители, бандиты, забыли девятьсот пятый год? Часа три чистил, и все по матери. Всю политику объяснил.
– А чего же теперь будет?
– А пороть будут.
– Постой, а как же запашка? Чья она теперь?
– Запашку исполу. Убраться дадут, половина – князю.
– Эх, черт, уйду я…
– Куда пойдешь, дура?..
Поговорили мужики, разошлись. А к вечеру понесли в княжеский дом диваны, кресла, кровати, занавески, золоченые рамы с зеркалами и картинами.
У Красильникова ужинали, не зажигая огня. Алексей каждый раз клал ложку, оглядывался на окно, вздыхал. Матрена ходила тихо, как мышь, от печи до стола. Семен сидел сутуло, вьющиеся темные волосы падали ему на лоб. Убирая ли куски, ставя ли миску с новой едой, Матрена нет-нет да и касалась его то рукой, то грудью. Но он не поднимал головы, молчал упрямо.
Вдруг Алексей шатнулся к окну, ударил в него ногтями, выглянул. Теперь в вечерней тишине был ясно слышен издалека дикий, долгий крик. Матрена сейчас же села на лавку, стиснула руки между коленями.
– Ваську Дементьева порют, – тихо проговорил Алексей, – давеча его провели на княжеский двор.
– Это уже третьего, – прошептала Матрена.
Замолчали, слушали. Крик человека все тем же отчаянием и ужасом висел над вечерним селом.
Семен порывисто встал. Коротким движением подтянул ремень на штанах и пошел к брату в комнату. Матрена также молча кинулась за ним. Он снимал со стены винтовку. Матрена обхватила его за шею, повисла, закинув голову, стиснув белые зубы – замерла.
Семен хотел оттолкнуть ее и не мог. Винтовка упала на глиняный пол. Тогда он повалился на кровать лицом в подушку. Матрена присела около, торопливо гладила мужа по жестким волосам.
Не надеясь на силы стражников и нового гетманского войска – гайдамаков, управляющий Григорий Карлович Миль ходатайствовал о посылке в село Владимирское гарнизона. Немцы охотно соглашались в таких случаях, и во Владимирское вошли два взвода с пулеметами.
Солдат расквартировали по хатам. Говорили, будто Григорий Карлович сам отмечал дворы под постой. Во всяком случае, все те из крестьян, кто принимал участие в прошлогоднем разгроме княжеской усадьбы, и все члены волисполкома из беспартийных (человек десять молодежи скрылись из села еще до появления немцев) получили на кормежку по солдату с конем.
Так и к Алексею Красильникову постучался в ворота бравый германский солдат, в полной амуниции, при винтовке и в шлеме. Непонятно лопоча, показал Алексею ордер, похлопал по плечу:
– Карашо, друг…
Солдату отвели Алексееву комнату, убрали только сбрую и оружие. Солдат сейчас же устроился – постелил хорошее одеяло, на стену повесил фотографию Вильгельма, велел подмести пол почище.
Покуда Матрена мела, он собрал грязное бельишко и попросил выстирать. «Шмуциг, фуй, – говорил он, – битте, стиркать». Потом, очень всем довольный, брякнулся в сапогах на постель и закурил сигару.
Солдат был толстый, с плоскими усами, вздернутыми кверху. Одежда на нем была хорошая, ладная. И есть был здоров, как боров. Жрал все, что ни приносила ему в комнату Матрена; особенно понравилось ему соленое свиное сало. Матрене жалко было до смерти кормить салом немца, но Алексей сказал: «Брось, пусть его трескает да спит, только бы носу никуда не совал».
Когда нечего было делать, солдат напевал про себя военные марши или писал письма на родину на открытках с видами Киева. Не озорничал, только ходил очень громко, – топал сапогами, как хозяин.
У Красильниковых было теперь – будто покойник в доме: садились за стол, вставали молча, Алексей – невесел, на лбу морщины. Матрена осунулась, вздыхала, украдкой вытирала слезы фартуком. Больше всего боялась она за Семена, как бы он не сорвался сгоряча. Но он за эти дни будто затих, затаился.
Теперь каждый день в волостной избе и на воротах по дворам расклеивались универсалы гетмана о возврате земли и скота помещикам, о реквизициях и поборах, о принудительной продаже хлеба, о беспощадных карах за попытки к бунтам, за укрывательство коммунистов и так далее…
Мужики читали универсалы, помалкивали. Потом стали доходить зловещие слухи о том, что в таком-то селе скупщики под охраной немецкой кавалерии вывезли даже немолоченый хлеб, расплатились какими-то нерусскими бумажками, которых и бабы брать не хотят, в таком-то селе угнали половину скота, а в таком-то не оставили будто бы и воробью клюнуть.
По ночам в укромных местах мужики стали собираться небольшими кучками, слушали рассказы, кряхтели. Что тут было делать? Чем помочь? Такая навалилась сила, что только дух пускай, а не пикни.
Семен стал хаживать на эти собрания – на зады, к ручью, под иву. В пиджаке внакидку сидел на земле, курил, слушал. Иной раз хотелось вскочить, кинуть пиджак, развернуть плечи: «Товарищи!..» Напрасно, – только напугаешь их, затрясут мужики мотнями, разбегутся.
Однажды в сумерки на выгоне он встретил какого-то человека, – тот стоял, скалился. Семен пошел было мимо, человек окликнул негромко:
– Братишка!
Семен вздрогнул: неужели свой? Спросил, искоса оглядывая того:
– А что надо?
– Ты Ликсеев брат?
– Ну, скажем.
– Своих не признаешь… Команду на «Керчи» помнишь?
– Кожин! Ты? – Семен крепко сунул руку ему в руку.
Стояли, глядели друг на друга. Кожин, быстро оглянувшись, сказал:
– Обрезы-то пилите?
– Нет, у нас пока еще тихо.
– А бойкие ребята есть?
– Кто их знает, пока не видать. Ждем, что дальше будет.
– Что же вы, ребята, делаете? – заговорил Кожин, и глаза его все время бегали, вглядывались в сумеречные очертания. – Чего вы смотрите? Так вас, как гусей, общиплют, а вы и головки подставили. А знаете вы, – у нас уже село Успенское все сожгли артиллерийским огнем. Бабы, ребятишки разбежались кто куда, мужики в лес… Из Новоспасского народ бежит, из Федоровки, из Гуляй-Поля – все к нам…
– Да к кому – к вам?
– Дибривский лес знаешь? Туда собираются… Ну, ладно… Ты вот что шепни ребятам: чтобы от вашей Владимировки сорок обрезов, да винтовок с патронами штук десять, да гранат ручных – сколько соберете, – и это вы прячьте в стог, в поле… Понял? В Сосновке уж под стога прячут, ребята только меня дожидаются… В Гундяевке тридцать мужиков на конях ждут. Уходить надо.
– Да куда? К кому?
– Ну, к атаману… Зовут – Щусь. Сейчас мы по всей Екатеринославщине отряды собираем… На прошлой неделе разбили гайдамаков, сожгли экономию… Вот, братишка, была потеха: спирт этот, сахар даром крестьянам кидали… Так помни – через неделю приду…
Он подмигнул Семену, перескочил через плетень и побежал, пригнувшись, в камыши, где голосисто квакали лягушки.
Слухи об атаманах, о налетах доходили до Владимировки, но не верилось. И вот – появился живой свидетель. Семен в тот же вечер рассказал о нем брату. Алексей выслушал серьезно.
– Атамана-то как звать?
– Щусь, говорят.
– Не слыхал. Про Махно, Нестора Ивановича, бродят слухи, будто бы шайка у него человек в двадцать пять головорезов, – налетают на экономии. А про Щуся не слыхал… Все может быть: теперь мужик на все способен. Что ж – Щусь так Щусь, дело святое… Только вот что, Семен: мужикам ты покуда не говори. Когда нужно будет, скажу сам.
Семен усмехнулся, пожал плечом:
– Ну, ждите, покуда не ощиплют догола.
В тот же вечер Кожин виделся, должно быть, не с одним Семеном. По селу зашептали про обрезы, гранаты, про атаманские отряды. Кое-где по дворам, ночью, – если прислушаться, – начали ширкать напильники. Но пока что все было тихо. Немцы даже навели порядок, издали приказ – с субботы на воскресенье мести улицу. Ничего, – и улицу подмели.
Затем пришла и беда. В ранний час, когда еще не выгоняли поить скотину, по выметенной улице пошли стражники и десятники с бляхами, застучали в окошки:
– Выходи!
Мужики стали выскакивать за ворота, босиком, застегиваясь, и тут же получали казенную бумагу: с такого-то двора – столько-то хлеба, шерсти, сала и яиц представить германскому интендантству по такой-то цене в марках. На площади у церкви уже стоял военный обоз. По дворам у ворот ухмылялись постояльцы-немцы, в шлемах, с винтовками.
Зачесались мужики. Кто божиться стал. Кто шапку кинул об землю:
– Да нет же у нас хлеба, боже ж ты мой! Хоть режь, – нет ничего!..
И тут по улице на дрожках проехал управляющий. Не столько солдат или стражников испугались мужики, сколько его золотых очков, потому что Григорий Карлович все знал, все видел.
Он остановил жеребца. К дрожкам подошел исправник. Поговорили. Исправник гаркнул стражникам, те вошли в первый двор и сразу под навозом нашли зерно. У Григория Карловича только очки блеснули, когда он услышал, как закричал мужик-хозяин.
В это время Алексей ходил у себя по двору, – до того растерялся, что жалко было смотреть. Матрена, опустив на глаза платок, плакала на крыльце.
– На что мне деньги, марки-то эти, на что? – спрашивал Алексей, поднимал чурку или сломанное колесо, бросал в крапиву к плетню. Увидал петуха, затопал на него: – Сволочь! – Хватался за замок на амбарушке: – Жрать-то мы что будем? Марки эти, что ли? Значит, – по миру хотят нас? Окончательно разорить? Опять в окончательную кабалу?
Семен, сидя около Матрены, сказал:
– Хуже еще будет… Мерина твоего отберут.
– Ну уж нет! Тут я, брат, – топором!
– Поздно спохватился.
– Ой, милые, – провыла Матрена, – да я им горло зубами переем…
В ворота громыхнули прикладом. Вошел жилец, толстый немец, – спокойно, весело, как к себе домой. За ним – шесть стражников и штатский, с гетманской, в виде трезубца, кокардой на чиновничьей фуражке, со шнурованной книгой в руках.
– Тут – много, – сказал ему немец, кивнув на амбарушку, – сал, клеб.
Алексей бешено взглянул на него, отошел и со всей силы швырнул большой заржавленный ключ под ноги гетманскому чиновнику.
– Но, но, мерзавец! – крикнул тот. – Розог захотел, сукин сын!
Семен локтем откинул Матрену, кинулся с крыльца, но в грудь ему сейчас же уперлось широкое лезвие штыка.
– Хальт! – крикнул немец жестко и повелительно. – Русский, на место!
Весь день грузились военные телеги, и поздней ночью обоз ушел. Село было ограблено начисто. Нигде не зажигали огня, не садились ужинать. По темным хатам выли бабы, зажав в кулаке бумажные марки…
Ну, поедут мужик с бабой в город с этими марками, походят по лавкам, – пусто: ни гвоздика, ни аршина материи, ни куска кожи. Фабрики не работают. Хлеб, сахар, мыло, сырье – поездами уходит в Германию. Не рояль же мужику с бабой, не старинную же голландскую картину, не китайский чайник везти домой. Поглазеют на чубастых, с висячими усами, гайдамаков в синих свитках, в смушковых с алым верхом, шапках, потолкаются на главной улице среди сизо-бритых, в котелках, торговцев воздухом и валютой. Вздохнут горько и едут домой ни с чем. А по дороге – верст двадцать отъехали – стоп, загорелись оси на вагонах, – нет смазки, машинного масла: немцы увезли. Песочком засыплют, поедут дальше, и опять горят оси.
От этого всего бабы и выли, зажав в кулаке смятые германские марки, а мужики прятали скотину в лесные овраги, подальше от греха: кто ведь знает, какой назавтра расклеят гетманский универсал!
В селе не зажигали огня, все хаты были темны. Только за рощей, над озером, ярко светились окна княжеского дома. Там управляющий чествовал ужином германских офицеров. Играла военная музыка, – странной жутью неслись звуки немецких вальсов над темным селом. Вот огненным шнуром, черт знает в какую высь, поднялась ракета на потеху немецким солдатам, стоявшим на усадебном дворе, куда выкатили бочонок с пивом. Лопнула. И соломенные крыши, сады, ивы, белая колокольня, плетни озарились медленно падающими звездами. Много невеселых лиц поднялось к этим огням. Свет был так ярок, что каждая угрюмая морщина выступала на лицах. Жаль, что их нельзя было заснять в эту минуту при помощи какого-нибудь невидимого аппарата. Такие снимки дали бы большой материал для размышления германскому главному штабу.
Даже в поле, за версту от села, стало светло, как днем. Несколько человек, пробиравшихся к одинокому стогу, быстро легли на землю. Только один у стога не лег. Задрав голову к падающим с неба огонькам, ухмыльнулся:
– Ишь ты, курицына мать!
Огоньки погасли, не долетев до земли, стало черно. У стога сошлись люди, зазвякало бросаемое на землю оружие.
– Сколько всего?
– Десять обрезов, товарищ Кожин, четыре винтовки.
– Мало…
– Не успели… Завтра ночью еще принесем.
– А патроны где?
– Вот держи, – в карманах… Патронов много.
– Ну, прячь, ребята, под стог… Гранат, гранат, ребята, несите… Обрез – стариковское оружие, – сидеть за кустом в канаве. Выстрелил, в портки навалил, и – все сражение. А молодому бойцу нужна винтовка и – первая вещь – граната. Поняли? Ну, а уж кто может, то – шашка. Она всем оружиям оружие.
– Товарищ Кожин, а нынче ночью бы это устроить.
– Ей-богу, всем селом поднимемся… Такая злоба, – ну, живое отняли… С вилами, с косами, можно сказать, со всем трудовым снарядом пойдем… Да их, сонных, перерезать легче легкого…
– Это кто, ты – командир? – крикнул Кожин рубящим голосом. Помолчал. Заговорил сначала вкрадчиво, потом все повышая: – Кто здесь командир? Антиресно… Али я с дураками говорю? Али я сейчас уйду, пусть вас немцы, гайдамаки бьют и грабят… (Шепотом матерное.) Дисциплины не знаете? Али мало я шашкой голов срубил за это? Когда едешь в отряд – клятву должен дать о полном, беспрекословном повиновении атаману… Иначе – не ходи. У нас – воля, пей, гуляй, а гикнул батько: «На коня!» – и ты уж не свой. Поняли? (Помолчал. Примирительно, но строго.) Ни нынче и ни завтра немцев трогать нельзя. Тут нужна большая сила.
– Товарищ Кожин, нам бы хоть до Григория Карловича добраться, – он нам все равно жить не даст.
– Что касается управляющего, то – можно, не раньше будущей недели, – иначе я с делами не управлюсь. На днях в Осиповке германец изнасиловал бабу. Хорошо. Та ему в вареники иголок подсыпала. Поел он, выскочил из-за стола, – на двор. Брякнулся, и скоро из него – дух вон. Немцы эту бабу тут же прикончили. Мужики – за топоры… Что тут немцы сделали – и вспоминать не хочется… Теперь и места этого, где Осиповка стояла, не найдешь… Вот как самосильно-то, тяп да ляп! Поняли?
Матрена вздыхала, ворочаясь на постели. Начинало светать, пели петухи. Ложилась роса на подоконник открытого окна. Жужжал комарик. На шестке проснулась кошка, мягко спрыгнула и пошла нюхать сор в углу.
Братья вполголоса разговаривали у непокрытого стола: Семен – подперев руками голову, Алексей – все наклоняясь к нему, все заглядывая в лицо:
– Не могу я, Семен, пойми ты, родной. Матрене одной не управиться с хозяйством. Ведь тут годами коплено, – как бросить? Разорят последнее. Вернешься на пустое место.
– Как бросить? – сказал Семен. – Пропадет твое хозяйство – скажи какая важность. Победим – каменный дом построишь. (Он усмехнулся.) Партизанская война нужна, а ты со своим хозяйством.
– Опять говорю, – кто вас кормить будет?
– А ты и так не нас кормишь, – немцев, да гетмана, да всякую сволочь кормишь… Раб…
– Постой. В семнадцатом году я не дрался за революцию? В солдатский комитет меня не выбирали? Имперьялистического фронта я не разлагал? То-то… Погоди меня срамить, Семен… И сейчас, – ну, подойди Красная Армия, я первый схвачу винтовку. А куда я пойду в лес, к каким атаманам?
– Сейчас и атаманы пригодятся.
– Так-то так.
– Рана проклятая связала меня. – Семен вытянул руки по столу. – Вот моя мука… А наших черноморских ребят много пошло в эти отряды. Зажжем Украину с четырех концов, дай срок…
– Кожина ты видел еще?
– Видел.
– Что говорит?
– А мы с ним говорили, что скоро освещение устроим у вас в селе.
Алексей взглянул на брата, побледнел, опустил голову.
– Да, конечно бы, следовало… Торчит эта проклятая усадьба, как бельмо… Покуда Григорий Карлович жив, он нам дышать не даст…
Матрена спрыгнула с постели, в одной рубашке, – только накинула шаль с розами, – подошла и несколько раз постучала косточками кулака по столу:
– Мое добро берут, я терпеть не буду! Мы, бабы, скорее вас расправимся с этими дьяволами.
Семен неожиданно весело взглянул на нее: