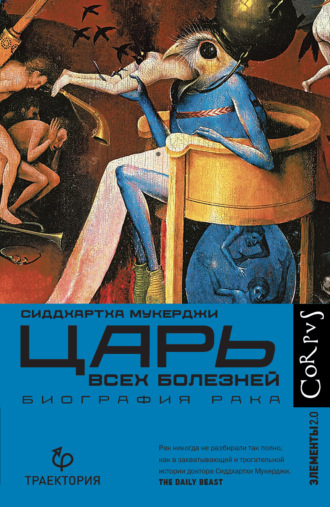
Сиддхартха Мукерджи
Царь всех болезней. Биография рака
Возвращаясь однажды с конференции в тесном купе ночного поезда из Берлина во Франкфурт, Эрлих воодушевленно описал свою идею двум коллегам:
Мне тут пришло в голову, что <…> возможно найти искусственные соединения, которые могли бы по-настоящему и избирательно лечить от тех или иных недугов, а не просто приносить временное облегчение того или иного симптома. <…> Такие лечащие средства априори должны уничтожать болезнетворных микробов напрямую – не “дистанционным действием”, а непосредственным прикреплением этого химического вещества к паразиту. Паразитов можно убить только в том случае, если препарат имеет к ним определенное отношение, специфическое сродство[211].
К тому времени остальные соседи по купе уже дремали. Однако этот мимолетный разговор в вагоне содержал в себе одну из важнейших медицинских идей в ее чистейшем, первоначальном виде. Концепция химиотерапии – использования специфических химических веществ для лечения больного организма – родилась среди ночи.
Эрлих принялся искать свои “лечащие средства” в знакомом источнике – сокровищнице красильной промышленности, сыгравшей огромную роль в его юношеских биологических экспериментах. Лаборатория Эрлиха находилась поблизости от процветающих красильных цехов Франкфуртской анилиновой фабрики и фирмы “Леопольд Касселла и К°”, и он мог без труда достать синтетические красители и их производные, всего лишь прогулявшись через долину[212]. Получив доступ к тысячам соединений, Эрлих затеял серию экспериментов, чтобы проверить биологическое действие этих веществ на животных.
Начал он с поисков антимикробных препаратов отчасти потому, что уже знал о способности красителей селективно связываться с клетками микроорганизмов. Он заражал мышей и кроликов паразитом Trypanosoma brucei,[213] вызывающим тяжелую, нередко смертельную сонную болезнь, а потом колол животным разные химические вещества, стараясь найти среди них те, что способны остановить инфекцию. Испытав несколько сотен соединений, Эрлих с сотрудниками получил первый антибиотик – производное ярко-рубинового красителя. Эрлих назвал его “трипановый красный”. Это название – болезнь плюс краска – вместило в себя почти век истории медицины.
Вдохновленный этим открытием Эрлих разразился залпом химических экспериментов. Перед ним разворачивалась целая вселенная биологической химии: молекулы с уникальными свойствами, космос, живущий по своим собственным законам. Одни компоненты, попав в кровь, превращались из инертных предшественников в активные вещества, другие, напротив, из активно действующих лекарств становились совершенно бесполезными соединениями. Некоторые выводились с мочой, другие откладывались в желчи или же распадались на части прямо в крови. Какая-нибудь молекула сохранялась в организме животного неизменной много дней, а ее химический собрат, отличавшийся всего несколькими атомами, исчезал за считаные минуты.
19 апреля 1910 года на многолюдном конгрессе по внутренним болезням в Висбадене Эрлих объявил, что открыл еще одну молекулу со “специфическим сродством”, настоящий фармакологический блокбастер[214]. Новое лекарство с загадочным названием “препарат боб” активно работало против бактерии Treponema pallidum, возбудителя сифилиса. В эпоху Эрлиха сифилис, “тайный недуг” Европы XVIII века, стал любимчиком, настоящей заразой бульварных газет[215]. Открытие лекарства от сифилиса должно было мгновенно вызвать фурор – и Эрлих к этому подготовился. Препарат боб, тайно испытанный в больничных палатах Санкт-Петербурга и повторно проверенный на пациентах с нейросифилисом в магдебургской больнице, показал поразительные результаты. Компания Farbwerke Hoechst AG[216] тем временем строила огромную фабрику для производства препарата в коммерческом масштабе.
Успешное применение трипанового красного и препарата боб – впоследствии названного сальварсаном, от латинского слова salvare, “спасать”[217], – доказало, что болезни можно рассматривать как неисправные замки, ждущие, чтобы к ним подобрали правильные молекулярные ключи. Теперь потенциально излечимые недуги выстраивались перед ученым в бесконечную очередь. Эрлих окрестил свои лекарства “волшебными пулями" – из-за их способности убивать с высокой избирательностью, как по волшебству. Эта фраза с древними алхимическими нотами будет упорно, десятки лет звучать в онкологии.
Волшебные пули Эрлиха не попадали лишь в одну мишень – в рак. Сифилис и сонную болезнь вызывали микроорганизмы, теперь же Эрлих медленно подбирался к своей главной и высшей цели – злокачественным человеческим клеткам. Между 1904 и 1908 годами он опробовал несколько хитроумных схем поиска лекарства от рака среди огромного арсенала химических соединений. Он испытал амиды, анилины, производные сульфамида и мышьяка, бромиды и спирты. Ничто не работало. Эрлих обнаружил: все то, что ядовито для раковых клеток, неизбежно убивает и клетки нормальные. Разочарованный, он выдумывал новые, все более фантастические стратегии: пытался лишать клетки саркомы питательных веществ или обманом доводить их до смерти с помощью “молекул-ловушек” (на полвека предвосхитив антифолатную стратегию Суббарао). Однако поиски идеального, высокоспецифичного противоракового средства оставались бесплодными. Химические вещества оказывались либо пулями, но далеко не волшебными, либо не пулями вовсе: действовали или слишком неизбирательно, или слишком слабо.
В 1908 году, вскоре после присуждения Эрлиху Нобелевской премии за открытие принципа специфического сродства, кайзер Вильгельм II пригласил его в свой дворец на личную аудиенцию – для консультации[218]. Кайзер, известный ипохондрик, страдавший от множества настоящих и воображаемых недугов, хотел выяснить, не близок ли Эрлих к получению лекарства от рака.
Эрлих отвечал уклончиво. Раковая клетка, объяснял он, принципиально отличается как мишень от бактериальной. Специфическое сродство, как это ни парадоксально, основывается вовсе не на родстве, а на полной его противоположности – на различии. Химикаты Эрлиха так безошибочно выбирали бактерии потому, что бактериальные белки кардинально отличаются от человеческих. При раке же именно подобие раковой клетки нормальным не позволяет лекарствам действовать избирательно.
Эрлих продолжал в том же ключе, практически размышляя вслух. Он все ходил вокруг да около чего-то очень важного, зачатка новой идеи: чтобы нацелиться на аномальную клетку, надо сперва разгадать биологию нормальной. Так через несколько десятилетий после своих первых опытов с анилином он вернулся к проблеме специфичности – биологическим штрихкодам, скрытым в каждой живой клетке.
Кайзер, потеряв нить рассуждений Эрлиха, а заодно и интерес к этому безрадостному хождению кругами, прервал аудиенцию.
В 1915 году Эрлих заболел туберкулезом, заразившись им еще во время работы в лаборатории Коха. Он отправился в Бад-Гомбург – курорт близ Франкфурта, знаменитый целительными солевыми ваннами. Из своей комнаты, выходящей окнами на простирающиеся внизу равнины, он с горечью наблюдал, как Германия погружается в бездну Первой мировой войны. Красильные фабрики – в том числе Bayer и Hoechst, – когда-то выпускавшие его лечебные препараты, теперь должны были в огромных масштабах производить вещества, которые потом превращали в химическое оружие. Одним из самых токсичных боевых отравляющих веществ была бесцветная, изъязвляющая кожу и слизистые оболочки жидкость, получаемая реакцией тиодигликоля (промежуточного продукта при изготовлении красителей) с соляной кислотой. Вещество издавало характерный резкий запах, напоминающий запах горчицы, жженого чеснока или хрена, и потому получило название “горчичный газ”.
Туманной ночью 12 июля 1917-го, через два года после смерти Эрлиха, на позиции британских войск близ маленького бельгийского городка Ипр обрушился град из мин, помеченных желтыми крестиками. Содержавшаяся в минах жидкость быстро испарялась, образуя, по описанию одного солдата, “густое, застилающее небо желто-зеленое облако”, которое быстро расплывалось в холодном ночном воздухе[219]. Бойцы в бараках и окопах просыпались от едкой тошнотворной вони, которую выжившие запомнят на долгие годы. Через несколько секунд поднялась паника, люди носились в поисках укрытия, кашляя и чихая, ослепшие ползли по грязи среди мертвецов. Горчичный газ проникал сквозь кожу и резину, просачивался через плотные слои ткани. Ядовитым облаком он висел над полем битвы еще много дней, так что трупы пропахли горчицей. В ту ночь горчичный газ, названный потом ипритом, убил или покалечил почти 2,5 тысячи человек, а за год к ним прибавились еще тысячи.
Острые эффекты иприта – поражение дыхательных путей, ожоги, волдыри, слепота – были столь чудовищны, что за ними врачи совершенно проглядели отложенные, долгосрочные последствия. В 1919 году американские патологи Эдвард и Хелен Крумб-хаар изучали последствия ипритной атаки у нескольких переживших ее пациентов[220]. Пара обнаружила у мужчин неизвестную ранее патологию костного мозга: он был сильно истощен и странным образом напоминал выжженное и взорванное поле боя; его кроветворные клетки будто бы иссохли. Больные страдали анемией, и им требовались частые, иногда ежемесячные переливания крови. Уровень лейкоцитов у них обычно не поднимался до нормы, и пациенты легко “ловили” всевозможные инфекции.
В мире, менее озабоченном прочими ужасами, эти новости вызвали бы сенсацию среди онкологов. Хотя в глаза бросалась именно высокая токсичность иприта, в конечном итоге он поражал костный мозг, избирательно уничтожая в нем особые популяции клеток: это было вещество со специфическим сродством к ним. Однако в 1919 году Европа все еще тонула в ужасающих новостях, и это известие ничем не выделялось на общем фоне. Крумбхаары опубликовали статью о своем наблюдении во второсортном медицинском журнале, и она быстро пала жертвой военной амнезии.
Химики военного времени вернулись в лаборатории, чтобы изобретать новые химикаты для новых битв, а последователи Эрлиха отправились охотиться на селективные препараты в иных местах. Они выискивали волшебную пулю, способную избавить организм от рака, а не ядовитый газ, оставляющий жертв в полумертвом состоянии, слепыми, изъязвленными и анемичными. Мысль, что желанная пуля в конце концов вылетит именно из этого химического оружия, показалась бы им извращением самой идеи специфического сродства, омерзительным искажением мечты Эрлиха.
Отравленная атмосфера
Что, если не подействует питье?.. Что, если это яд?
Уильям Шекспир.“Ромео и Джульетта”[221]
Мы так отравим атмосферу в первом акте, что ни одному приличному человеку не захочется досматривать пьесу до конца.
Джеймс Уотсон о химиотерапии, 1977 [222]
Еще в XVI веке знаменитый врач Парацельс как-то сказал, что любое лекарство, в сущности, есть замаскированный яд[223]. Химиотерапия рака, обуреваемая яростным желанием изничтожить злокачественные клетки, выросла из обратной логики: любой яд может оказаться замаскированным лекарством.
Через четверть века после газовой атаки под Ипром, 2 декабря 1943 года, эскадрилья самолетов люфтваффе разбомбила группу кораблей союзников в гавани у южноитальянского города Бари[224]. В считаные минуты корабли охватило пламя. В трюме американского транспортного судна “Джон Харви” хранилось 70 тонн иприта, однако экипаж в большинстве своем не знал характера груза. Из взорванного корабля произошла мощная утечка ядовитого вещества – фактически союзники атаковали сами себя.
Налет немцев увенчался неожиданным и ужасающим успехом. Рыбаки и жители окрестностей порта жаловались на долетающий с моря неприятный чесночный запах. Из воды вытаскивали людей, преимущественно молодых американских моряков, перемазанных чем-то маслянистым, обезумевших от боли и ужаса, с распухшими, полностью закрывающими глаза веками. Их поили чаем и закутывали в одеяла, чем только усиливали контакт ядовитого вещества с телом. Из как минимум 617 спасенных пострадавших 83 умерли в первые недели[225]. Иприт стремительно распространялся по воде и воздуху над Бари, оставляя за собой гибельный шлейф: в последующие месяцы от осложнений скончалось около тысячи человек.
“Инцидент в Бари”, как его окрестили средства массовой информации, нанес огромный удар по политическому реноме союзников. Пострадавших военных и моряков быстро перевезли в Штаты, а на место происшествия в обстановке секретности прибыли медицинские эксперты, чтобы провести вскрытие погибших гражданских. Вскрытия подтвердили то, что когда-то отметили Крумбхаары: у людей, переживших саму бомбежку, но скончавшихся от последствий отравления, в крови почти не осталось лейкоцитов, а костный мозг оказался как бы выжжен и истощен. Газ специфически поражал клетки костного мозга, словно гротескная молекулярная пародия на лечебные вещества Эрлиха.
Случившееся в Бари подстегнуло исследования природы боевых газов и их действия на солдат. Для этого в США создали специальное секретное подразделение по химическому оружию, входящее в Управление научных исследований и разработок (OSRD) – правительственный орган, координирующий мобилизацию науки в военное время. Правительство массово заключало контракты на изучение всевозможных токсичных компонентов с научно-исследовательскими институтами. Азотистые иприты, близкие родственники обычного, сернистого иприта, еще в 1942-м достались Луису Гудману и Альфреду Гилману из Йельского университета.
Гудмана и Гилмана не интересовали обжигающие, кожно-нарывные свойства горчичного газа, их заворожил эффект Крумбхааров – способность газа уничтожать лейкоциты. А нельзя ли воспользоваться этим эффектом – или каким-нибудь его более чахлым собратом – для того, чтобы контролируемо, в больничных условиях, крохотными, тщательно отмеренными дозами прицельно атаковать злокачественные лейкоциты?
Проверять эту концепцию Гилман и Гудман начали с исследований на животных. Выяснилось, что при внутривенном введении кроликам и мышам иприт вызывает почти полное исчезновение нормальных лейкоцитов из крови и костного мозга, но не оказывает никакого кожно-нарывного действия – то есть эти фармакологические эффекты таким способом можно было разделять. Ободренные Гилман и Гудман перешли к исследованиям на людях, сосредоточившись на лимфомах – опухолях лимфатических узлов. В 1942 году они убедили торакального хирурга Густава Линдскога испробовать на страдающем лимфомой 48-летнем нь10-йоркском ювелире последовательное введение 10 доз иприта. Это был лишь единичный эксперимент, но, главное, он сработал. У человека, как и у мыши, лекарство вызывало прямо-таки волшебную ремиссию: распухшие узлы визуально вернулись к норме. Клиницисты описали этот феномен как сверхъестественное “размягчение” рака – и произошедшее действительно напоминало растворение жесткого ракового панциря, столь образно описанного Галеном.
Однако за ремиссиями неизбежно следовали рецидивы. Размягчившиеся опухоли снова твердели и разрастались – точно так же, как фарберовские лейкозы, на время исчезнув, возвращались еще более агрессивными. Во время войны Гудмана и Гилмана связывала необходимость соблюдения секретности, и свои наблюдения они опубликовали лишь в 1946 году[226], за несколько месяцев до выхода статьи Фарбера об антифолатах.
Всего в сотне километров южнее Йеля, в нь10-йоркских лабораториях компании Burroughs Wellcome, биохимик Джордж Хитчингс тоже обратился к методу Эрлиха в попытке найти молекулы, специфично атакующие раковые клетки[227]. Вдохновленный антифолатами Йеллы Суббарао, Хитчингс сосредоточился на синтезе молекул-обманок, убивающих клетку после проникновения в нее.
Первыми его внутриклеточными мишенями стали предшественники ДНК и РНК. Академическая общественность презирала подход Хитчингса как недопустимую ловлю наугад, этакую “рыбалку”. “Ученые из академических кругов брезгливо отстранялись от подобных затей, – вспоминал коллега Хитчингса. – Они утверждали, что любые попытки химиотерапии преждевременны, пока не сформированы базовые представления о биохимии, физиологии и фармакологии. По правде говоря, после работ Эрлиха эта область не приносила плодов уже лет тридцать пять”[228].
К 1944 году Хитчингс еще не выловил ни одной химической рыбки. Чашки Петри с бактериальными посевами стопками громоздились вокруг него, напоминая зарастающий плесенями и лишайниками старый сад без малейшего намека на вожделенное лекарство. Доверившись интуиции, он нанял молодую помощницу по имени Гертруда Элайон, чье будущее казалось еще более неопределенным, чем его собственное. Дочь литовского иммигранта, наделенная научным складом ума и острым интересом к химии, в 1941 году Элайон получила степень магистра химии в Нью-Йоркском университете, днем преподавая химию старшеклассникам, а научной работой занимаясь ночью и по выходным. Несмотря на высокую квалификацию, талант и целеустремленность, она не смогла найти работу в академической лаборатории. Разочарованная постоянными отказами[229], Труди Элайон устроилась контролером качества в супермаркет и работала в пищевой лаборатории химиком-аналитиком. Когда Труди нашел Хитчингс, она оценивала кислотность рассолов и цвет яичных желтков для майонеза и даже представить себе не могла, что вскоре станет одним из самых продуктивных химиков-синтетиков ее поколения, а позже и лауреатом Нобелевской премии.
Спасенная от прозябания в маринадно-майонезной вселенной, Гертруда Элайон с энтузиазмом погрузилась в мир синтетической химии. Как и Хитчингс, она начала с охоты на вещества, которые останавливали бы размножение бактерий, повреждая ДНК, однако вскоре ввела в поиски собственный стратегический маневр. Вместо того чтобы наугад перелопачивать сонмы неизвестных химических соединений, Элайон сфокусировалась на одном классе веществ, называемых пуринами[230]. Пурины – это циклические молекулы с основой из пяти атомов углерода. К тому времени уже было известно, что они участвуют в строительстве ДНК. Элайон решила добавлять к каждому из углеродов какую-нибудь боковую цепь и получать тем самым десятки новых вариантов пуринов.
Собранная Элайон коллекция молекул напоминала ярмарочную карусель с диковинными зверями. Одна молекула – 2,6-диаминопурин – даже в мельчайших дозах была чрезвычайно токсична для животных. Другая пахла как чеснок, только в тысячу раз сильнее. Многие оказывались нестабильными или бесполезными – или и то, и другое сразу. Однако в 1951 году Элайон удалось найти вариант, получивший название 6-меркаптопурин, или 6-МП.
Препарат 6-МП провалил часть предварительных токсикологических испытаний на животных (оказался неожиданно токсичным для собак), и его наверняка отвергли бы, если бы успехи горчичного газа в уничтожении раковых клеток не придали первым химиотерапевтам уверенности. В 1948 году Корнелиус “Дасти” Роудс, во время войны руководивший Службой химической борьбы армии США, снова стал директором нь10-йоркской Мемориальной больницы (и исследовательского института при ней), тем самым укрепив связь между химическими боями на военных фронтах и в человеческом теле. Заинтригованный способностью отравляющих веществ убивать рак, Роудс активно налаживал сотрудничество своих ученых с лабораторией Хитчингса и Элайон в Burroughs Wellcome. Через несколько месяцев после испытаний на клетках в чашках Петри 6-МП был упакован и подготовлен к проверке на больных людях.
Первой мишенью нового лекарства, что вполне предсказуемо, стал острый лимфобластный лейкоз – заболевание, занимавшее тогда умы онкологов. В начале 1950-х врачи-ученые Джозеф Бурченал и Мэри Лойе Мерфи, набрав группу детей с ОЛЛ, начали клинические исследования 6-меркаптопурина[231].
Исследователей потрясла скорость достижения ремиссий, вызываемых препаратом: лейкозные клетки гибли и исчезали из костного мозга и крови порой уже через несколько дней после начала лечения. Однако, подобно бостонским ремиссиям, улучшения оказывались удручающе недолгими – всего несколько недель. Как и в случае антифолатов, это было еще не излечение, а лишь проблеск надежды на то, что оно возможно.
Великодушие шоу-бизнеса
В Новой Англии “Джимми” – слово расхожее, <…> имя нарицательное для паренька по соседству.
“Дом, который построил «Джимми»”[232]
Я путешествовал далеко и побывал в странном краю, я видел человека тьмы совсем близко.
Томас Вулф[233]
Хоть и мимолетные, ремиссии лейкозов в Бостоне и Нью-Йорке пленили воображение Фарбера. Если лимфобластный лейкоз, одну из самых смертоносных форм рака, можно остановить – хотя бы на месяц-другой – двумя разными химическими веществами, то, вероятно, речь идет о более глубинном принципе. Возможно, в химическом мире таятся сонмы подобных ядов, идеально сконструированных для убийства раковых клеток и сохраняющих нормальные. Отголоски этой идеи настойчиво стучались в его сознание, пока он вечер за вечером обходил больничные палаты, делая пометки, а потом изучая под микроскопом мазки. Возможно, его посещали и более провокационные мысли – вроде той, что рак можно излечить только химиопрепаратами. Но как их найти? Как приблизить открытие этих невероятных лекарств? Поле деятельности Фарбера в Бостоне было слишком мало. Как же создать более мощную стартовую площадку для продвижения к полному излечению детских лейкозов – а потом и рака вообще?
Ученые-естественники сплошь да рядом всматриваются в глубину веков с той же одержимостью, что и историки, поскольку мало какая иная профессия так остро зависит от своего прошлого. Каждый новый эксперимент – ответ предыдущему, каждая новая теория – опровержение прежней. Вот и Фарбер пристально изучал прошлое медицины, снова и снова мысленно возвращаясь к национальной кампании против полиомиелита. В 1920-е, будучи студентом Гарварда, Фарбер своими глазами наблюдал, как по городу прокатилась эпидемия полиомиелита, оставив за собой множество парализованных детей. В острой фазе болезни вирус подчас парализует диафрагму, лишая больного возможности дышать самостоятельно. Даже 10 лет спустя, в середине 1930-х, единственным доступным средством от этого паралича был аппарат искусственного дыхания, известный как “железные легкие”. Когда Фарбер еще ординатором детской больницы обходил палаты, эти жуткие аппараты[234] тяжело ухали и хрипели постоянным фоном, а несчастные дети часто были вынуждены проводить в них недели. Прикованные к железной громадине пациенты символизировали то подвешенное состояние, тот паралич, в котором пребывали исследования полиомиелита. О природе вируса и биологических механизмах инфекции практически ничего не знали; кампанию по ограничению распространения болезни рекламировали из рук вон плохо, и население в большинстве своем ее игнорировало.
В 1937 году Франклин Рузвельт наконец вывел исследования полиомиелита из спячки[235]. Парализованный ниже пояса в предыдущую эпидемию, Рузвельт еще в 1927 году основал в Джорджии фонд Warm Springs Foundation, опекающий больницу, где лечили полиомиелит, и исследовательский центр. Сперва политические советники Рузвельта старались дистанцировать его образ от болезни. (Образ парализованного президента, пытающегося вывести страну из депрессии, считался просто катастрофическим; все публичные появления Рузвельта тщательно режиссировали так, чтобы скрыть нижнюю половину его тела.) Однако переизбравшись с ошеломляющим перевесом голосов в 1936 году, движимый бунтарским духом Рузвельт решил развить прежнее начинание и основал Национальный фонд борьбы с детским параличом, призванный продвигать исследования в этой области и привлекать общественное внимание к проблеме полиомиелита.
Этот фонд – крупнейшая в истории США ассоциация, ориентированная на конкретную болезнь, – вдохнул в исследования полиомиелита новую жизнь. Не прошло и года после основания фонда, как актер Эдди Кантор организовал в его пользу “Марш медяков” – широкомасштабную и прекрасно организованную кампанию по сбору средств: каждому гражданину предлагалось послать Рузвельту 10 центов на поддержку просвещения и исследований в области полиомиелита. Голливудские знаменитости, звезды Бродвея и самые популярные радиоведущие вскоре присоединились к движению – и оно увенчалось оглушительным успехом. Всего за несколько недель Белый дом получил 2 миллиона 680 тысяч десятицентовиков[236]. Повсюду распространялись информационные листки и плакаты, и вместе с вниманием общественности в исследования полиомиелита потекли деньги. К концу 1940-х Джону Эндерсу, частично финансируемому всеми этими кампаниями, почти удалось вырастить полиовирус в своей лаборатории, а Сэбин и Солк, взяв за основу труды Эндерса, уверенно шли к изготовлению первой полиовакцины.
Фарбер мечтал о подобной кампании по поводу лейкемии – или даже рака в целом. Он грезил о фонде борьбы с детским раком, который возглавил бы общие усилия. Однако для основания такого фонда ему требовался союзник, причем лучше не из больницы (такого там еще надо было поискать).
Фарберу не пришлось долго разыскивать единомышленников. В начале мая 1947 года, когда испытание аминоптерина еще шло полным ходом, его лабораторию посетили члены благотворительной организации Variety Club из Новой Англии во главе с Биллом Костером. Variety Club основали в 1927 году в Питтсбурге ii представителей шоу-бизнеса – продюсеры, режиссеры, актеры, артисты эстрады и владельцы кинотеатров, – взяв за образец светские клубы Нью-Йорка и Лондона. Однако всего через год клуб невольно перешел на более активную социальную повестку.
Зимой 1928 года, когда город балансировал на краю бездны Великой депрессии, какая-то женщина оставила ребенка у дверей кинотеатра на Шеридан-сквер. В приколотой к одеяльцу записке было сказано:
Пожалуйста, позаботьтесь о моей малютке. Ее зовут Кэтрин. Сама я больше не могу заботиться о ней. У меня их еще восемь. Мой муж безработный. Она родилась в День благодарения. Я не раз слышала о великодушии шоу-бизнеса и молю Господа о том, чтобы вы за ней приглядели[237].
Кинематографическая мелодраматичность этого эпизода и проникновенное воззвание к “великодушию шоу-бизнеса” произвели глубокое впечатление на членов новоявленного клуба. Неофициально удочерив сироту, клуб собирал средства на оплату ее воспитания и образования. Девочку назвали Кэтрин Вэрайети Шеридан: среднее имя – в честь клуба[238], а фамилия – в честь кинотеатра, у которого ее нашли.
Растиражированная журналистами история Кэтрин Шеридан привлекла к клубу неожиданно большое внимание. Представ в глазах широкой общественности филантропической организацией, клуб решил и впредь заботиться о нуждающихся детях. В конце 1940-х волна послевоенного кинематографического бума принесла шоу-бизнесу еще больше денег, и по всей стране начали открываться филиалы клуба. В каждом из них на видном месте висели фотография Кэтрин Шеридан и рассказ о ней. Так девочка стала неофициальным талисманом, символом клуба.
Приток денег и общественного внимания заставил членов клуба пуститься на поиски новых благотворительных проектов. Билл Костер приехал в Бостонскую детскую больницу разведать, нет ли там чего-то подходящего. Его провели по всей больнице, по лабораториям и вотчинам ведущих врачей. На вопрос о насущных потребностях больницы глава отделения гематологии с типичной осмотрительностью ответил: “Ну, мне не помешал бы новый микроскоп”[239].
Зато в лаборатории Фарбера Билл Костер обнаружил воодушевленного, красноречивого, глобально мыслящего ученого – этакого мессию в шкатулке. Фарберу требовался совсем не микроскоп – он вынашивал смелый дальновидный план, сразу же пленивший Костера. Патолог попросил клуб помочь ему организовать фонд для строительства крупной исследовательской клиники, которая специализировалась бы на детских онкозаболеваниях.
Фарбер и Костер не стали откладывать дело в долгий ящик. В начале 1948 года они основали Фонд исследований детского рака – для поддержки научной работы и привлечения внимания к этой проблеме. В марте они устроили лотерею для сбора средств и сумели набрать свыше 45 тысяч долларов – весьма впечатляюще для начала, но все же гораздо меньше, чем надеялись Фарбер с Костером. Исследования рака, считали они, нуждаются в более эффективном послании общественности, в стратегии, которая поможет им снискать широкую известность. Той весной, памятуя об успехе с малюткой Шеридан, Билл Костер загорелся идеей найти живой символ и для исследовательского центра Фарбера – условную Кэтрин Шеридан для рака. Костер и Фарбер отправились в палаты детской больницы и в импровизированную амбулаторию Фарбера искать ребенка, подходящего на роль лица фонда.
Ожидать многого от этих поисков не приходилось. Фарбер уже лечил нескольких детей аминоптерином, и в палатах наверху лежали обезвоженные, изнуренные тошнотой от химиотерапии страдальцы, еле способные держать голову и тело в вертикальном положении, не то что публично выставляться в качестве оптимистичного символа лечения рака. Лихорадочно просматривая списки пациентов, Фарбер и Костер нашли единственного ребенка, здорового достаточно, чтобы нести великое послание, – худенького, голубоглазого, светловолосого, ангелоподобного мальчика по имени Эйнар Густафсон. Его лечили не от лейкемии, а от редкой разновидности лимфомы кишечника.
Густафсон был тихим и серьезным, не по годам уверенным в себе ребенком из городка Нью-Свиден в штате Мэн[240]. Внук шведских иммигрантов, он жил на картофельной ферме и посещал крохотную деревенскую школу. В конце лета 1947 года, когда отошла черника, он начал жаловаться на мучительные грызущие боли в животе. Льюистонские доктора, удаляя предположительно воспаленный аппендикс, обнаружили у мальчика лимфому. Выживаемость при этой болезни составляла менее 10 %. Решив, что химиотерапия даст пусть и малый, но все же шанс на спасение ребенка, врачи отправили Густафсона на лечение к Фарберу.
Выговорить “Эйнар Густафсон” не для всех было посильной задачей, поэтому в порыве вдохновения Фарбер и Костер переименовали мальчика в Джимми.
Не мешкая, Билл Костер принялся раскручивать Джимми. Теплым субботним вечером 22 мая 1948 года Ральф Эдвардс, ведущий радиопрограммы “Правда или последствия”[241], прервал обычное вещание из Калифорнии и, соединившись с радиостанцией в Бостоне, сделал небольшое вступление: “Одна из целей нашей программы состоит в том, чтобы дарить это старинное салонное развлечение тем, кто не в состоянии прийти к нам в студию. <…> Сегодня мы с вами отправимся к парнишке по имени Джимми. Фамилию его называть нет смысла, потому что подобных мальчиков и девочек, томящихся в домах и больницах по всей стране, тысячи. Джимми страдает от рака. Он славный малый, и хотя не понимает, отчего не может играть на улице с другими детьми, он очень любит бейсбол и отслеживает каждый шаг своей любимой бейсбольной команды «Бостон брэйвз». А теперь волшебная сила радио перенесет нас через всю ширь Соединенных Штатов прямо к больничной кровати Джимми, в один из великих американских городов, Бостон, штат Массачусетс, и в одну из великих американских клиник, Бостонскую детскую больницу, персонал которой занят таким выдающимся делом, как исследование рака. Джимми до сих пор нас не слышал. <…> Дайте нам Джимми, пожалуйста”.



