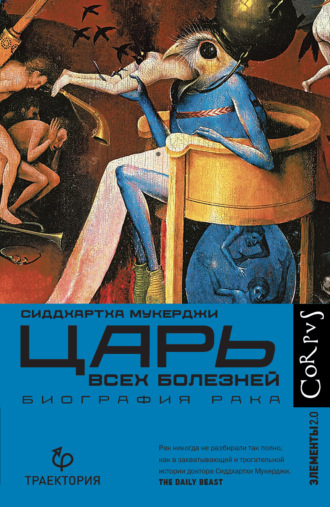
Сиддхартха Мукерджи
Царь всех болезней. Биография рака
Посвящается Роберту Сандлеру (1945–1948) и тем, кто был до и после него.
Болезнь – это темная сторона жизни, в некотором смысле более обременительное гражданство.
Рождаясь, всяк получает двойное гражданство: в царстве здоровья и в царстве недуга. И хотя все мы предпочитаем пользоваться паспортом страны здоровья, рано или поздно каждый из нас вынужден хотя бы на время покинуть ее пределы.
Сьюзен Зонтаг.“Болезнь как метафора и СПИД и его метафоры”[1]
Siddhartha Mukherjee
The Emperor of All Maladies
A Biography of Cancer
Перевод с английского Марии Виноградовой
Издание подготовлено в партнерстве с Фондом некоммерческих инициатив “Траектория” (при финансовой поддержке Н. В. Каторжнова)

© Siddhartha Mukherjee, 2010
© М. Виноградова, перевод на русский язык, 2012
© А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2023
© ООО “Издательство ACT”, 2023
Издательство CORPUS ®

ТРАЕКТОРИЯ
ФОНД ПОДДЕРЖКИ НАУЧНЫХ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И КУЛЬТУРНЫХ ИНИЦИАТИВ
Фонд “Траектория” создан в 2015 году.
Программы фонда направлены на стимулирование интереса к науке и научным исследованиям, реализацию образовательных программ, повышение интеллектуального уровня и творческого потенциала молодежи, повышение конкурентоспособности отечественных науки и образования, популяризацию науки и культуры, продвижение идей сохранения культурного наследия.
Фонд организует образовательные
и научно-популярные мероприятия по всей России, способствует созданию успешных практик взаимодействия внутри образовательного и научного сообщества.
В рамках издательского проекта Фонд “Траектория” поддерживает издание лучших образцов российской и зарубежной научно-популярной литературы.
Введение
В 2010 году примерно 600 тысяч американцев и более 7 миллионов людей по всему свету умрут от рака. В Соединенных Штатах каждая третья женщина и каждый второй мужчина рано или поздно заболеет раком. Четверть всех смертей в Америке и примерно 15 % во всем мире произойдет из-за рака. В некоторых странах рак обгонит сердечно-сосудистые заболевания и станет самой частой причиной смерти.
Эта книга – история рака, хроника древней болезни, когда-то почти незаметной, о которой лишь перешептывались, но которая превратилась в смертоносную, бесконечно изменчивую стихию, исполненную такой всепроникающей метафорической, медицинской, научной и политической силы, что рак нередко называют чумой нашего поколения. Эта книга – “биография” в самом точном смысле слова, попытка проникнуть в суть бессмертной болезни, постичь ее природу, прояснить закономерности поведения. Но главная моя цель – поднять вопрос, выходящий за рамки биографии: возможно ли в будущем положить конец этому недугу? Возможно ли навсегда искоренить его из наших тел и нашего общества?
Рак – не одна болезнь, а множество разных. Мы называем их “рак” потому, что все они обладают общей фундаментальной характеристикой: аномальным делением клеток. Помимо биологической общности объединение их в одном повествовании оправдано и тем, что разные воплощения рака обрастают одними и теми же глубинными культурными и политическими вопросами. Пройтись здесь по биографиям всех разновидностей рака невозможно, но я попытался осветить глобальные темы, пронизывающие всю четырехтысячелетнюю историю этой болезни.
Проект, при всей его грандиозности, начинался с куда более скромного замысла. Летом 2003 года я закончил ординатуру и, защитив выпускную работу по онкоиммунологии, продолжил оттачивать умения в области клинической онкологии. Я стажировался в Бостоне: в Онкологическом институте Даны и Фарбера и в Массачусетской больнице общего профиля. Изначально я хотел просто вести дневник – так сказать, писать заметки из терапевтических окопов. Однако затея эта быстро переросла в настоящую исследовательскую экспедицию, которая завела меня в дебри не только науки и медицины, но также культуры, истории, литературы и политики, в прошлое и будущее рака.
В центр повествования я поместил двух персонажей. Они жили в одно и то же время, оба были идеалистами, детьми послевоенного научно-технологического бума в США, и оба попали в водоворот гипнотического, навязчивого стремления развязать национальную Войну с раком. Первый из них – Сидней Фарбер, отец современной химиотерапии, который случайно обнаружил, что аналог витамина помогает бороться с раком, и загорелся мечтой создать универсальное средство от этой болезни. Второй персонаж – Мэри Ласкер, легендарная личность из светских кругов Нью-Йорка, которая отличалась невероятной общественной и политической активностью и долгие годы поддерживала Фарбера в его исканиях. Но Ласкер и Фарбер прежде всего персонажи, иллюстрирующие упорство, силу воображения, изобретательность и оптимизм всех тех поколений мужчин и женщин, которые на протяжении 4 тысяч лет вступали в противоборство с раком. Моя книга в некотором роде летопись войны – войны с противником бесформенным, всепроникающим и неподвластным времени. Как и в любой другой, в этой войне случаются победы и поражения, кампании следуют за кампаниями, рождаются герои и тщеславные авантюристы, есть выжившие и сопротивляющиеся – и неизбежно остаются раненые, обреченные, забытые, павшие. Как метко выразился один хирург XIX века, рак в полном своем расцвете предстает “царем всех недугов, владыкой ужаса”.
Хочу сразу предупредить читателей: в науке и медицине, где огромное значение в открытии придается первенству, мантия изобретателя или первооткрывателя даруется профессиональным сообществом. Хотя в этой книге неоднократно приводятся истории открытий и изобретений, ни одну из них не следует считать заявлением о чьем-то научном приоритете.
Моя работа основана на материалах исследований, книгах, журнальных статьях, воспоминаниях и интервью. В ее фундаменте – огромный вклад отдельных людей, библиотек, коллекций, архивов и документов, с благодарностью перечисленных в конце книги.
Впрочем, одну из благодарностей я должен выразить прямо сейчас. Этот труд не только странствие в прошлое рака, но и мой личный путь становления как онколога. Путь, который был бы невозможен без пациентов, ведь именно они учили и вдохновляли меня больше всех прочих. Я в неоплатном и вечном долгу перед ними.
Этот долг налагает на меня определенные обязательства. Работая над книгой, я столкнулся с большой проблемой: как описывать истории пациентов, сохраняя их конфиденциальность и не нанося урона их достоинству? Если о чьей-то болезни было известно широкой общественности (из предшествующих интервью или статей, например), я использовал настоящие имена. Если же посторонние не знали о болезни или мои собеседники настаивали на сохранении конфиденциальности, я использовал вымышленные имена и нарочно затруднял опознание, искажая даты и яркие особенности. Однако все пациенты и случаи здесь – реальные, и я призываю читателей уважать этих людей и их личное пространство.
Пролог
Одно отчаянное средство может Болезнь отчаянную излечить.
Уильям Шекспир. “Гамлет”[2]
Рак начинается с людей и кончается ими же. Среди научных абстракций легко забыть этот основной факт. <…> Врачи лечат болезни – но они врачуют и людей. Эти базовые требования профессии порой тянут их в обе стороны одновременно.
Джун Гудфилд “Осада рака”[3]
Утром 19 мая 2004 года Карла Рид, 30-летняя воспитательница детского сада из массачусетского городка Ипсвич, мать трех малышей, проснулась с головной болью.
– И не просто какой-то там болью, – вспоминала она позднее. – А как бы с онемением в голове. Таким онемением, которое сразу сообщает тебе: что-то очень и очень не в порядке.
Но что-то было очень и очень не в порядке уже почти месяц. В конце апреля Карла обнаружила у себя на спине несколько синяков. Они появились однажды утром, внезапно и беспричинно, словно стигматы, увеличились в размере и в течение месяца исчезли сами собой, оставив большие следы наподобие карты неизвестных земель. Десны Карлы понемногу, едва заметно бледнели. В начале мая эта энергичная и полная жизни женщина, привыкшая часами гоняться за пяти- и шестилетками в классной комнате, уже с трудом преодолевала лестничный пролет. Иногда по утрам ей не хватало сил встать на ноги, и она на четвереньках переползала из одной комнаты в другую. Спала она прерывисто, по 12–14 часов, но когда вставала, ощущала такую неимоверную усталость, что валилась обратно еще немного поспать.
Дважды за этот месяц Карла в сопровождении мужа посещала врача общей практики, но всякий раз возвращалась без диагноза и без назначения каких бы то ни было обследований. Странные боли в костях то появлялись, то исчезали. Врач неуверенно мямлила какие-то объяснения. “Может, это мигрень?” – предположила она и посоветовала попить аспирин, но тот лишь заставил побелевшие десны Карлы кровоточить сильнее.
Общительная, жизнерадостная и энергичная от природы, Карла была скорее озадачена, чем встревожена этим изнурительным заболеванием. Больницы были для нее абстракцией; она никогда серьезно не болела и не посещала врачей-специалистов, а уж тем более онкологов. Для объяснения своих симптомов она придумывала самые разные причины: переутомление, депрессию, несварение, невроз, бессонницу. Но в конце концов какое-то глубинное чутье – седьмое чувство – подсказало Карле: в ее теле вызревает что-то серьезное, катастрофическое.
19 мая Карла оставила детей у соседей, а сама отправилась в клинику, чтобы настоять на исследовании ее крови. Врач назначила ей лишь общий анализ. Нацедив из вены пациентки пробирку крови, лаборант заинтригованно пригляделся к ней. Бледная, водянистая жидкость, что текла из вен Карлы, мало походила на кровь.
Тем вечером Карла напрасно ждала новостей. Ей позвонили на следующее утро, когда она отправилась на рыбный рынок.
– Нам нужно снова взять у вас кровь, – сказала медсестра.
– Когда мне приехать? – спросила Карла, мысленно перекраивая расписание на этот сумбурный день. Потом она вспоминала, как, разговаривая, покосилась на уличные часы. В сумке с покупками лежало полфунта лосося – если не убрать поскорее в холодильник, чего доброго, испортится.
Первые впечатления Карлы о болезни сложились из обычнейших мелочей: часы, поездка на машине, дети, пробирка с белесой кровью, желание принять душ, портящаяся на жаре рыба, напряженный голос по телефону. Карла не могла припомнить точные слова медсестры, она уловила лишь общую тональность неотложности. “Приезжайте прямо сейчас, – слышалось ей. – Прямо сейчас”.
Я узнал о случае Карлы в 7 утра 21 мая, в поезде бостонского метро, между станциями “Кендалл-сквер” и “Чарльз-стрит”. Фраза, высветившаяся на моем пейджере, была отрывиста и бесстрастна, как все неотложные медицинские вызовы: “Карла Рид / Новая пациентка с лейкемией / 14-й этаж / Просьба принять как можно скорее”. Когда поезд выехал из длинного темного туннеля, перед глазами мелькнули стеклянные башни Массачусетской больницы и окна помещений 14-го этажа.
Должно быть, Карла сейчас сидела в одном из них, испытывая гнетущее одиночество. А рядом уже наверняка кипела лихорадочная деятельность. Из палат в лабораторию курсировали пробирки с кровью. Медсестры с биоматериалом сновали по коридорам, интерны собирали данные для утренних отчетов, пищали сигналы тревоги, рассылались сообщения. Где-то в больничных недрах микроскоп нацеливал свои объективы на клетки крови Карлы.
Я хорошо представлял себе все это, потому что всегда после прибытия пациента с острым лейкозом по всей клинике – от онкологического отделения на верхних этажах до лабораторий в глубоких подвалах – будто дрожь пробегает. Лейкемия – это рак лейкоцитов^ белых кровяных телец[4], рак в одном из самых бурных и беспощадных его воплощений. Как любила напоминать пациентам одна из медсестер отделения, при этой болезни “даже бумагой порезаться смертельно опасно”.
Для стажера-онколога лейкемия тоже болезнь особенная. Скорость и острота ее течения, умопомрачительная, неумолимо стремящаяся вверх дуга развития, вынуждающая принимать молниеносные, часто радикальные решения, – все это ужасно испытывать, ужасно наблюдать и ужасно лечить. Порабощенное лейкемией тело подходит к физиологическим пределам напряжения: все системы организма, сердце, легкие, кровь работают на грани возможного. Медсестры погрузили меня в историю болезни новой пациентки. Анализ крови, назначенный врачом Карлы, показал критически низкий уровень эритроцитов – втрое ниже обычного. Вместо нормальных лейкоцитов в ее крови кишели миллионы огромных злокачественных белых клеток – бластов, как их называют в онкологии. Лечащий врач, с грехом пополам поставив верный диагноз, направила Карлу в Массачусетскую больницу общего профиля.
Шагая к Карле по длинному пустому коридору в антисептическом блеске только что вымытого хлоркой пола, я прокручивал в голове список анализов, которые ей нужно провести, и мысленно проигрывал предстоящий разговор. Я с сожалением отметил, что даже в моем сочувствии сквозило нечто заученное, автоматическое. Шел 10-й месяц моей стажировки – двухлетней программы полного погружения для обучения специалистов-онкологов, – и казалось, я уже достиг самого дна. За эти неописуемо тяжелые, мучительные месяцы умерли десятки пациентов, находившихся на моем попечении. Я чувствовал, как медленно привыкаю к смертям и отчаянию – обретаю иммунитет к постоянной эмоциональной перегрузке.
В онкологическом отделении помимо меня было еще шесть стажеров. На бумаге мы выглядели внушительной силой: выпускники пяти медицинских вузов и четырех клинических больниц, обремененные в общей сложности 66 годами медицинской и научной подготовки и 12 последипломными степенями. Но никакие годы или степени не подготовили нас к этой программе. Медицинские кафедры, интернатура и ординатура изматывали нас физически и эмоционально, но первые же месяцы стажировки стерли прежние воспоминания, как если бы все пережитое было игрой, этаким детсадовским уровнем медицинского образования.
Рак поглотил нашу жизнь. Он царил в нашем воображении, захватывал воспоминания, проникал во все разговоры и помыслы. И если мы, врачи, с головой погружались в рак, то жизни наших пациентов он буквально перечеркивал. В романе Александра Солженицына “Раковый корпус” Павел Николаевич Русанов, моложавый мужчина сорока с небольшим, обнаруживает у себя на шее опухоль – и немедленно оказывается в раковом корпусе какой-то безымянной больницы на суровом севере. Диагноз “рак” – не сама болезнь, а просто клеймо больного раком – становится для Русанова смертным приговором. Болезнь лишает его индивидуальности. Она облачает его в больничную пижаму (трагикомически жестокий наряд, зачумляющий не меньше арестантской робы) и полностью лишает права распоряжаться собой. Русанов обнаруживает, что получить диагноз “рак” – все равно что попасть в бескрайний медицинский ГУЛАГ, государство еще более инвазивное и парализующее, чем то, откуда он пришел. (Возможно, Солженицын хотел провести параллель между этой абсурдно-тоталитарной онкологической больницей и абсурдно-тоталитарным государством за ее пределами, однако когда я спросил однажды про эту параллель женщину с инвазивным раком шейки матки, она сардонически ответила: “К несчастью, при чтении этой книги мне метафоры не понадобились. Онкологическое отделение и было страной моего заключения, моей тюрьмой”.)
Будучи врачом, который учится заботиться о больных раком, я лишь краем глаза заглядывал за стены этой тюрьмы, но, даже просто огибая ее, ощущал всю ее мощь – неотвратимую и беспрестанную гравитацию, затягивающую все и вся на раковую орбиту. В первую неделю моей работы коллега, недавно закончивший стажировку, отвел меня в сторонку и дал ценный совет.
– Это называется программой полного погружения, – сказал он, понизив голос. – Но погрузиться полностью – значит утонуть. Не позволяй этому просочиться во все, чем ты занимаешься. Живи хоть какой-то жизнью вне больницы. Тебе это необходимо – иначе затянет с головой.
Однако оказалось, что не утонуть невозможно. Остаток вечера после обхода больных я проводил на больничной парковке, в бетонной коробке, залитой неоновым светом прожекторов. Фоном трещало автомобильное радио, а я сидел в какой-то одуряющей прострации, маниакально проигрывая события минувшего дня. Меня одолевали истории пациентов, преследовали принятые мной решения. Стоило ли назначать очередной курс химиотерапии 66-летнему аптекарю с раком легких, на которого не подействовали все предыдущие лекарства? Что лучше – назначить 26-летней женщине с болезнью Ходжкина испытанное и сильнодействующее сочетание препаратов, рискуя при этом сделать ее бесплодной, или выбрать экспериментальную комбинацию, которая может сберечь фертильность? Стоит ли зачислять на новые клинические исследования испаноговорящую мать троих детей, больную раком толстой кишки, если она не в состоянии толком разобрать формальный, путаный язык бланка согласия?
Поглощенный задачей день за днем контролировать течение рака, я наблюдал, как передо мной в красочных подробностях проигрываются жизни и судьбы моих пациентов – словно в телевизоре с избыточной контрастностью. Я не мог оторваться от экрана. Я инстинктивно понимал, что все эти частные случаи – эпизоды куда более масштабной битвы с раком, однако очертания фронта находились за пределами моего понимания. Я обладал типичной для новичка тягой к истории и столь же типичной неспособностью представить картину в целом.
Однако когда я вынырнул из опустошающего морока двух лет стажировки, мое стремление погрузиться в глобальную историю рака обострилось. Давно ли появился рак? Как начиналась борьба с этим недугом? Или, как часто спрашивали меня пациенты, насколько мы продвинулись в Войне с раком? Как мы к этому шли? Будет ли конец этой войне? И вообще, возможно ли в ней победить?
Книга, которую вы сейчас читаете, выросла из попытки ответить на эти вопросы. Я углубился в историю рака, стремясь придать форму постоянно меняющему обличья недугу, которому мне довелось противостоять. Я обратился к прошлому, чтобы объяснить настоящее. В одиночестве и негодовании 36-летней женщины с третьей стадией рака молочной железы ощущались древние отголоски страданий Атоссы, персидской царицы, что кутала пораженную недугом грудь в ткани, но потом в приступе нигилистической и одновременно провидческой ярости, судя по всему, велела рабу отсечь ее ножом[5]. Желание пациентки вырезать охваченный раком желудок – “не скупясь”, как заявила она мне, – несло память об Уильяме Холстеде: в XIX веке этот хирург, одержимый стремлением к совершенству, удалял опухоли все более масштабными и уродующими операциями, уповая на принцип “больше вырежешь – вернее вылечишь”.
Под такими медицинскими, культурными и метафорическими пластами проблемы рака на протяжении веков зарождалось понимание его биологии – понимание, которое трансформировалось, порой радикально, от десятилетия к десятилетию. Как мы теперь знаем, рак вызывается бесконтрольным размножением клетки. Запускают этот процесс мутации — изменения в ДНК, – которые затрагивают гены, управляющие клеточным делением. В нормальной клетке эффективно работает генетическая сеть, регулирующая процессы деления и смерти. В раковой же клетке эта сеть повреждена, и такая клетка просто не может перестать размножаться.
То, что в основе столь причудливой и многоликой болезни лежит такой вроде бы простой механизм – неограниченное клеточное деление, – указывает нам на неизмеримое могущество этого процесса. Клеточное деление позволяет нам расти, приспосабливаться, восстанавливаться, выздоравливать – жить. И оно же, искаженное, сорвавшееся с узды, позволяет раковым клеткам множиться, благоденствовать, приспосабливаться, восстанавливаться – жить, но ценой нашей жизни. Раковые клетки размножаются быстрее и приспосабливаются лучше. Они – усовершенствованная версия нас самих.
Очевидно, что секрет победы над раком кроется в изобретении способов либо предотвращать мутации в уязвимых клетках, либо уничтожать мутантные клетки, не вредя нормальному делению. Но лаконичность этого утверждения ярко контрастирует с грандиозностью задачи. Злокачественное и нормальное клеточное деление настолько генетически переплетены, что их отделение друг от друга может стать для человечества одним из сложнейших научных вызовов. Рак встроен в наш геном: гены, что спускают с цепи размножение клеток, отнюдь не чужеродны нашим телам; это мутировавшие, искаженные версии тех самых генов, что определяют жизненно важные клеточные функции. Более того, рак встроен в наше общество: увеличивая продолжительность жизни собственного вида, мы неизбежно даем зеленый свет злокачественным процессам (мутации в “раковых” генах накапливаются с годами, соответственно, рак неразрывно связан с возрастом). Если мы стремимся к бессмертию, то к нему же, разве что в несколько извращенном смысле, стремится и раковая клетка.
Каким способом будущие поколения сумеют разделить переплетенные сети нормального и злокачественного деления, мы пока не представляем. (“Подозреваю, что Вселенная, – писал живший в XX веке биолог Джон Б. С. Холдейн, – не только необычнее, чем мы предполагаем, но и необычнее, чем мы в состоянии предположить…”[6] То же относится и к путям науки.) Но ясно одно: как бы ни развивались события в этой истории, она будет опираться на непреходящие достижения прошлого. Это будет история о гибкости, упорстве и изобретательности в борьбе с врагом, которого один писатель назвал самым безжалостным и коварным из всех людских недугов. Но в этой истории найдется место и тщеславию, гордыне, патернализму, заблуждениям, ложной надежде и мошенничеству – все это уже вошло в летопись сражения с болезнью, про которую еще три десятилетия назад трубили, что через год-другой она станет излечимой.
В пустой, безликой больничной палате, куда и воздух-то подавался стерильным, Карла вела собственную войну с раком. Когда я вошел, она сидела на кровати с напускным спокойствием – учительница, делающая заметки. (“Но какие заметки? – вспоминала она потом. – Я просто писала и переписывала одни и те же мысли”.) Ее мать, заплаканная, с красными глазами, только что с ночного рейса, ворвалась в комнату, но тут же молча села в кресло-качалку у окна и со всей силы раскачалась. Бурная деятельность вокруг Карлы сливалась в одуряющий водоворот: медсестры сновали взад-вперед с растворами, интерны натягивали маски и халаты, на стойку капельницы подвешивали пакеты с антибиотиками, чтобы пустить их по венам больной.
Я как мог объяснил ситуацию. Этот день ей придется целиком посвятить разнообразным анализам, беготне из лаборатории в лабораторию. Я возьму у нее образец костного мозга. Патологи проведут другие исследования, однако предварительные анализы показывают, что у Карлы острый лимфобластный лейкоз (ОЛЛ) – одна из самых распространенных злокачественных опухолей у детей, но редкость у взрослых. И – тут я для вящей выразительности выдержал паузу и посмотрел прямо на Карлу – он часто излечим.
Излечим. Услышав это слово, Карла кивнула, ее взгляд прояснился. В воздухе повисли неизбежные вопросы: чем излечим? каковы ее шансы выжить? сколько продлится лечение? Я выложил ей все не самые приятные подробности. Как только диагноз подтвердится, начнется химиотерапия, которая продлится больше года. Карла излечится с вероятностью около 30 %, то есть чуть меньшей, чем один к трем.
Мы проговорили час, а может, и больше. Когда я вышел, было уже 9:30 утра. Город под нами окончательно пробудился. Дверь за мной захлопнулась, и воздушный поток вытолкнул меня наружу, запечатав Карлу в палате.




