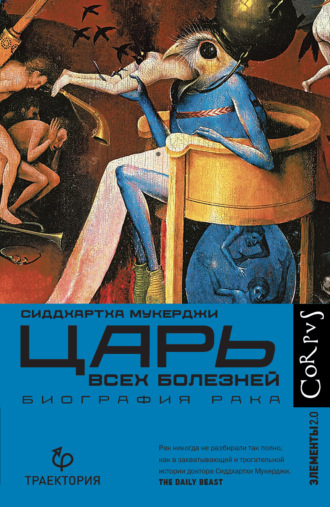
Сиддхартха Мукерджи
Царь всех болезней. Биография рака
Харви Кушинг, ученик и старший хирургический ординатор Холстеда, сосредоточился на мозге. К началу 1900-х он нашел поистине гениальные методы удаления опухолей мозга, включая знаменитые глиобластомы, настолько пронизанные кровеносными сосудами, что в любой миг могут закровоточить, и менингиомы, чехлами окутывающие деликатные жизненно важные структуры мозга. Подобно Янгу, Кушинг унаследовал скрупулезную технику Холстеда – “медленное отделение мозга от опухоли то тут, то там; закладка маленьких подушечек из горячей выжатой ваты для контроля кровотечений”[174], – но не тягу к радикальной хирургии. И в самом деле, при опухолях мозга радикальные операции немыслимы: как бы хирург того ни хотел, удалять этот орган целиком нельзя.
В 1933 году в больнице Барнса в Сент-Луисе еще один хирург-новатор, Эвартс Грэм, провел авангардную операцию по удалению пораженного раком легкого, объединив элементы прежних методик вырезания легкого при туберкулезе[175]. Грэм тоже сохранил особый дух холстедовской хирургии: тщательное удаление всего пораженного органа и вырезание большого участка ткани вокруг опухоли, призванное предотвратить местный рецидив. Однако он пытался обойти ее подводные камни. Не поддаваясь искушению вырезать все близлежащие структуры – лимфоузлы по всей грудной клетке, крупные кровеносные сосуды или фасцию вокруг трахеи и пищевода, – он старался удалять только само легкое и причинять как можно меньше повреждений.
Тем не менее хирурги, одержимые теорией Холстеда и не способные воспринимать иное, сурово осуждали нерадикальную хирургию в любых ее проявлениях. Вмешательство, не преследовавшее цели вычистить рак из тела, презирали как временную меру, “кустарщину”[176]. Провести такую “неполноценную” операцию означало впасть в старый грех ложной доброты, который так ревностно старалось искоренить целое поколение хирургов.
Мягкое свечение жесткой трубки
[В рентгене] мы обрели исцеление недуга.
Los Angeles Times, 1902[177]
Для иллюстрации [разрушительной силы рентгеновских лучей] давайте вспомним, что почти все первопроходцы в медицинских рентгеновских лабораториях Соединенных Штатов умерли от рака, вызванного облучением.
Washington Post, 1945[178]
В конце октября 1895 года, через несколько месяцев после того, как Холстед в Балтиморе явил миру радикальную мастэктомию, в Германии лектор Вюрцбургского университета Вильгельм Рентген работал с катодной трубкой – вакуумной трубкой, в которой распространялись “катодные лучи” (электроны летели от одного электрода к другому), – как вдруг заметил странную утечку. Какая-то невидимая, но мощная лучистая энергия пронизывала слои затемненного картона вокруг трубки и заставляла светиться мягким светом бариевый экран, случайно оставленный на столе.
Рентген позвал в лабораторию свою жену Анну и поместил ее руку между источником лучей и фотопластинкой. Лучи прошли сквозь руку и оставили на пластинке силуэт костей и обручального кольца: внутренняя анатомия руки просматривалась, словно через магическое стекло. “Я видела свою смерть”, – сказала Анна, однако ее муж увидел совсем другое – новый вид излучения, столь мощный, что мог проходить через большинство живых тканей. Рентген назвал его икс-лучами [179].
Первое время рентгеновские лучи считали специфическим побочным продуктом, генерируемым катодными трубками. Однако в 1896 году, через несколько месяцев после открытия Рентгена, французский химик Анри Беккерель, знавший о новом излучении, обнаружил, что некоторые природные вещества – например, уран – самопроизвольно испускают незримые лучи, по свойствам очень похожие на рентгеновские. В Париже Друзья Беккереля, молодые ученые Пьер и Мария Кюри, начали прочесывать природный мир в поисках еще более мощного химического источника “лучей Беккереля”. Пьер и Мария (тогда еще Склодовская, бедная польская иммигрантка, живущая в парижской мансарде) встретились в Сорбонне: их притянуло друг к другу общее увлечение магнетизмом. В середине 1880-х Пьер с помощью крошечных кристаллов кварца сконструировал собственный электрометр – инструмент для измерения очень малых доз энергии. Применив новый прибор, Мария показала, что даже самое незначительное излучение от урановой руды можно измерить количественно. Вооружившись этим инструментом, пара пустилась на поиски новых источников загадочных лучей. Так с измерений начался грандиозный путь еще одного научного открытия.
У горного местечка Яхимов, находящегося на территории современной Чехии, добывали серебро и урановую руду для лакокрасочной промышленности. В отходах добычи – смоляной урановой обманке – Кюри обнаружили следы нового элемента, гораздо активнее урана испускавшего лучи Беккереля[180]. Супруги начали дистилляцию этой смолки, пытаясь выделить источник излучения в максимально чистом виде. Из нескольких тонн урановой обманки с помощью 400 тонн воды для промывки они к 1902 году получили примерно одну десятую грамма нового элемента. Металл, занявший место внизу периодической таблицы элементов, испускал лучи Беккереля с такой силой, что в темноте светился гипнотическим голубым светом, пожирая сам себя. Этот нестабильный элемент был странным гибридом вещества и излучения – веществом, распадающимся на излучение. Мария Кюри назвала новый элемент радием, от латинского radius, “луч”.
Радий благодаря мощности своего излучения выявил новое и неожиданное свойство рентгеновских лучей[181]: их энергия не только проникала сквозь ткани человеческого тела, но и накапливалась в них. Благодаря первому свойству Рентгену удалось сфотографировать руку жены: лучи прошли сквозь кости и мягкие ткани и оставили на пленке теневое отображение скелета. А вот руки Марии Кюри наглядно продемонстрировали второй, мучительный эффект: из-за многомесячных трудов по извлечению из урановой обманки чистого источника радиации вечно раздраженная кожа на ладонях начала сходить почерневшими слоями, словно обожженная изнутри. Несколько миллиграммов радия в пузырьке, лежавшем в нагрудном кармане Пьера, прожгли дыру в плотном твидовом жилете и оставили пожизненный шрам на груди. У человека, демонстрировавшего на ярмарке “магические трюки” с помощью незащищенного устройства с радием, губы распухли и покрылись пузырями, а ногти вылезли[182]. Радиация в какой-то момент добралась и до костного мозга Марии Кюри, навсегда оставив ее малокровной.
Биологи десятилетиями расшифровывали механизм, лежащий в основе всех этих эффектов, однако сам спектр поврежденных тканей – кожа, губы, кровь, десны и ногти – давал важную подсказку: радий атаковал ДНК. Дезоксирибонуклеиновая кислота – инертная молекула, удивительно устойчивая к большинству химических реакций, поскольку ее задача – поддерживать неизменность генетической информации. Однако рентгеновские лучи способны разрывать нити ДНК или создавать токсичные вещества, разъедающие их. Клетки отвечают на подобные повреждения гибелью или – чаще – отказом делиться. Таким образом, рентгеновские и радиевые лучи наносят ущерб первым делом активно возобновляющимся тканям – вроде кожи, ногтей, десен и крови, – клетки которых обязаны делиться чаще.
Это коварное свойство рентгеновских лучей не укрылось от ученых – особенно от исследователей рака. В 1896-м, меньше чем через год после открытия икс-лучей, Эмилю Груббе, 21-летнему студенту-медику из Чикаго, пришла в голову идея использовать их для лечения рака[183]. Пылкий, предприимчивый и бесконечно изобретательный Груббе работал на чикагском заводе по производству вакуумных рентгеновских трубок и смастерил для своих экспериментов их кустарную версию. Наблюдая, как у постоянно облучаемых рабочих шелушились ногти и кожа – да и собственные руки опухали и трескались, – Груббе без труда распространил логику этой клеточной гибели и на опухоли.
29 марта 1896 года прямо в стенах своего завода на Холстед-стрит (названной вовсе не в честь хирурга Холстеда) Груббе с помощью самодельной рентгеновской трубки начал облучать Роуз Ли, пожилую женщину, страдавшую раком молочной железы. Ли перенесла мастэктомию, но рак вернулся и молниеносно разросся в болезненный конгломерат внутри груди. Роуз направили к Груббе в качестве последней меры, скорее даже для удовлетворения его экспериментаторского любопытства, чем для достижения каких-то клинических успехов. Чтобы предохранить незатронутую опухолью часть груди от излучения, Груббе прикрыл ее фольгой, выстилавшей чайную коробку: он не смог найти на заводе ни одного металлического листа. Болезненные сеансы облучения проводились 18 вечеров подряд и отчасти помогли: опухоль изъязвилась, затвердела и съежилась. Это был первый официально задокументированный местный эффект в истории лучевой терапии. Через несколько месяцев после первой лечебной сессии у Ли начались головокружения и тошнота. Рак дал метастазы в позвоночник, мозг и печень, и больная вскоре скончалась. Так Груббе сделал еще одно важное наблюдение: рентгеновские лучи годятся только для лечения местных форм рака и особо не действуют на уже метастазировавшие опухоли[184].
Вдохновленный первым результатом, пусть даже временным, Груббе принялся облучать десятки пациентов с неметастатическим раком. Так родилось новое направление онкомедицины – радиационная онкология, или радиотерапия. Профильные клиники множились в Европе и Америке, точно грибы после дождя. В начале 1900-х, меньше чем через 10 лет после открытия Рентгена, врачи буквально впали в экстаз от перспектив излечения рака облучением. “Кажется, эта терапия способна полностью исцелять от всех форм рака, – заметил один чикагский врач в 1901 году. – Даже не представляю, чего бы она не могла”[185].
После того как в 1902 году супруги Кюри открыли радий, хирурги получили возможность бомбардировать опухоли в тысячу раз более мощными потоками энергии. В вихре воодушевления проводили конференции по высокодозному облучению и создавали профильные медицинские общества. Радий вплавляли в золотую проволоку и вшивали прямо в опухоли, чтобы обеспечить еще более высокий локальный уровень радиации. Хирурги помещали в опухоли брюшной полости специальные радоновые гранулы[186]. К 1930-1940-м годам в США образовался избыток радия, и его начали продавать широким слоям населения, размещая рекламу на последних страницах журналов[187]. Параллельно развивались технологии производства лучевых трубок, и к середине 1950-х эти устройства могли обрушивать на опухолевые ткани просто испепеляющее излучение.
Радиотерапия катапультировала онкологию в ее атомную эру – эру, насыщенную не только надеждами, но и опасностями. Соответственно и словарь эпохи, ее образы и метафоры прониклись могущественным символизмом атомной энергии, обрушившейся на рак: “циклотроны”, “высоковольтные лучи”, “линейные ускорители”, “нейтронные пучки”.. Одному пациенту предложили представить себе лучевую терапию в виде “миллионов крохотных энергетических пулек”[188]. В другом отчете о сеансе радиотерапии читаются напряжение и ужас космического полета: “Пациента кладут на носилки, которые задвигают в кислородную камеру. Команда из шести докторов, медсестер и лаборантов хлопочет над камерой, а радиолог тем временем выставляет бетатрон[189] в нужное положение. Захлопнув люк в торце камеры, лаборанты начинают нагнетать внутрь кислород. Через 15 минут после достижения целевого давления <…> радиолог включает бетатрон и обстреливает опухоль лучами. После процедуры больному проводят декомпрессию, как подводникам, и увозят в послеоперационную палату”[190].
Пациенты, которых запихивали в барокамеры через люки, держали взаперти под пристальным наблюдением нависающих людей и видеокамер, до отказа накачивали кислородом под избыточным давлением, подвергали декомпрессии, а потом отправляли на реабилитацию, выдерживали натиск лучевой терапии как незримое благословение.
Справедливости ради, для некоторых форм рака она и впрямь стала благословением. Как и хирургия, облучение в высшей степени эффективно уничтожало локальные новообразования. Под рентгеновскими лучами опухоли молочной железы испарялись, а глыбы лимфом таяли, точно снег. Одна пациентка с опухолью головного мозга вышла из годичной комы и поспешила насладиться телетрансляцией баскетбольного матча в своей палате[191].
Но как и хирургия, радиологи столкнулась с внутренне присущими неустранимыми ограничениями. Эмиль Груббе обнаружил первое из них в самых ранних экспериментах: поскольку рентгеновские лучи можно было направить лишь на ограниченную область, облучение не годилось для борьбы с метастатическим раком[192]. Увеличение дозы облучения вдвое или вчетверо не делало лечение успешнее. Напротив, радиация в дозах, сильно превышающих порог переносимости, оставляла пациентов слепыми, покрытыми ужасными шрамами и ожогами.
Второе ограничение оказалось куда более коварным: радиация сама вызывала рак. Тот же повреждающий ДНК эффект рентгеновских лучей, что убивал быстро делящиеся клетки, провоцировал и мутации, ведущие к раку. Чуть больше чем через 10 лет после открытия радия нью-джерсийская корпорация U. S. Radium начала примешивать радий к краске. Радиолюминесцентная краска, светившаяся в темноте зеленовато-белым, получила торговое наименование Undark (“рассеивающий тьму”). Хотя владельцы и ученые U. S. Radium были осведомлены о многих опасных эффектах радия, компания использовала этот состав для росписи циферблатов, широко рекламируя светящиеся в темноте часы. Раскрашивание стрелок и циферблатов требовало точности и мастерства, и занимались этим чаще всего девушки с уверенными и ловкими руками. Им не рекомендовали никаких мер предосторожности, зато советовали почаще облизывать кончик кисточки, чтобы знаки выходили четкими[193].
Работницы вскоре начали жаловаться на боль в челюстях, утомляемость, проблемы с зубами и кожей. В конце 1920-х медицинское обследование выявило у многих из них некрозы челюстных костей, ожоговые рубцы на языке и стойкую анемию – признак сильного повреждения костного мозга. Поднесенные к пациенткам счетчики радиоактивности почти зашкаливало. В последующие десятилетия у облученных радием работниц диагностировали десятки случаев рака: саркомы и лейкозы, опухоли костей, языка, шеи и челюстей. В 1927 году пять пострадавших – пресса окрестила их “радиевыми девушками” – подали в суд на U. S. Radium. Ни у одной из них к тому времени еще не нашли рака, однако все пятеро страдали от острого, токсического действия радия – от некроза челюстей, кожи и зубов. Через год дело урегулировали во внесудебном порядке: компания должна была разово выплатить каждой девушке по 10 тысяч долларов, пожизненно перечислять пенсию по 600 долларов в год[194], покрыть судебные и медицинские расходы и оплачивать обоснованное лечение впредь. Однако “компенсации” выплачивать почти не пришлось: “радиевые девушки”, тогда уже неспособные даже руку поднять, чтобы присягать в суде, скончались от лейкемии или иных форм рака в ближайшее десятилетие.
Мария Склодовская-Кюри умерла от лейкемии в июле 1934-го [195]. Эмиль Груббе, регулярно получавший меньшие дозы ионизирующего излучения, все равно пал его жертвой. К середине 1940-х ему один за другим ампутировали пальцы с некрозами костей и гангреной; его лицо было испещрено шрамами от операций по удалению вызванных радиацией злокачественных и предраковых новообразований[196]. Груббе скончался 85-летним в 1960 году, сраженный распространившимися по его телу разнородными опухолями.
Столь сложные взаимоотношения радиации с раком – лечебный противораковый эффект в одних случаях, канцерогенный в других – приглушили первоначальный энтузиазм ученых. Радиация могла служить мощным невидимым скальпелем – но не более чем скальпелем. А в битве против рака возможности скальпеля, каким бы искусным он ни был и как бы глубоко ни проникал, все же ограничены. Многие формы рака, особенно нелокализованные, требовали более избирательной терапии.
В 1932 году Уилли Мейера, нь10-йоркского хирурга, одновременно с Холстедом разработавшего радикальную мастэктомию, попросили выступить с обращением на ежегодной встрече Американской хирургической ассоциации. Мейер не мог этого сделать, поскольку был тяжело болен и прикован к постели, однако он написал короткую, всего из шести абзацев, речь. Через шесть недель после смерти Мейера, 31 мая, эту речь зачитали вслух перед полным залом хирургов. Она содержала недвусмысленное признание: онкомедицина достигла своеобразного логического предела, и ей нужно двигаться в новом направлении. “Мы считаем, что если бы за хирургическим вмешательством всякий раз следовало системное биологическое лечение, – писал Мейер, – то после должным образом проведенной радикальной операции у большинства пациентов не случалось бы рецидивов”[197].
Мейер распознал очень важный принцип развития рака: даже если недуг зарождается как местная опухоль, он неизменно поджидает случая вырваться из заточения. К тому времени как пациент обращается к доктору, болезнь часто успевает распространиться, улизнуть за пределы хирургического контроля, разлившись по телу подобно черной желчи, которую Гален так живо представлял себе два тысячелетия назад.
Получается, Гален в своем афористичном умозаключении случайно оказался прав – как был прав Демокрит в отношении атома или Эразм Роттердамский в отношении Большого взрыва за много веков до открытия галактик. Конечно, Гален не установил подлинных причин рака. В организме нет никакой черной желчи, которая, скапливаясь и застаиваясь, пузырилась бы опухолями. Однако в этой своей фантазийной, интуитивной метафоре он каким-то сверхъестественным образом подметил суть рака. Рак часто бывает гуморальным недугом, болезнью телесных жидкостей. Подобно крабу, цепкий, разбрасывающий во все стороны свои отростки и пребывающий в постоянном движении, он способен пробираться по незримым каналам от одного органа к другому. Это и в самом деле “системное заболевание”, как постановил когда-то Гален.
Красители и целители
Люди, не сведущие в химии и медицине, вероятно, просто не представляют, до чего же сложна проблема лечения рака. Это почти так же трудно – не совсем, но почти, – как найти вещество, которое, скажем, будет растворять левое ухо, а правое оставлять в целости и сохранности. Различие между раковой клеткой и ее нормальной предшественницей примерно так же невелико.
Уильям Воглом[198]
Жизнь – это <…> химическая случайность.
Пауль Эрлих, будучи школьником, 1870 [199]
Системное заболевание требует системного же лечения – но какая системная терапия способна вылечить рак? Может ли лекарство, подобно микроскопическому хирургу, провести идеальную фармакологическую мастэктомию – удалить опухолевые клетки, но при этом пощадить нормальные? Не только Уилли Мейер, но и поколения врачей до него грезили о таком волшебном средстве. Только как же препарат, циркулирующий по всему телу, может специфически атаковать лишь пораженный орган?
Термин “специфичность” тут означает избирательность действия – способность лекарства отличать мишень, на которую оно направлено, от самого хозяина. Убить рак в пробирке – не такая уж сложная задача: химический мир полон сильных ядов, которые даже в исчезающе малой дозе расправляются с раковой клеткой за считаные минуты. Проблематично найти селективный, избирательный яд, убивающий рак и одновременно щадящий пациента. Неспецифическая системная терапия – все равно что оружие массового поражения. Мейер осознавал, что антираковый яд окажется полезным лекарством, только если будет действовать как фантастически маневренный скальпель – достаточно острый, чтобы убить рак, и достаточно избирательный, чтобы не трогать самого пациента.
Охоту за такими специфичными системными противораковыми ядами активизировали поиски совершенно другого химического вещества. История эта началась с колониализма и его главной добычи – хлопка. В середине 1850-х в английские порты поступало огромное количество хлопка из Индии и Египта, и производство текстиля в Англии превратилось в необыкновенно прибыльный бизнес, крупную индустрию, способную поддерживать широкий спектр вспомогательных отраслей. В промышленной зоне центральных графств через Глазго, Ланкашир и Манчестер протянулась огромная сеть фабрик. Экспорт текстильных товаров сделался доминирующей отраслью британской экономики. С 1851 по 1857 год экспорт набивных тканей вырос более чем в четыре раза – с 6 до 27 миллионов рулонов в год. В 1784 году хлопчатобумажные товары составляли всего 6 % от общего британского экспорта, а в 1850-х их доля доросла уже до 50 %.[200]
Текстильный бум породил бум в красильной промышленности, однако две эти отрасли в технологическом отношении удивительно не соответствовали друг другу. В отличие от производства ткани ее окраска была все еще доиндустриальным занятием. Красители для ткани приходилось выделять из скоропортящихся растительных источников: ржаво-красный кармин – из корня марены красильной, темно-синий – из листьев индигоферы. Архаичные технологии выделения требовали терпения, опыта и постоянного контроля. Печать красителями на тканях (например, для производства популярного набивного ситца) была еще сложнее: многоэтапная обработка с применением загустителей, протрав и растворителей могла затянуться на несколько недель[201]. Текстильная промышленность остро нуждалась в профессиональных химиках, которые могли бы растворять отбеливатели и очистители, присматривать за выделением красителей и искать лучшие способы их закрепления на тканях. В лондонских институтах быстро набирала популярность новая дисциплина – техническая химия, сосредоточенная на синтезе соединений для окраски текстиля.
В 1856 году Уильям Перкин, 18-летний студент Королевского химического колледжа, наткнулся на решение, ставшее Святым Граалем этой промышленности: недорогой химический краситель, который можно получать буквально из ничего. В лондонском Ист-Энде, в своей импровизированной домашней лаборатории (“половине длинной комнатушки с рабочим столом и несколькими полками для склянок”[202]) Перкин окислял в институтских колбах неочищенный анилин и в результате реакции получил странный черный осадок – совсем не то, что ожидал[203]. Отмывая колбу метанолом, химик обнаружил в ней раствор цвета бледных фиалок. Поскольку в эпоху одержимости окрашиванием текстиля любое цветное вещество рассматривалось как потенциальный краситель, Перкин быстро окунул в раствор кусочек ткани и убедился, что новое вещество годится на эту роль. Более того, краска не вымывалась и не выцветала. Перкин назвал вещество “анилиновый фиолетовый”[204].
Открытие Перкина оказалось даром божьим для текстильной промышленности. Анилиновый фиолетовый отличался дешевизной и долговечностью: получать и хранить его было несравненно проще, чем растительные пигменты. Перкин вскоре увидел в анилине молекулярную основу и для иных красителей – этакий химический скелет, на который можно навешивать разные боковые цепочки и получать так широкий спектр ярких красок. К середине 1860-х текстильные фабрики Европы наводнили новые синтетические красители разнообразных оттенков сиреневого, синего, малинового, аквамаринового, красного и фиолетового. В 1857 году Перкина, которому едва исполнилось 19, удостоили полноправного членства в Лондонском химическом обществе.
Анилиновый фиолетовый синтезировали в Англии, однако производство синтетических красителей вошло в зенит не там. В конце 1850-х Германия, страна стремительно развивающейся промышленности, мечтала потягаться за лидерство на текстильных рынках Европы и Америки. Но в отличие от Англии у нее практически не было доступа к натуральным красителям: к тому времени, как Германия вступила в колониальную гонку, мир уже раскроили на множество кусочков, и трофеев больше не осталось. Поэтому немецкие промышленники бросились развивать производство искусственных красителей, надеясь закрепиться в индустрии, посягательства на которую раньше считали делом безнадежным.
В Англии изготовление красителей быстро превратилось в высокоразвитый химический бизнес. В Германии синтетическая химия, подстегиваемая текстильной промышленностью, обласканная государственными субсидиями и подпираемая мощным экономическим ростом страны, пережила еще более колоссальный подъем. В 1883 году объем произведенного в Германии синтетического ализарина, красного красителя, имитирующего природный кармин, достиг 12 тысяч тонн, оставив далеко позади результат фабрики Перкина в Лондоне[205]. В соревновательном режиме стараясь производить более яркие, стойкие и дешевые красящие вещества, немецкие химики пробили своей продукции путь на текстильные фабрики по всей Европе. К середине 1880-х Германия выбилась в чемпионы химической гонки – предшественницы куда более омерзительной гонки вооружений, – став “красильной бадьей” Европы.
Изначально немецкие химики-синтетики всего лишь обслуживали красильную промышленность. Однако, окрыленные успехами, они начали синтезировать не только красители и растворители, но целую вселенную новых молекул: фенолы, спирты, бромиды, алкалоиды, ализарины и амиды. Многие из этих молекул в природе не встречались. К концу 1870-х химики создали столько новых веществ, что уже и сами не знали, куда их приспособить. Техническая (она же – практическая) химия превращалась в собственную карикатуру, пытаясь придумать практическое назначение веществам, которые она так неистово стремилась изобрести.
Раньше взаимодействия синтетической химии и медицины в основном завершались обоюдным разочарованием. Врач Гидеон Гарвей, живший в XVII веке, однажды назвал химиков “самыми бесстыжими, невежественными, напыщенными, жирными и хвастливыми людьми на свете”[206]. Взаимное презрение и враждебность между двумя этими дисциплинами сохранялись не одну сотню лет. В 1849 году Август Гофман, научный руководитель Уильяма Перкина в Королевском колледже, мрачно рассуждал о пропасти между медициной и химией: “Ни одно из этих веществ до сих пор не нашло применения, связанного с сохранением жизней. Нам не удавалось использовать их <…> для исцеления недугов”[207].
Впрочем, Гофман догадывался, что граница между синтетическим и природным мирами рано или поздно исчезнет. В 1828 году преподаватель Берлинской промышленной школы Фридрих Вёлер вызвал целую метафизическую бурю в науке, когда в результате нагревания цианата аммония, простой неорганической соли, получил мочевину – химическое вещество, вырабатываемое почками[208]. Эксперимент Вёлера – совсем непритязательный, на первый взгляд, – имел огромное значение для науки. Мочевина считалась “природным” веществом – но ее предшественником оказалась неорганическая соль. Тот факт, что вырабатываемое организмом соединение можно запросто создать в колбе, грозил подорвать устоявшиеся в рамках теории витализма представления о живых организмах: веками считалось, что химия жизни наделена особым мистическим свойством – жизненной силой, которую невозможно воссоздать в лаборатории. Эксперимент Вёлера опровергал эту теорию, доказавая, что органические и неорганические вещества взаимопревращаемы. Биология по своей сути тоже оказывалась химией: возможно, даже человеческое тело было не более чем сосудом с бурно реагирующими химическими веществами, этакой пробиркой с ногами, руками, глазами, мозгом и душой.
С кончиной витализма[209] эта логика неминуемо должна была распространиться и на медицину. Если в лаборатории можно синтезировать химические вещества, характерные для живых существ, то будут ли они работать в живых системах? Если биология и химия так тесно переплетены, способна ли молекула, полученная в колбе, влиять на внутренние процессы биологического организма?
Вёлер, врач по образованию, вместе с учениками и соратниками попытался перейти из мира химии в мир медицины. Однако синтезированные ими вещества были слишком примитивными для вмешательства в работу живых клеток.
И все же тогда уже существовали подходящие, более сложные химические соединения: лаборатории красильных фабрик во Франкфурте буквально ломились от них. Чтобы построить желанный мост между биологией и химией, Вёлеру только и надо было, что предпринять однодневную поездку из своей геттингенской лаборатории во Франкфурт. К сожалению, ни сам Вёлер, ни его студенты так и не сделали этого последнего шага. Широчайшая линейка молекул, без дела хранившихся на полках у немецких текстильщиков, с тем же успехом могла быть на другом континенте.
Только через 50 лет после эксперимента Вёлера продукты красильной индустрии наконец физически соприкоснулись с живыми клетками. В 1878 году в Лейпциге 24-летний студент-медик Пауль Эрлих, подыскивая себе тему для диплома, предложил использовать текстильные красители – разноцветные производные анилина – для окраски животных тканей. Эрлих надеялся, что такое окрашивание в лучшем случае позволит четче видеть ткани под микроскопом. Но, к своему изумлению, он обнаружил, что эти красители не затемняют весь препарат, а действуют избирательно. Производные анилина окрашивали лишь части клетки, вырисовывая одни структуры и не затрагивая другие. Складывалось впечатление, что они способны различать внутриклеточные химические вещества – избирательно связываться только с какими-то из них.
Эта молекулярная специфичность, столь ярко выраженная в реакции между красителем и клеткой, не давала Эрлиху покоя. В 1882 году, работая с Робертом Кохом, он обнаружил еще одну избирательную синтетическую краску[210], на этот раз предпочитающую микобактерий – микроорганизмов, которые, как установил Кох, вызывают туберкулез. Через несколько лет Эрлих обнаружил, что в ответ на введение животным определенных токсинов в их телах образуются антитоксины, связывающие и нейтрализующие эти яды с удивительной избирательностью (позже такие антитоксины описали как антитела). Он выделил из лошадиной крови сильнодействующую сыворотку против дифтерийного токсина, перебрался в Институт изучения и проверки сывороток в Штеглице, где наладил промышленное производство противодифтерийной сыворотки, а затем основал во Франкфурте-на-Майне собственную лабораторию.
Но чем шире Эрлих исследовал биологический мир, тем чаще возвращался к изначальной своей идее. Биологическая вселенная полна молекул, выбирающих себе партнеров, – совсем как хороший замок, который открывается только идеально подходящим ключом: токсины неразделимо связываются с антитоксинами, красители выделяют только определенные части клетки или ловко выхватывают из смеси микробов только один вид. Если биология, рассудил Эрлих, всего лишь изощренная игра химических соединений в “найди пару”, то вдруг какое-либо химическое вещество способно различать бактериальные и животные клетки и убивать болезнетворных микробов, не причиняя вреда больному?




