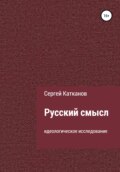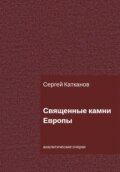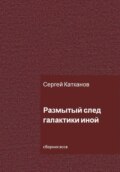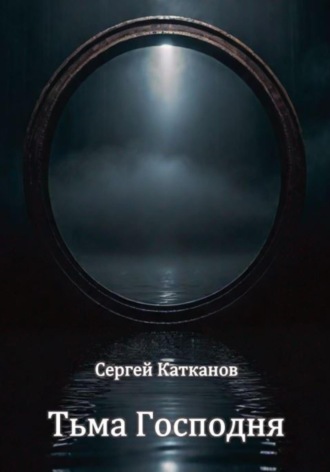
Сергей Юрьевич Катканов
Тьма Господня
Триумф воли и его последствия
Посмотрел фильм Познера о Японии и был, мягко говоря, обескуражен. К Познеру претензий нет, а вот что касается японцев… Я всегда очень их уважал. Мне в высшей степени импонирует их аскетизм, пренебрежение мягкими постелями и вкусной едой, приверженность к простой одежде и безразличие к драгоценностям. Их простота. Их невероятная боевая храбрость. Их представления о чести. Конечно, честь самурая совсем не то же самое, что честь рыцаря, базовые основы другие. Но японская верность долгу не может не восхищать.
И одновременно с этим народ суровой воинской культуры так эстетически развит, что просто диву даешься. Каждый самурай – поэт, а японская поэзия столь уникальна и самобытна, что не многим, полагаю, удалось исчерпать её глубину.
Японский гений – это гений воли. Волевые качества личности развиты в этом народе до крайней степени возможного.
Их презрение к прогрессу поражает, их уникальный консерватизм оставался незыблемым до второй половины Х1Х века, но и в ХХ веке японцы дали миру столь невероятные образцы своего глубинного консерватизма, они показали такую реликтовую верность древним традициям, что выглядели народом из прошлого. Или из вечности.
И вдруг оказывается, что в современной Японии всеобщей любовью и большим спросом пользуется так называемая «манга». Это книжки, состоящие из одних картинок с короткими подписями – то же самое, что и американские комиксы, лишь с некоторым национальным колоритом.
Когда такой белибердой увлекаются дети, это понятно. Дети ещё плохо умеют читать, им легче получать информацию через картинки. Но когда это становится взрослым увлечением, тут уже можно говорить об отставании в умственном развитии. Именно так я всегда и понимал американское увлечение комиксами. Америкосы – народ настолько неглубокий, примитивный и неразвитый, что их средний уровень интеллектуального развития соответствует в лучшем случае подростку, да и подросток этот выглядит довольно тупым.
Ни сколько не удивительно, что такой убогий народ породил комиксы, читать нормальные книги для них сложновато, слишком много букв. Но как могут увлекаться мангой японцы, такие глубокие и высокоразвитые? Японская простота ни сколько не напоминает примитивность, за ней скрываются бесчисленные смыслы. Так откуда же у них это увлечение примитивной полиграфией?
Потом начал вспоминать всё, что знаю о японцах и понял, что тут нет никакого противоречия, всё закономерно. Что писали японцы? Чудесные стихи. Это эстетическое развитие. Тексты, относящиеся к «Бусидо». Это волевое развитие. А есть ли у них философские трактаты? Нет. Где интеллектуальные вершины японской культуры? Отсутствуют.
Китай, к примеру, подарил миру великих мыслителей – Лао-цзы и Конфуция. Аналогичных фигур у японцев нет, страна восходящего солнца не внесла никакого вклада в копилку мировой мысли. В сфере развития интеллекта народ ямато, едва родившись, сразу же попал в тень Китая и, видимо, даже не пытался с ним в этом конкурировать. У японцев другая судьба, другие таланты, интеллектуальную сторону своего сознания они как-то совсем не развивали. Японское общество не выработало интеллектуальных запросов. И дело закончилось мангой, символизирующей умственное убожество.
Почему так? За всё надо платить. Что-то одно в себе можно развивать только за счёт чего-то другого. Если народ «прокачивает» свои волевые качества, это всегда будет в ущерб качествам интеллектуальным, так же как спортсмены сильно умными не бывают. Если хочешь чего-то добиться, надо чем-то жертвовать. В итоге японцы и в ХХ веке поражали весь мир своей железной волей, но не припомню, когда бы японцы поражали мир глубиной своей мысли.
Эти вещи мне стали понятны, когда посмотрел знаменитый фильм Лени Рифеншталь «Триумф воли». Это о нацистском съезде. Госпожа Рифеншталь хорошо передала атмосферу нацистского сходняка и показала подлинный триумф воли, равно как и паралич мозга. Ни в одном из выступлений не было даже намёка на хотя бы простенькую мысль, не было озвучено даже какой-нибудь бесхитростной идеи. А на фига? Кто хочет добиться триумфа воли, тот должен выключить мозги. К чему бесплодная рефлексия тем, кто хочет стать нацией солдат? Ну что ж, флаг им в руки и вперед на мины.
Нечто подобное произошло и с японцами. Говорят, японский народ способен реагировать на вызовы, как один человек. Это воистину уникальное качество, но за счет чего достигается такой результат? Если люди привыкли думать, то они со всей неизбежностью думают по-разному. Миллионы людей не могут думать одинаково. Если же миллионы способны подчиняться единому волевому импульсу, значит они вообще не привыкли думать, им это мешает. А поскольку каждый раз отключать мозги довольно сложно, то лучше их совсем не иметь.
Сегодня Япония верный союзник США. Вот ведь тоже феномен. Как мог такой развитый и глубокий народ с древнейшей культурой стать союзником убогого и мелкого народа, регулярно дающего образцы полного бескультурья и умственной неполноценности? Можно, конечно, сказать, что военные базы США на территории Японии делают эту страну неизбежным союзником американцев. Но, кажется, это искренне. Во всяком случае, в некоторых японских фильмах на полном серьёзе называют американцев не просто союзниками, но и друзьями японцев. Очевидно, не все потомки самураев в восторге от американцев, но эта тенденция у них безусловно есть.
Разве они не видят, что американцы убогие и недоразвитые? Но в свете нами сказанного это выглядит вполне логично. Это своего рода союз комиксов и манги, так что удивляться нечему. Японцы не видят умственного убожества американцев, потому что и сами в интеллектуальной сфере больших вершин не достигли. Рыбак рыбака узнает издалека.
Когда я понял эти вещи, моё уважение к японцам в общем-то не пошатнулось. Японцев есть за что уважать. Их эстетическое развитие восхищает, их волевые качества выше всяких похвал, их представления о долге поразительны, их презрение к роскоши и комфорту достойно подражания. Но за свои многочисленные и бесспорные достоинства самураи заплатили тяжелую цену, и теперь стая заокеанских олигофренов вертит ими, как хочет.
У японцев не хватает мозгов даже на то, чтобы понять: по ментальности русские гораздо ближе к ним, чем американцы. По всем признакам Россия и Япония – естественные союзники, но американское ярмо показалось самураям столь сладким, что теперь они уже смотрят на мир американскими глазами, охотно присоединяясь к западному русофобскому хору. Дело тут совсем не в северных Курилах, просто ребята головой думать и раньше не особо умели, а теперь совсем разучились.
А вот Китай сохранил собственную душу вопреки всему и не смотря ни на что, и америкосы сколько не стараются, ни как не могут окрутить китайцев. Отстаивая свои интересы, китайцы думают головой. В чем сила Китая? У них был Конфуций. А у японцев своего Конфуция не было.
Быть живым не модно
Не могу простить себя за то, что когда-то уважал Акунина. Моим любимым писателем он, конечно, никогда не был, но Фандорин мне нравился. Такой весь из себя тонкий и звонкий, умный и элегантный герой-одиночка. Я позволил Акунину себя окрутить. Разочарование было ужасным. Хрен с ним, с Акуниным, но ведь тут в пору было в самом себе разочароваться. Где были мои мозги? Где было моё чутьё? Как я мог повестись на такую дешевую разводку? Господи, как медленно человек развивается и растет. Это я о себе.
Прозрение началось с того, что я посмотрел обширное интервью с Акуниным. Более всего меня поразило убожество его мысли, какая-то спутанность сознания, постоянные логические нестыковки между различными утверждениями. Стало понятно, что у этого человека нет ни каких продуманных и последовательных убеждений, лишь какие-то обрывки очень примитивных мыслей. И это создатель Фандорина? Да что же такое Фандорин?
И вдруг я понял, что Фандорин – вымышленный персонаж. Эта оценка может показаться странной по отношению к герою художественного произведения, где вроде бы все персонажи по определению являются вымышленными. Но нет. Персонажи хороших книг – живые, потому что взяты из жизни и одухотворены внутренним огнем автора. Вспомните хоть Печерина, Базарова, Карамазовых. Никто не назвал бы этих персонажей вымышленными, у них есть своё самостоятельное бытие. А Фандорин ненастоящий, искусственный, выдуманный, он не из жизни взят. Откуда же? Из литературы. Он вторичен, поэтому он не живой.
Похоже, жизнь вообще не интересует Акунина, его сознание набито книгами, оттуда он и берет свои персонажи. Они имеют к жизни лишь косвенное, опосредованное отношение. Автор их не родил, а сконструировал по чертежам, которые ему известны из книг. К душе автора они вообще не имеют никакого отношения, если, конечно, у души этого автора есть вообще хоть какое-нибудь содержание. Все персонажи Акунина – своего рода чудовища Франкенштейна, не рожденные, а созданные в лаборатории, сконструированные из частей некогда живых организмов.
Стал вспоминать акунинских персонажей одного за другим и обратил внимание на то, что все они какие-то прилизанные, эталонные, слишком гладко обработанные. Живые персонажи всегда немного растрепанные, шероховатые, в чем-то незавершенные, потому что невозможно придать своему пониманию жизни завершенный характер. Если же идти по чужим следам, брать некогда знаменитые типы, их можно доделывать, шлифовать, придавать им законченный вид. В чем-то они будут даже лучше настоящих. Вот только они не живые.
Хотите образ гениального сыщика? Их полно было в литературе, но акунинский – самый лучший, потому что учитывает и использует всё, что было в этом смысле до него.
А не угодно ли вам, господа, байронического героя, этакого сумрачного, загадочного и очень одинокого? Щас сделаем. Это ведь не сложно, лекала-то есть. Да так красиво сделаем, что Байрон в гробу от зависти завертится. Далеко этому лорду было до Акунина.
А, может быть, вас влечет романтика алых парусов? Нет проблем. Тяп-ляп и готово. Александр Грин, может быть, и не обзавидовался и даже попытался из гроба плюнуть в Акунина, но плевки из гроба не долетают.
А как насчет таинственной и загадочной работы контрразведчиков, это которые шпионов ловят? Так на коленке сделаю. Собственно, всё давно уже сделано, осталось лишь доработать и придать товарный вид образам героических контрразведчиков.
Все акунинские типы давно уже созданы до него, полюбились читателю и прошли проверку временем, так что нашему литературному иждивенцу остается лишь снимать «сливки, пенки и тому подобную сметану».
Постепенно Акунин так увлекся своим псевдотворчеством, что потерял чувство меры, о чем наглядно свидетельствует его роман «Ф.М.» – о Достоевском. Внутри этого романа отрывками дан достаточно объемный текст, якобы принадлежащий перу самого Федора Михайловича и являющий собой первоначальный вариант «Преступления и наказания». Акунин как бы говорит нам: «Да что такое этот ваш Достоевский? Хотите напишу, как он, и даже интереснее его?»
Настолько тупое самомнение чрезмерно даже для Акунина. Имитировать стиль Достоевского на самом деле не так уж и сложно, у Акунина это во всяком случае получилось. Сделать убийцей не Раскольникова, а Свидригайлова, тоже ума много не надо. А вот «идейку» Акунин приписывает Свидригайлову куда более заковыристую, чем была у Раскольникова. После этого Акунин, видимо, не сомневается, что у него получилось куда круче, чем у Достоевского, ведь он гораздо глубже заглянул в темные глубины извращенного человеческого сознания, чем это удалось Федору Михайловичу.
После этого хочется сказать Акунину: «Дурак ты, братец. Дурак и наглец. Ты так ни чего и не понял». Писать «под Достоевского» и правда не сложно, это доступно любому хорошему стилисту. Залезть в грязь человеческой души можно и поглубже Достоевского, это доступно любому хорошему психоаналитику. Но имитировать глубину содержания Достоевского невозможно, а кто думает, что он это может, тот дурак.
Акунин воспринял Федора Михайловича предельно поверхностно, а потому решил, что и сам он может не хуже. Но «Преступление и наказание» родилось из бездны страданий, чтобы написать такое, надо спуститься в ад. А как вы думаете, Акунин страдал, когда занимался изготовлением своей ремесленной поделки? Риторический вопрос.
Настоящая литература рождается из невыносимой боли, хорошая книга это крик, который вырывается из разорванного сердца художника. И вот представьте себе холеного пижона с пустыми глазами и холодной душой, который добросовестно ознакомился со всеми этими криками боли, сделал выводы о том, какие крики приносят коммерческий успех и занялся изготовлением имитаций.
Настоящие книги пишут кровью сердца. Имитаторы хладнокровны и расчетливы. Писатель хочет донести до читателя открывшуюся ему правду, имитатор хочет издаваться и получать хорошие гонорары. Одни горят, а другие рисуют огонь. Для одних это судьба, а для других просто игра. Одни воспринимают жизнь предельно серьёзно, другим в общем-то наплевать на то, о чем они пишут, всё это для них лишь путь к успеху. «Поэты ходят пятками по лезвию ножа и режут в кровь свои босые души». А такие, как Акунин, от лезвия ножа будут держаться за километр, а то ведь и правда, чего доброго порезаться можно.
Раньше имел самые приблизительные представления о том, что такое постмодернизм, но по поводу Акунина мне захотелось сказать, перефразируя слова из одного старого фильма: «Сдается мне, господа, что это был постмодернизм». Чтобы не быть голословным, решил почитать кое-что про постмодернизм. Всё срослось.
Постмодернизм это по сути неверие ни во что и отказ что-либо воспринимать всерьёз. Если модерн заменил веру в Бога на веру в человека, то постмодернизм утратил веру так же и в человека. Постмодерн больше не верит ни в силу человеческого разума, ни в прогресс, который отказывается считать безусловной ценностью. Постмодерн не верит даже в реальность нашего мира, считая его иллюзорным. Вот уж воистину, пойдешь на Запад, придешь на Восток. Истина для постмодерна условна и относительна, абсолютной истины не существует, во всяком случае, она не может быть познана. Ни чего не принимая всерьёз, постмодерн норовит всё облекать в игровую форму.
Раньше я думал, что ни чего отвратительнее модерна уже и быть не может. Оказалось, что может. Постмодерн куда отвратительнее. Модернисты были для нас нормальными внятными врагами, имевшими ценности противоположные нашим. Модернисты были, так же как и мы, серьёзны, так же, как и мы, идейны. Постмодерн ни чего не принимает всерьёз, у него вообще нет ни каких ценностей. С модернистами можно было спорить. С постмодернистами спорить уже невозможно. Они вам просто скажут: «Пожалуйста, можно и так считать, как вы считаете, стоит ли по этому поводу горячиться?» Это люди с пустыми глазами, они ни по какому поводу горячиться не будут.
Только сейчас понял, что я лично знал многих постмодернистов. Эти люди не имели никакого отношения ни к искусству, ни к философии, но мироощущение имели стопроцентно постмодернистское. Всё условно, всё относительно, поэтому ничто не важно, а жить, значит бесконечно стремиться к разнообразным удовольствиям, избегая всего, что этому мешает. Из этого животного способа жить не так уж сложно сделать философию. И ты будешь считаться интеллектуалом, не имея в голове ни одной внятной мысли. Такие люди были всегда, просто сейчас они побеждают и идут в авангарде эпохи.
Так вот всё это имеет к Акунину самое непосредственное отношение. Это действительно постмодернист. Он сам не принимает всерьёз то, что пишет. Псевдотворчество Акунина ни какого отношения к литературе не имеет. То, чем он занимается, это постмодернистские литературные игры. Вы думаете, он очень любит XIX век? Нет, он просто играет в XIX век. Если прогресс – химера, то почему бы и не поиграть во что-нибудь такое, знаете ли, из прошлого. Это совсем не писатель. Это такой игрун. Лучше сказать – геймер. В русском языке для таких и слова-то нормального нет. Он предлагает читателю занимательные игры и тем живет. Если игры читателям нравятся, то и им хорошо, и его гонораром не обидят. А смысл? А нет никакого смысла. Только очень наивные люди ищут какой-то смысл. В эпоху постмодерна это уже не актуально.
Акунин – самая настоящая нежить. При этом он виртуозно научился изображать из себя живого. Он совершенно равнодушен и безразличен к тому, о чем пишет, но имитирует такую живую заинтересованность, что многие ему верят и принимают его книги всерьёз.
Русским свойственно всё и всегда принимать всерьёз. Классический русский читатель читает книги не для развлечения, а для того, чтобы что-то понять в этой жизни. Так же, как и классический русский писатель пишет не для того, чтобы прославиться и заработать хорошие гонорары, а для того, чтобы донести до читателей открывшуюся ему правду. А такие, как Акунин и иже с ним, просто играют в то, от чего у нас душа рвется. Это такой обман, который очень трудно простить, когда поймешь, что тебя просто водили за нос. Имитатор давит из тебя слезу и сам же над твоими слезами смеётся. Это смех нежити над живыми.
При этом Акунин очень современный писатель. Нежить наступает, всё вокруг превращается в игру, в имитацию, всё понарошку и ни чего всерьёз. Жизнь пытаются презентовать как одно непрерывное развлечение, и слова «не надо меня грузить» становятся главным принципом жизни. Не удивительно, что в таком мире Акунин стал модным писателем. Сейчас не модно быть живым. Все торопятся подражать нежити, потому что она успешна. Но вот ведь какая штука. Если нежить подражает живым, то нежити подражать нельзя, ею можно только стать. Если человек начинает изображать из себя нежить, то вскоре жизнь его на самом деле покидает. И в мире становится больше на одно существо с холодным мертвым сердцем и пустыми глазами.
Живых вокруг нас всё ещё очень много, во всяком случае в России. И за право быть живыми они готовы платить болью и страданиями. И Акунина читать они, конечно, не станут.
Гибель богов
Посмотрел индийский фильм, снятый по «Махабхарате». Потом фильм по «Рамаяне». И ещё фильм про богиню Кали. Увлекся, так сказать. И не случайно увлекся. У индийцев живые души, для них важно то же, что важно для нас. Конечно, они имеют о самом важном совсем другие представления, не такие, как у нас. Ну так ведь они индийцы. Само по себе это не грех.
Конечно, так глубоко погружаясь в чужую религиозную реальность, я очень рискую в духовном смысле, потому что подвергаю свою веру испытаниям. Так ли крепка моя вера, чтобы без потерь пройти через эти испытания? Самоуверенность в этой сфере самоубийственна. Можно и самому не заметить, как начнешь сползать в дебри экуменизма и дойдешь до признания равноправия всех религий. Дескать, и у нас вера истинная, и у них тоже вера истинная. Эта мысль кажется мне ужасающей, деструктивной, разрушительной. Я совершенно так не думаю. Христианская ортодоксия для меня – абсолютная истина и признать её равноправие с другими вероучениями я полагаю невозможным и немыслимым. Но ведь капля камень точит.
Регулярно и надолго погружаясь в духовную реальность другой религии поневоле начинаешь любить иноверцев, особенно если они такие искренние и симпатичные. Так ведь можно полюбить не только их, но и их религию тоже, до этого остается всего один шаг. Но для меня это было бы крахом личности. То есть риск я вполне осознаю. Зачем же рискую? Боюсь, что именно таков мой путь. Если мне бросают вызов, я не могу его не принять. Так уж я устроен. Итак, помолившись, приступим.
Первое, что я понял, вайшнуизм – сложнейшее интеллектуальное построение. Его не надо оглуплять и упрощать, он очень непрост и вместе с тем строен, и этим очаровывает. Хотя, конечно, мало ли что нас очаровывает.
Одним из самых интересных открытий было для меня понимание того, что такое богиня Кали. Раньше я считал, что эта злобная и кровавая богиня больше, чем что-либо порочит вайшнуизм, что это фактически богиня зла, и что зло таким образом на равных с добром получает прописку в религиозных построениях индусов. Оказалось, что всё сложнее. Богини Кали вообще не существует. Есть богиня Парвати, а Кали лишь одна из её форм. Кали – это агрессивная и действительно очень недобрая часть богини Парвати, но это не воплощенное зло. Бывают же ситуации, когда надо воевать, когда надо ответить агрессией на агрессию, чтобы восстановить порядок и справедливость. И тогда Парвати «включает» Кали, действует в режиме Кали. Да, Кали – темная, но это своего рода «тьма Господня». И поклонение Парвати в образе Кали нельзя считать прямым сатанизмом.
Не скажу, что Кали мне очень понравилась. Нет, отнюдь. Но это образ, преклонение перед которым не делает человека нравственным уродом и законченными маньяком. Не люблю, когда противников критикуют, искажая их учение, и сам этого никогда не буду делать.
Ещё в вайшнуизме меня привлекло безупречно правильное понимание любви. Любовь – ключевое понятие христианства, но многие нехристиане совершенно неправильно понимают любовь. Вайшнуистов в этом не упрекнешь. Они проповедуют любовь жертвенную, самоотверженную, свободную от бешенства любовной страсти. Это действительно любовь в христианском понимании слова. Можно, конечно, поискать отклонения и искажения, но я совсем не склонен к поиску соломинки в глазу у индусов, а то как бы потом в собственном бревна не обнаружить.
Вот тут и находится точка, в которой очень легко сломаться. Кто-то может сказать: «Раз уж христиане и вайшнуисты не противоречат друг другу в самом главном ключевом понятии, то на всё остальное можно и внимания не обращать и признать вайшнуизм равноценным христианству». Я так не скажу никогда. Христианство и вайшнуизм для меня отнюдь не равноценны, и разница между ними для меня отнюдь не сводится к национальному колориту. Хотя не только наши экуменисты, но и многие вайшнуисты пытаются уверить, что разницы между нашими религиями нет ни какой. Поддаться на соблазн ложного миролюбия, значит потерять свою душу.
Из того, что вайшнуисты имеют правильные представления о любви, я делаю совсем другой вывод. Когда-то на заре человечества люди имели общую религию, идущую от Адама и Евы. Потом под действием целого комплекса самых различных причин из единой религии получилось множество религий. Лишь одной религиозной традиции удалось сохранить истину в чистоте, но и другие так же хранят некоторые фрагменты истины, доставшиеся им от некогда единой религии. И в вайшнуизме тоже не всё ложно, но истина и полуистина не могут быть равноценны. Говорят, что лучшие сорта лжи изготовляют из полуправды. Так что, отмечая положительные аспекты вайшнуизма, я не усматриваю в этом причины для того, чтобы принять его целиком.
Там у них ещё много симпатичного. Например, идеал безупречной честности. Столь высокий идеал, что это несколько даже шокирует. Многие герои «Махабхараты», некогда имевшие неосторожность дать слово, сохраняют верность слову вопреки всему и не смотря ни на что. Даже если верность слову заставляет их обслуживать интересы подлецов и бороться с праведниками, то есть фактически служить злу, они со слезами, но всё-таки выполняют свои обещания. Даже если верность слову разрушает их жизнь, а заодно и жизнь всех их близких, они продолжают держать слово. Даже если есть риск того, что весь мир окажется в руках у негодяев и погрузится в хаос, а избежать этого можно только нарушив слово, они этого не делают. Их верность слову выглядит безумной, но так ли она безумна?
Здесь всё очень сложно и очень просто. Есть правила, без соблюдения которых рухнет мир. Пусть не сразу, но мир начнет рушиться, и в конечном итоге погрузится в хаос. Исполнение этих правил – долг каждого праведника. Но ведь постоянно возникают ситуации, когда стремление к справедливости требует нарушения правил. Или этого требуют наши представления о справедливости, которые всегда субъективны и очень часто бывают ошибочны? Мы видим зло, мы стремимся его устранить, и это порою приводит к большему злу, чем то, которое мы устранили. Например, половина людей в стране голодает, мы хотим это устранить, наплевав на все правила, а в результате голодает уже вся страна. Без малого всё зло в этом мире проистекает из стремления к добру, потому что человеку почти никогда не дано предугадать последствия своих действий. Так как же быть? Так следовать правилам.
Правила создают порядок, а любой порядок всегда от Бога, даже если он кажется нам несправедливым, но мало ли, что нам ещё кажется. Если все вокруг сохраняют верность слову, в мире существует внятный порядок. Если никто слово не держит, начинается хаос, распад. Из суммы субъективных представлений о прекрасном всегда возникает только безобразие. Вот почему надо всегда держать слово, даже если это становится выгодно подлецам. Ни кому не дано знать той цепочки, по которой будут развиваться события, может быть, твоя верность слову в конечном итоге приведёт к погибели подлецов. Оставайся человеком чести, и в конечном итоге Бог выведет мир туда, куда надо.
Откровенно говоря, я до сих пор считал, что высокие представления о чести порождены Европой, а Восток – это хитрость, коварство, искусство обмана. Восток учит никогда и ни кому не верить на слово, похохатывая над теми, кто держит верность слову. Но вот, оказывается, в сердце Азии существует огромная страна, породившая столь высокие представления о чести, какие не были свойственны Европе даже в самые лучшие её времена.
Полагаю, дело тут в обшем прошлом индоевропейских народов. И братья Пандавы, и лучшие европейские рыцари происходят от единого арийского корня. Назвал бы их истинными арийцами, если бы нацисты не сделали этому понятию очень плохую рекламу.
Гипертрофированные представления о чести у индусов строго говоря являются производными от их ментальности, от их национальных корней, это не производная от их религии. Но ведь и сам вайшнуизм в известной степени производная от древней арийской ментальности. Следовать правилам чести требует «дхарма». Это понятие трудно перевести, «дхарма» где-то примерно «путь праведников». Дхарма – производное от сложного комплекса национально-религиозных идей, то есть так или иначе это часть вайшнуизма.
Когда Европа окончательно утратила представления о чести, нам остается лишь учиться правилам чести у потомков древних ариев из Индии, где эти представления всё ещё живы, так что с «Махабхаратой» можно познакомиться и не без пользы для себя, хоть она и является священным текстом чужой для нас религии.
Что в вайшнуизме отталкивает? Прежде всего бросается в глаза их замороченность сексом, к которому у них совсем другое отношение, чем у христиан. Многие их «праведники», люди, которых все уважают за «святость жизни», сексуально озабочены до полного неприличия. Дело не в том, что некоторые люди говорят о высоком, а живут низко. У нас тоже можно найти сексуально озабоченных монахов. Дело в том, что сами представления о высоком оказываются достаточно низкими. «Святой аскет», который трахается под каждым кустом, не только не вызывает осуждения, он и недоумения не вызывает. Половая сдержанность явно не входит в представление вайшнуистов об аскезе.
Речь тут идёт не просто о личных качествах конкретных людей, а именно о религиозных представлениях. У них есть, к примеру, целый культ лингама Шивы. Лингам – это половой член. И писать-то об этом неловко, а вайшнуистам очень даже ловко и молоком поливать каменный член Шивы, и маслом его смазывать. Тьфу, погань…
Пытаясь как-то их оправдать, я подумал о том, что у разных народов может быть разное отношение к некоторым частям человеческого тела. Что для нас «срамно», то для них естественно. Но нет. Религия – это путь к Богу, причем указанный самим Богом, исходя из того, какова человеческая природа, которая ведь у всех народов одна. Индийцы такие же люди, как все остальные. Если для семитов и европейцев путь к Богу связан с ограничениями в сексуальной сфере, а наилучший путь связан с полным отказом от секса, то для индусов не может быть иначе. Грех разрушает душу независимо от национальности человека и его вероисповедания. И сексуальные вольности индийцев разрушают душу, уводя от Бога, а не ведут к Нему.
Мы говорим «срамно», а потом можем подумать, что это наши национальные традиции, вовсе не обязательные для всех народов. Но вот что интересно: в мире есть огромное количество очень разных народов с совершенно непохожими традициями. В жарких странах люди ходят почти голые, но вот именно что «почти». Все народы земли используют, как минимум, набедренные повязки, все национальные традиции предполагают запрет на публичную демонстрацию половых органов. Так что «срамно» – у всех одно. Индийцы ведь тоже не ходят по улице голыми и ни перед кем своими «лингамами» не трясут. Но во время религиозного поклонения они воздают божественные почести половому члену Шивы, каменное изображение которого повсюду торчит у них открыто, безо всякой набедренной повязки.
Вайшнуисты настаивают на том, что они монотеисты, но такое преклонение перед половым органом можно встретить только в языческих религиозных системах. Это не национальная, а религиозная традиция, которая не ведет к Богу, а, напротив, уводит от Него и разрушает душу. И если мы испытываем неловкость при одном только обсуждении этой темы, это не из-за наших национальных особенностей, это от Бога.
Второе, чем шокировал меня вайшнуизм, это то, что их тип «святости», «праведности» ни как не связан с духовно-нравственным развитием личности. Вот человек решил служить богу и много лет предается аскезам, накладывая на себя невероятные ограничения. Вот бог заметил его самоотверженность и подарил ему большую силу за его аскезы. И как же этот «праведник» использует полученную силу? Он идет и совершает массовое убийство, под корень вырезая целый ашрам, причем исключительно из соображений зависти, ревности и ради удовлетворения своего злобного тщеславия. Вот такие у них «праведники».
Подобных фактов там множество. За свои аскезы человек получает огромную силу, но при этом остается мелочно тщеславным, завистливым, обидчивым и гневливым. Он вроде бы приблизился к их богу, но он не стал лучше. Как же тогда в рамках вайшнуизма совершенствовать и очищать свою душу? Да в общем-то получается, что и ни как.
Есть сила, есть могущество, ради их обретения человек становится аскетом и служит богу и, обретая могущество, ведет себя, как законченный негодяй. И бог не может отказать ему в могуществе, не может проигнорировать его аскезы. Таким способом можно приблизиться только к такому богу, который и сам являет собой законченного негодяя. Индийские аскеты приближаются к дьяволу.