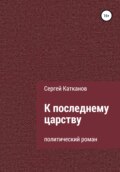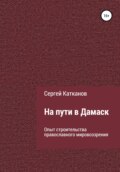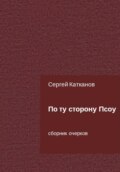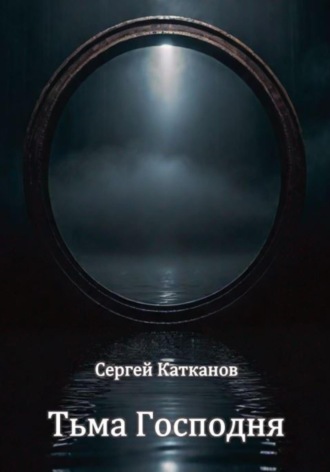
Сергей Юрьевич Катканов
Тьма Господня
Тьма Господня
Некоторое время назад я слушал радио «Вера» – «светлое радио», как они сами себя презентуют. Сначала это радио мне даже нравилось, душа отдыхала от политических дрязг и от той бессмыслицы, которой забивали сознание привычные радиостанции. Потом «светлое радио» стало всё сильнее раздражать, и я понял, что больше не могу его слушать. Уж больно они там все умильные и елейные. И тогда у меня вырвалась фраза: «Светлое радио не для меня. Я темный».
Я сразу же почувствовал, какие страшные слова произнес. Ведь Свет – это Бог, кто светлый, тот в Боге. А тьма – это дьявол, кто темный, тот на стороне врага рода человеческого. Получается, что я, православный человек, на самом деле латентный сатанист? Но ведь это не так, я вовсе не это имел ввиду.
Стандартное православное сознание разрешает это противоречие очень легко. Надо просто признать себя великим грешником, может быть, даже самым грешным человеком на земле, который всё-таки изо всех сил тянется к Свету и не теряет надежды на милосердие Божие. Но здесь есть ловушка. В Церкви тот, кто называет себя великим грешником, на самом деле объявляет себя истинно православным. Преподобный Ефрем Сирин молился: «Господи, даруй мне зрети моя прегрешения…». И если я свои непомерные грехи столь отчетливо вижу, значит я уже выше уровня преподобного. Вместо самоосуждения получается самовосхваление. Это гордыня в одеждах смирения. Если православный человек будет говорить не то, что должен, не то, что ему предписано говорить, а то что он на самом деле чувствует, так уверяю вас, мало кто назовет себя великим грешником.
Так что стандартный способ истолковать своё отторжение от «светлого радио» не кажется мне наилучшим. Ну не чувствую я, что они там все почти святые, а я тут почти сатанист. Могу и ошибаться. Может быть, и правда именно моя греховность заставляет меня чувствовать раздражение от православного радио. Но что-то мне шепчет, что они там не ближе к святости, чем я. За их умильностью и елейностью может стоять не меньше греховности, чем за моим неприятием всего этого. Впрочем, и в этом могу ошибаться. Но уже очевидно, что тут больше одной версии
И вот тут я с большей осторожностью хочу предположить, что есть нечто такое, чего мы обычно не видим и не распознаем, в существование чего очень трудно поверить. Тьма Господня. Тьма, которая не от дьявола, которая не является производной от наших грехов. Может быть, эта тьма и не от Бога, но она не мешает искренне служить Богу. Эта тьма может быть духовно нейтральна. Она человеческая и ничего сатанинского в ней нет.
Вот уже три десятилетия я наблюдаю в храме за людьми. Какие они все разные! Одни искрятся радостью, с их лиц вообще не сходит светлая улыбка. Другие мрачноватые, можно даже сказать угрюмые, они почти никогда не улыбаются. Казалось бы, в первых есть свет, а во вторых его не видно. Где свет там и Бог. Но тут всё сложнее. Можете ли вы, положа руку на сердце, утверждать, что улыбчивые ближе к Богу чем угрюмые?
Протестанты очень любят говорить о том, что христианство – это религия радости. На это епископ Никон (Рождественский) хорошо ответил: «Да, христианство это религия радости, но путь к этой радости лежит через Голгофу». Может быть, душа улыбчивых православных глубже переживает радость Воскресения, а душа угрюмых православных пребывает на Голгофе? Вроде бы ни для кого не обидное объяснение, хотя угрюмым можно сказать: «Вы тоже подтягивайтесь. Христос уже воскрес». Получается, что «светлые» опережают нас в своём духовном развитии?
Хотя меня наша улыбчивая братия заставляет вспомнить о протестантах. Вот те тоже постоянно улыбаются. Про тех определенно могу сказать, что улыбки их фальшивые, искусственные, американские. Про наших столь определенно не скажу, но ведь как знать. Нет ли и в их улыбках фальши?
Может ли эта постоянная улыбчивость быть признаком легковесности, несерьёзности, бездумности? Может. Что если это легкомысленное нежелание понимать, что речь идет об очень серьезных вещах? Может быть. А может угрюмство быть признаком предельной серьёзности, постоянной сосредоточенности на главном? И это может быть. Хотя вовсе не обязательно. Тут мы упираемся в тайну человеческой души, которая никогда и ни кем не может быть разгадана.
Так вот улыбчивых можно условно назвать «светлыми», а угрюмых «темными», эта «тьма» отнюдь не порождение греховности, просто речь идёт о двух разных психологических типах, с духовной точки зрения равноценных. Но надо ли один из двух равноценных психологических типов называть темным? А вы бы не называли себя светлыми, так и мы бы не называли себя темными.
Итак, всё очень просто, мы всего лишь разные, и ведь Бог не велел нам быть одинаковыми. Никто из нас не дальше от Бога и не ближе к Нему, просто мы принадлежим к разным психологическим типам, в этом нет ни чего страшного, всё нормально. И моё отторжение от «светлого радио» это просто раздражение от столкновения с другим психологическим типом, а вовсе не отторжение от православия. Я признаю их право быть такими, какие они есть, никто не обязан быть похожим на меня.
Но вот когда люди определенного психологического склада начинают считать себя мерилом всех вещей, это уже создает проблему. Дело совсем не в православии, дело в наших представлениях о нём.
Вот скажите, каким должно быть настоящее православное радио? Ну чтобы там не было чернухи и порнухи. То есть никакого криминала, никакого смакования грязных подробностей нашей жизни. Ну это, конечно, да. И ни какой агрессивности, ни какой конфликтности, вообще ни какой полемики ни с кем. Может быть, но уже не уверен. В церковной среде постоянно возникают какие-то конфликты. Нам это совсем не интересно? А кому это должно быть интересно? Безбожникам? Церковь со всех сторон обложена сектами. Это тоже не должно нас интересовать? Вокруг полно конфликтов межконфессиональных, межрелигиозных. Тоже не наша тема? А почему? Да во всем этом, знаете ли, слишком много бурления человеческих страстей, а мы не должны разжигать в людях страсти, мы, напротив, должны помогать православным изживать в себе страсти.
Как-то в разговоре со мной один православный человек сказал: «Мы не должны ввязываться в конфликты, вместо этого мы должны предлагать людям положительные примеры». Вроде бы всё правильно сказал, не поспоришь. А глаза у него при этом были пустые и равнодушные. Ему просто было наплевать на те конфликты, которые бушевали и снаружи и внутри Церкви. Очень улыбчивый был человек. Не любил того, что могло согнать с его лица улыбку.
Что получается, когда мы пытаемся изгнать из православного СМИ все конфликты, включая те, которые касаются Церкви напрямую? Пресный, безвкусный, невыносимо скучный продукт. Знаю, что на это скажут: вам не скучно только то, от чего пахнет грехом, а от православного СМИ грехом не должно пахнуть. Но ведь от них не грехом, от них жизнью не пахнет. Жизнь, конечно, безгрешной не бывает, но это наша жизнь, уж какая есть. Неужели кто-то думает, что мертвое – это эталон безгрешного?
Беда в том, что они пытаются выглядеть лучше, чем они есть на самом деле. В душе то у них, как и у всех – грязища, а вот продукт они выдают дистиллированный. А кто не хочет притворяться праведником, кому отвратительно самосвятство, в чьих текстах греха ровно столько, сколько и в душе, те, значит, темные? Ну что ж, пусть так и будет.
Не хочу ни кого осуждать (хотя делаю это регулярно). Проблема так или иначе сводится к тому, что мы очень разные. Но мы не только имеем право, мы и обязаны быть разными, потому что в этой жизни перед слугами Христа стоят очень разные задачи. Одни преимущественно молятся, а другие преимущественно сражаются. Одни предаются тихим созерцаниям, а другие из борьбы не вылезают. Одни поют возвышенные гимны, а другие чистят сортиры. Никто ведь не станет спорить с тем, что и то, и другое надо делать. Но в итоге получается, что одни светлые и чистые, а другие темные и грязные. Одни берегут свою душу, а другие её совсем не берегут.
Но если все будут озабочены исключительно чистотой своих белых одежд, так ведь все же погибнем, в том числе и в духовном смысле.
Есть люди, рожденные для войны. Но ведь война целиком и полностью замешана на грехе, а ведь никто же не рожден для греха. Есть войны, которые Бог благословляет, но ведь Бог не может благословлять на грех. Логически это противоречие не снять. Кто пытался применять к этой теме формальную логику, обычно изрекали благоглупости. Думаю, тут лучше ограничиться пониманием невероятной сложности вопроса.
Рожденные для войны – темные. Среди них есть православные и даже очень хорошие православные. Это темные православные. Но разве можно посреди войны, посреди невероятной концентрации греха спасти свою душу? Можно! Об этом свидетельствуют наши святые благоверные князья. Ведь они же всю жизнь проводили на войне. Они между побоищами не всегда успевали от крови отмыться. Они убивали, причиняли боль, они были воплощенной агрессией. И они не просто спасли свои души, но и стали великими святыми. Как можно купаться во грехе и стать святым? Не знаю как, но опыт Церкви свидетельствует о том, что это возможно. Нам трудно даже представить, какой яркий свет мог вспыхивать порою посреди моря мерзости и грязи, посреди моря тьмы. Не уверен, что такой всепобеждающий свет когда-нибудь доводилось видеть тем, кто всю жизнь сторонился тьмы.
Темным и угрюмым не стоит звать светлых и улыбчивых братьев и сестер в свой грязный и страшный мир. Им тут не выжить, к тому же они будут тут совершенно бесполезны. Мы очень рады, что в Церкви есть много людей искрящихся светлыми улыбками. Но пусть и они будут рады тому, что в Церкви есть те, кто на них не похож. Если в Церкви не будет темных, им придется самим разгребать дерьмо, а они не смогут.
Ваш покорный слуга всю жизнь провел на информационной войне. Духовная суть здесь та же, что и на обычной войне. Это деятельность, основанная на системном грехе. Есть противник, его надо уничтожить. Его надо так растоптать, чтобы он уже не поднялся.
Я как-то подумал о том, сколько боли и страданий причиняет людям моя работа. И мне стало страшно. Впрочем, может быть, мне стало недостаточно страшно. Человек делает свою работу, жестокую и неблагодарную, чего уж там. Я старался быть честным и не причинять людям ненужной бессмысленной боли, хотя, возможно и в этом не преуспел. Мы были там, где тьма, а человек ведь не герметичен, если тьма снаружи, то она будет и внутри него. И всё-таки я ни секунды не сомневался, что на эту войну меня благословил Бог, что я был рожден для этой войны. Конечно, я был не безупречен, очевидно и воевать можно было чище, чем я, но тут уж остается только каяться.
Но вот как это ни странно, мне неприятно смотреть на то, как значительную часть церковного люда захватывает пафос борьбы. Не раз встречал православные газеты, насквозь пронизанные политическими страстями, да и людей таких немало встречал. Эти люди непрестанно разоблачают дьявольские козни и антихристовы ловушки, всё кого-то на чистую воду выводят, всё какие-то кумиры ниспровергают. Один батюшка очень мудро сказал про таких: «Если бы они думали о Христе столько же, сколько думают об антихристе, так давно бы уже стали святыми». Действительно, этим бедолагам о душе явно некогда подумать. Их горящие глаза, нервная взвинченность, нездоровая экзальтация производят удручающее впечатление. И злоба… Зачем столько злобы при обсуждении вроде бы духовных вопросов?
Глядя на них, я словно вижу себя в кривом зеркале. Но это зеркало всё-таки кривое. Обвините меня в чем хотите, но я никогда не принадлежал к этим психованным борцам за православие, для меня они чужие по духу. Для меня православие всё-таки первично, а политика стоит на втором месте. Для них явно первичны политические страсти, а православие уходит на периферию души.
Ну почему у нас люди ни в чем мерушки не знают? Или уж создают продукт вообще стерильный от жизни, или уж погружаются в такое бурление страстей, которое явно стерильно от духовной жизни, хотя православие у них с языка не сходит.
На радио «Вера», когда я его слушал, ни слова не говорили о войне на Украине, хотя она уже вовсю полыхала. Они создали для себя такой мирок, в котором нет войны. Хорошо устроились, ребята. В нашем мире идет война, у нас – кровища и грязища, море человеческих страданий. В нашем мире людей разрывает на части взрывами снарядов, а в тылу у людей души разрываются на части, когда слишком долго нет хороших новостей с фронта. А в их мире тишь да гладь, и море светлых улыбок. Ни одна капелька крови не упала на белые одежды ревнителей дистиллированного православия. Хотя где ещё и разъяснять духовный смысл этой войны, как не на православном радио?
А где-то рядом беснуются «православные патриоты», кровожадно предвкушая смерть врагов и не упуская случая заявить о том, что мы их «порвем на части, Господа хваля». Не дай Бог присутствовать доведется.
«Темным» православным приходится балансировать на лезвии ножа, не уклоняясь от грязи и крови, но и не зверея при этом. Да, мы живем в том мире, где полно духовных опасностей, но мы не бежим от них, мы стараемся их нейтрализовать, не впадая ни в «светлое» равнодушие, ни в дикий фанатизм. Мы идём сквозь тьму, а это ведь опасно для души. Тьма, которая внутри нас, не лишает нас надежды на прорыв к свету, потому что это тьма Господня. Но ведь к нашей тьме может понемногу добавляться тьма уже воистину дьявольская, так и сам не заметишь, как уподобишься тем, с кем боролся. Не надо нас предупреждать об опасности, мы её видим лучше вас. На войне гибнут не только тела, но и души. Но не может уклоняться от войны тот, кого Бог создал для войны.
Путь Татьяны
Горичевой
Нужна ли православному человеку философия? Строго говоря, богословие – это и есть частный случай философии. То есть, придерживаясь христианской ортодоксии, мы уже являемся сторонниками определенной философской системы. Православная философия – очень сложная, детально разработанная, отвечающая на все кардинальные философские вопросы. Чего же нам ещё? Один православный мыслитель сказал: «Кто обрел истину, но продолжает искать ещё что-то, тот ищет лжи». Это очень серьёзное предупреждение. Какие у нас могут быть причины для того, чтобы копаться в гнилостных хитросплетениях современных философских систем? Там нет истины, а у нас истина есть.
А если человек просто любит философию? У человека может быть философский склад ума, так не пропадать же добру. Об этом я думал, когда читал книгу Татьяны Горичевой «Христианство и современный мир». Знаете, что я почувствовал, когда читал Горичеву? Зависть. Я всегда очень интересовался философией, но жизнь сложилась так, что до чтения современных философов руки у меня не дошли. А Горичева посреди всех этих Дитмаров, Камперов и Лаканов, как у себя дома. И Хайдеггер с Кьеркегором хорошо ей знакомы. И Фрейд с Юнгом не оставлены вниманием. Чему тут завидовать? Ну как, ведь интересно же. Я может быть то же всех этих ребят почитал бы. Если бы у меня была ещё одна жизнь.
Я сознательно поставил на первое место свою эмоциональную реакцию на Горичеву, потому что не хочу говорить так, как надо, говорю так, как есть. Я хочу разбираться в философии так, как разбирается Горичева, хочу владеть тем понятийным рядом, которым она владеет, хочу писать так, как она пишет. В том, что ни чего из этого мне не дано, нет ни чего принципиального, просто так вышло. Но что я потерял? Моё духовное развитие из-за моего незнакомства с философией претерпело какой-либо ущерб? Нет, наверное. Наше стремление к Богу ни как не зависит от Хайдеггера с Кьеркегором. Что же тогда означает эта моя тоска по философии? Мне это было дано, но это не было реализовано.
А, может быть, и слава Богу? Блуждание в философских дебрях духовно опасно, и я это очень хорошо понимаю. Спускаясь из мира абсолютного в мир условного и относительного не трудно и веру потерять. Ни кому не стоит быть слишком уверенным в твердости своей веры. Даже тот, чья вера тверда, как камень, должен помнить о том, что капля камень точит. Когда ищешь крохотные жемчужины истины в огромной куче токсичных отходов, легко заразиться такими тяжелыми болезнями по сравнению с которыми обретение нескольких жемчужин ни чего не значит. Знаменитые западные философы потому и стали знаменитыми, что обладают большим интеллектуальным обаянием. Конечно, православного человека трудно купить доказательствами того, что Бога нет, но иные псевдохристианские мысли могут, чего доброго, показаться вполне убедительными, так и сам не заметишь, как под видом ортодоксии начнешь исповедовать псевдохристианство, променяешь золото на позолоту. Наша догматика из свода абсолютных истин вдруг покажется сводом истин условных и относительных. Православная духовность начнет восприниматься не как наилучший путь к Богу, а как один из возможных путей, который не лучше других. Вера в душе начнет понемногу распадаться, крошиться, выветриваться и уже не сможет быть фундаментом жизни. Всё это может быть прямым следствием длительного погружения в духовно недоброкачественный мир западной философии.
Когда некоторые наши угрюмые отцы говорят о том, что нам не нужна философия, что мы не собираемся погружаться в мир лжи, поскольку уже обладаем истиной, я не спорю с ними. Если обращаться ко всем православным одновременно, то обращение должно быть именно таким. Вот только бывают уникальные православные, и путь их уникален. У меня они вызывают не возмущение, а восхищение. Такова Татьяна Горичева.
Но зачем нам всё-таки лезть в дебри неправославной философии? Ну, во-первых, иные люди, скопив серьёзный багаж православных знаний, очень хотят применить их на практике для противостояния безбожной мудрости. Но ведь невозможно противостоять тому, чего не знаешь. Значит надо изучить их мудрость, чтобы дать ей отпор. А во-вторых…
Между Россией и Западом идет война на всех фронтах, в том числе и на духовном, и на интеллектуальном. Нам известна глубинная суть нашего противника – воинствующее антихристианство. Если мы знаем самое главное, то можно сказать, что детали не столь уж существенны? Но, как известно, черт сидит именно в деталях.
Мы смотрим на Запад издалека и воспринимаем его очень обобщенно, как некий символ. А Запад на самом деле очень неоднороден, там много всяких сил, включая, кстати, и антизападные. К тому же и нехристианская философия не вся ведь сплошь антихристианская. Конечно, для войны достаточно понимание её общего смысла, в детали можно и не вдаваться. Но ведь и такой подход содержит свою духовную опасность. Чем больше мы упрощаем, тем больше мы звереем. Глядя на врагов, мы начинаем видеть перед собой уже не людей, а бесов во плоти, в которых всё плохо, в которых нет и не может быть ни чего хорошего. Так воевать легче, но легче, не значит лучше. Как нам избежать собственного озверения на этой войне, как не превратиться в тупых и злобных фанатиков?
Выход только один – надо хорошо понимать Запад изнутри, надо в мельчайших деталях знать, как он устроен и организован, надо на уровне нюансов и полутонов представлять себе душу Запада. Не только их политическую и экономическую сферу, тут у нас специалистов полно, но и духовную их составляющую, и интеллектуальную, а тут у нас специалистов не лишка. Кто захочет копаться в их дерме? Уж во всяком случае не тот, кто воспринимает Запад, как одно сплошное дерьмо. Чтобы надолго погрузиться в хитросплетения западной философии, надо любить не только философию, но и Запад, иначе не выдержишь. Чтобы возненавидеть Запад по-настоящему, его надо сначала полюбить. «Лишь тот, кто так любил, как я, имеет право ненавидеть». Только интеллектуальная глубина понимания Запада может спасти нас от фанатизма. И вот тут тот путь, которым идет Татьяна Горичева, оказывается не просто допустимым, но и в высшей степени актуальным.
Горичева являет собой парадоксальный феномен русской парижанки. Мир парижских интеллектуалов – это её мир. Она не может ненавидеть этот мир, поскольку она его часть. И всё-таки ценности этого мира – не её ценности. Она живет с волками, но не воет по-волчьи, хотя мир волков знает не хуже, чем Маугли. Наши суждения о Западе могут носить слишком обобщенный и упрощенный, а потому до известной степени искаженный характер. Её суждения о Западе имеют совсем иную, куда более высокую цену.
Горичева пишет: «Зайти в католическую церковь стало попросту трудно. Там противно. Болтливый проповедник, унылые, прилично одетые прихожане – ни юродивых, ни нищих, ни святых».
Такое отторжение от западного типа духовности может испытывать только человек, который очень тонко и глубоко чувствует православную духовность, который является носителем нашего духа. Поэтому она ещё в 90-е годы прекрасно понимала, что происходит между Россией и Западом:
«Призрачная энтропийность хочет поглотить Россию. Им нужны наши пространства, наши леса и воды. Но боле всего им нужно убить живую и неподкупную русскую душу. «Новый мировой порядок» – и не «новый» и не «порядок». Что ни слово, то ложь. Есть ли вообще Америка? Или она такой же симулякр, как и их нарциссы-проповедники?»
Блуждая по миру, в котором нет вообще ни каких ориентиров, где всё условно и относительно, Горичева не только не утратила ориентиров, но и нас ещё может сориентировать. Если вера человека никогда не подвергалась испытаниям, она не много стоит. Её вера прошла через такие изощренные интеллектуальные искушения, которые не многим из нас приходилось испытывать. Остаться ортодоксальным христианином, перелопатив горы западного суемудрия – это дорогого стоит. Какие бы философские системы Горичева не анализировала, но выводы она всегда делает строго православные.
Так ли? Но вы послушайте: «Христос – это Событие, и Событие главное. Впервые в истории человечества что-то единичное и уникальное приобрело абсолютную ценность и значение… Христос – это, выражаясь языком современной философии, нечто совершенно невозможное. Его нельзя изобрести, придумать, вычислить…» Горичева умеет говорить о Христе «выражаясь языком современной философии». И говорит она очень неожиданно, точно и вполне ортодоксально. И совершенно без той умильности и елейности, которая порою отталкивает от православия людей интеллектуального склада.
С этой породой надо уметь говорить на их языке, причем без всяких интеллигентских шатаний, виляний и относительностей. Люди, которые хотят мыслить широко, порою совершенно теряют берега. Сегодня исповедуются и причащаются, а завтра тычут пальцем в «Символ веры» и говорят о том, с чем они тут не согласны. А вы попробуйте сочетать широту мышления, чуждую суеверного страха перед нехристианскими концепциями, с незыблемой, непререкаемой, безусловной верностью каждой букве догматического богословия. Татьяна Горичева доказывает, что эта задача вполне выполнима.
Меня Горичева учит прежде всего ненавидеть без ненависти. Сохранять полное и принципиальное неприятие Запада, но без тупой и фанатичной злобы. Когда-то люди умели воевать без ненависти, то есть для пробуждения в себе сильных мотиваций к войне не нуждались в раскручивании низменных плебейских чувств. В нашем плебейском мире это уже трудно, но попытаться стоит. Можно любить Запад и вести с ним непримиримую войну не на жизнь, а на смерть. Если заглянуть в душу людям Запада, их очень даже можно полюбить, при этом не переставая видеть в них боевую мишень. Может быть, это и значит любить врагов, что завещано нам Господом.
Путь Татьяны Горичевой настолько уникален, что ни кому не посоветовал бы попытаться его повторить. В чумном городе чаще всего заражаются чумой. И если живут с волками, то чаще всего начинают выть по-волчьи. И танцы на минном поле чаще всего заканчиваются смертью. Но меня поражает и восхищает духовное бесстрашие этой великой женщины. Меня приводит в восторг её утонченный и изысканный танец на минном поле, который не привел к духовной смерти.
Если вам скажут, что не надо туда ходить, прислушайтесь, вероятнее всего, и правда не надо. Но, может быть, вы влюблены в древний христианский Запад? Может быть у вас философский склад ума, и вы хотели бы поглубже разобраться в западной философии? И вы хотите совместить всё это с ортодоксией? Отговаривать не стану. Посоветую только продвигаться маленькими шашками, при этом предельно честно оценивая изменения своего духовного состояния. Дай Бог вам почувствовать тот предел, дальше которого двигаться не надо. А предел этот у каждого свой. Главное не забывать, что дороже ортодоксии нет ни чего в этом мире.