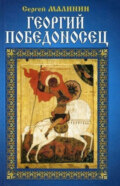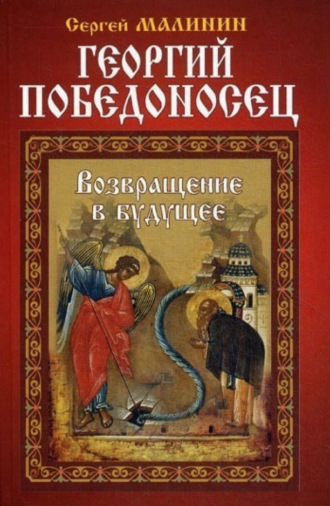
Сергей Малинин
Георгий Победоносец. Возвращение в будущее
Осторожно раздвинув ветки, княжич увидел ручей, посреди которого кипела кровавая сеча. Мигом оценив обстановку, он смекнул, как было дело: отряд немецких кнехтов, одетых в одинаковые синие плащи с гербами, по всему видать, угодил в отлично задуманную и тщательно подготовленную засаду. Немцев взяли в клещи с двух сторон, заперев в болотистой, топкой низине, где их тяжко нагруженные кони не могли свободно передвигаться. Добрую половину отряда, похоже, выкосил тот первый залп, который заставил княжича остановить коня и спешиться; стрелы из луков и толстые арбалетные болты ещё более склонили чашу весов на сторону нападавших.
Ручей был запружен людскими и конскими телами; иные кони ещё отчаянно бились, пытаясь подняться на ноги; княжич видел всадников, что, захлебываясь перемешанной с кровью водой, тщились выбраться из-под придавивших их конских трупов и гибли, когда набежавший поляк наносил жалящий сабельный удар. Розовые от крови брызги воды летели во все стороны из-под лошадиных копыт, сабли молниями сверкали в воздухе, рассекая его с шелестящим свистом. Немногие оставшиеся в живых немцы гибли один за другим, не прося пощады, ибо даже княжичу Петру было ясно, что пощады не будет никому. Вот ещё один кнехт, сбитый с седла ударом кистеня, пришедшимся прямо в лицо, рухнул спиною в воду, взметнув целый фонтан брызг. Смуглый горбоносый аломанец с извилистым шрамом через все лицо, потеряв шпагу, оседлал врага и пытался утопить его в мелкой воде, обеими руками сжимая ему горло. Проезжавший мимо всадник взмахнул саблей, и горбоносый с залитым кровью лицом завалился набок. Освобожденный от его мертвой хватки поляк всплыл и закачался на поднятых ногами дерущихся беспорядочных волнах, широко раскинув мертвые руки и ноги.
Дело явно близилось к концу. Поляки уже добивали немногочисленных раненых; поляков было много, повсюду мелькали их чёрные, с чёрными же шнурами кунтуши и заправленные в высокие мягкие сапоги тёмно-синие штаны. Княжич Пётр вспомнил, что рассказывали ему о графе Вислоцком пан Анджей и его вспыльчивый сын Станислав. Помимо всего иного, они говорили о несметном богатстве графа, кое позволяло ему, едва ли не одному на всю округу, рядить свою стражу в форменное чёрно-синее платье, как будто то была не стража, а настоящее войско, наподобие стрельцов царя Иоанна Васильевича.
Княжич стал считать и насчитал два десятка и ещё трёх чёрно-синих воинов; ещё семеро, считая того, что был зарезан княжичем, остались лежать в кустах и в ручье, что неугомонно теребил их, будто пытаясь разбудить уснувших. Немцы, числом около двух десятков, были перебиты почти поголовно. На ногах остался только один из них – богатырского сложения здоровяк с длинными соломенными волосами и бритым кирпично-красным лицом, по которому, смешиваясь, стекали кровь и вода. Воронёные доспехи гиганта были покрыты рубцами и вмятинами, шлем потерялся, волосы были в крови, что указывало на полученную рану, но одинокий боец не сдавался: костеря врагов на чём свет стоит самыми чёрными словами, он с завидной ловкостью орудовал сразу двумя шпагами, не давая никому к себе приблизиться. Какой-то храбрец, увернувшись от мелькающего подобно крыльям стрекозы железа, прорвался через его защиту, норовя ударить широким, как лопата, обоюдоострым лезвием в живот. Не имея возможности ни рубануть, ни уколоть противника шпагой, гигант нанёс ему сокрушительный удар гардой. Даже сквозь шум сражения княжич расслышал хруст, с которым переломился расплющенный страшным ударом нос; поляк издал отчаянный вопль и, охватив ладонями залитое кровью лицо, с плеском опрокинулся навзничь.
Гигант в воронёных латах поймал пробегавшего мимо коня и с неожиданным при его комплекции проворством взлетел в седло. Набежавший смельчак упал, охватив руками разрубленную голову; на прощанье обозвав противников польскими свиньями (что-что, а как будет по-немецки «свинья», княжич знал, ибо не единожды слышал это слово от аломанских купцов на рынке в городке, близ коего располагалось имение пана Анджея), хлестнул коня вместо плети шпагой и был таков раньше, чем целивший в него из пищали поляк успел спустить курок. Выстрел громыхнул вхолостую; брызнули сбитые пулей листья, упала подрезанная ветка, над водой поплыл голубоватый дымок, и наступила тишина, нарушаемая лишь плеском ручья, удаляющимся топотом копыт да стонами раненых поляков.
Княжич попятился было, решив, что смотреть ему здесь более не на что и что надобно тихонько возвращаться к коню и убираться подобру-поздорову, пока его не обнаружили, но тут предводитель поляков – тот самый черноусый красавец в отличном от иных, явно дворянском платье, что стрелял вослед уцелевшему немцу, – вдруг отдал своим людям странный приказ, коего Басманов никак не ожидал.
Те, кто ещё сидел верхом, спешились и зачем-то принялись обдирать с убитых кнехтов доспехи, оружие и плащи.
Увидев, как победители цепляют на себя снятые с трупов нагрудные зерцала и, вылив воду из шлемов, без стеснения надевают оные себе на головы, княжич Пётр мысленно присвистнул, попятился и наконец-то убрался прочь от места, где явно не к добру затевался какой-то жуткий маскарад.
Глава 4
В предвечерних синих сумерках, кои в лесной чаще были куда гуще и темнее, нежели в чистом поле, начальник стражи сбился с пути, заплутал и свернул с большака на малоезжую, едва видневшуюся в густой траве дорогу, которая, выведя обоз на небольшую круглую полянку, окончательно растворилась в траве и исчезла. Объехав поляну и своими глазами убедившись, что вместо дороги со всех сторон сплошной стеной стоит густой еловый лес, даже такой гордец и упрямец, каким был десятский Василий Иванов сын Агеев, недаром прозванный Быком, был вынужден признать, что сплоховал.
– Прости, кормилица, – спешившись и подойдя к окошку возка, обратился он к княжне Басмановой. – Заплутали мы. Не иначе, леший попутал. Не миновать нам в лесу ночевать. Поутру, как рассветёт, авось сыщем дорогу-то.
– Леший попутал, – неприязненно проворчал с козел возница по имени Андрей, степенный мужик пятидесяти лет отроду. – Сказано было, не надоть с большака повёртывать, а ты всё «короче, короче»… Вот, стало быть, и заехали, куда Макар телят не гонял.
– Цыц, смерд! – прикрикнул на него десятский. – Укороти-ка язык, не то я тебе его сам укорочу!
– Ну, а то как же, – даже не подумав испугаться, проворчал Андрей. – Дорогу-то ты уж укоротил, ныне самое время за мой язык взяться. Боле-то тебе, чай, заняться нечем…
– Да я тебя… – наливаясь тёмной кровью, начал Бык, но его остановил прозвеневший из темной глубины обитого телячьей кожей возка строгий голос княжны:
– Будет вам! Будет, кому сказано! Сколь вы ни лайтесь, дорога сама от вашей брани не сыщется. Да и вечереет уже, всё едино ночевать надобно. Тут и остановимся.
Склонившись в поклоне, десятский Васька Бык подумал, что яблочко от яблоньки недалеко падает. Ишь, как повернула! Её послушать, так получится, будто она только что решение приняла и своею волей повелела остановиться на ночлег именно тут, на этой вот поляне, а не в ином каком-либо месте. Будто ведомо ей, как до того «иного» места добраться, как из глуши этой, из дебрей диких, вспять на большую дорогу выбиться… Одно слово – князя Андрей Иваныча кровь! Даже голосок ни разочка единого не дрогнул, хотя девице княжеского роду, в такое место угодив, полагалось бы до смерти перепугаться…
Возница Андрей уже ковырялся в упряжи, выпрягая из оглобель пару вороных. Подле обозных телег, не дожидаясь приказа, суетилась дворня: выпрягали, снимали с воза походный шатёр, искали погребец с припасами, торопясь разбить лагерь и устроить княжну на ночлег засветло. Кто-то из посланного для охраны княжны десятка уже ворочался в лесу, как медведь, треща в темноте хворостом и негромко, дабы не услышала Ольга Андреевна, костеря сквозь зубы проклятущую темень, колючий ельник и сучки, которых какой-то хромой бес понатыкал аккурат супротив глаз для вернейшего погубления православных душ.
Вскоре посреди поляны ярко вспыхнул костёр, разогнав темноту в стороны и согрев своим живительным теплом уже начавшую мёрзнуть в легком летнем наряде княжну. Подле костра воздвигся белый полотняный шатёр, в коем при свете сальных свечей горничная и мамка готовили молодой хозяйке постель. Вослед первому загорелся второй костёр, и стражник Иван Лопата, игравший в сём славном походе незавидную роль кухарки, принялся кашеварить, что-то ворча и приговаривая в густую и широкую, истинно как лопата, чёрную цыганскую бороду.
Присев у огня на принесённый с одной из телег низкий резной стульчик, княжна Ольга подпёрла рукою щеку и стала смотреть, как вьются над костром, бесследно исчезая в чёрном ночном небе, живые рыжие искры. Тревога и горечь расставания с отчим домом, боязнь неизведанной будущности, боль разлуки со всем, что было ей знакомо и мило, – все это изрядно притупилось за время пути. В дороге княжна обрела если не покой, то хотя бы видимость покоя; она привыкла к неспешному, скрипучему и тряскому движению меж зеленеющих полей и перелесков, ибо человеку свойственно рано или поздно привыкать ко всему, и ныне это неторопливое перемещение по пыльным дорогам, среди деревень с их соломенными кровлями и ветхими деревянными церквушками, белокаменных, с золочеными куполами монастырей, синих озёр и небыстрых, с зеленоватой водою, равнинных речек в травянистых берегах, представлялось ей вполне приемлемым, а может быть, даже и самым приятным способом существования – без забот, хлопот и особенных тягот, с картинками за окном возка, медленно сменяющими друг друга и никогда не повторяющимися…
Минувшее было отрезано от неё, отсечено, словно ударом острой сабли, твёрдым решением отца; будущность немного страшила – Бог весть, как оно всё сложится на новом месте, с чужими, незнакомыми людьми, – и с еще большим удовольствием княжна предавалась скромным, неброским радостям дальней дороги.
Случившаяся в пути непредвиденная задержка княжну Ольгу нисколечко не опечалила. Торопиться ей было некуда, и оплошность Васьки Быка, который по недомыслию своему завёл их всех в эту глухомань, для княжны представлялась скорее благом, ибо позволяла продлить ставшее привычным, а оттого милым сердцу, путешествие.
В темноте топотали, неловко, прыжками передвигаясь на спутанных ногах, стреноженные кони; негромко покрикивал, расставляя на ночь караулы, провинившийся и оттого ещё более чем всегда задиристый и ершистый Бык. От костра, где кашеварил угрюмый Иван Лопата, тянуло вкусным запахом наваристой похлёбки. Пожилая мамка принесла и заботливо накинула княжне на плечи тёплый пуховый платок; горничная девка, переняв у неуклюжего Лопаты, подала расписную деревянную доску, на коей стояла миска с дымящейся похлебкой и лежал ломоть хлеба. Княжна отведала, обернулась и, отыскав взглядом Ивана Лопату, ласково ему улыбнулась: похлёбка и впрямь была хороша, а на свежем воздухе, после долгого, полного новых впечатлений дня, казалась вкуснее всего, что княжна едала до сих пор.
Польщённый Лопата, ворча и отмахиваясь от самых прытких увесистым черпаком, принялся кормить остальных. У костра, где вперемежку со стражниками разместились обозные мужики, стоял весёлый гомон. То и дело с той стороны долетало, касаясь слуха княжны, крепкое, солёное словцо, и тогда мамка Никитична, всякий раз плюнув через плечо, сердитым голосом ругала разгулявшихся сверх меры мужиков.
Впрочем, никакой особенной гулянки подле костра не было: князь Андрей Иванович строго-настрого заказал своим людям бражничать в дороге, пока не передадут княжну с рук на руки жениху, и Васька Бык, верный, как цепной пёс, и, как пёс же, не склонный к рассуждениям, строго следил за неукоснительным соблюдением сего запрета. Вечеряли поэтому всухомятку, и веселья настоящего не получилось, так что спать мужики улеглись, утешая себя тем, что наверстают упущенное, когда довезут княжну до условленного места, и наложенный князем запрет, который радением Быка обрёл силу истинного чернокнижного заклятья, наконец-то потеряет силу.
По мере того как горячее хлебово в деревянных мисках иссякало, а усталость и наступившая сытость брали своё, шум на поляне стал утихать. Кто-то уже спал, выставив из-под телеги ноги и оглашая лес заливистым богатырским храпом. Чернявый Лопата, присев на корточки у огня, где светлее, оттирал пучком травы опустевший котёл. Десятский Васька Бык, сидя на возу, предавался излюбленному занятию – точил саблю, что-то негромко и не зело мелодично напевая себе под нос. Мамка Никитична уже трижды подходила к княжне, уговаривая лечь; спать княжне не хотелось, и, видя, что старая мамка едва держится на ногах от усталости, Ольга Андреевна велела ей ложиться самой. Никитична удалилась, ворча, зевая и крестя рот; малое время спустя пришёл, шурша по траве сапогами, сонный стражник с охапкой собранного в потёмках хвороста. Получив новую порцию пищи, огонь весело затрещал, взметнулся к тёмному небу, и на краю поляны ненадолго показалась выхваченная из темноты фигура караульного с копьём в отставленной руке.
Княжна сидела, помешивая хворостинкой ярко рдеющие угли, глядела на огонь и ни о чём особенном не думала. Дорожные картинки медленно проплывали перед её внутренним взором, сменяя друг друга не в том порядке, как это происходило днём, а в зависимости от того, насколько ярким и запоминающимся было впечатление. Спать не хотелось совсем, но Ольга Андреевна понимала, что надобно ложиться, чтобы не проспать половину завтрашнего дня. Наконец, она решилась внять голосу рассудка и отправиться на покой: быть может, сон одолеет её, едва она ляжет, как это бывало уже не единожды. А если нет, у неё останется её любимое занятие, коему она предавалась с тем же постоянством, с каким Васька Бык ежевечерне точил свою саблю: улегшись в постель и оставшись наедине с собою, она станет по одному, как драгоценности в ларце, бережно перебирать воспоминания, связанные с домом, отцом и старшим братом, ныне, увы, уже покойным.
Княжна ощутила смутную печаль. Надёжно запертые на протяжении всего дня воспоминания требовательно запросились на волю; она будто слегка приоткрыла крышку ларца, в коем они хранились, и было ясно, что уснуть не получится, покуда она не согреет каждую из лежащих в этом ларце жемчужин теплом своих ладоней.
Княжна поднялась, спеша удалиться в шатёр раньше, чем кто-либо из спутников увидит на её щеках слёзы, и тут в нарушаемой только потрескиваньем костра да криками ночных птиц тишине громко прозвучал показавшийся Ольге Андреевне испуганным голос караульного:
– А ну, стой! Куды прёшь? Стой, кому сказано?!
Из темноты беззвучно выступила и остановилась на границе отбрасываемого огнем зыбкого светового круга кряжистая, как комель старого дуба, косматая фигура, при виде которой оцепеневшей от испуга княжне почему-то вспомнился языческий бог смерти Карачун.
* * *
Незадолго до того, как княжну Басманову напугало неожиданное появление близ её временного лагеря странного, чтобы не сказать страшного незнакомца, на узкой звериной тропке, что, прихотливо извиваясь, проходила недалеко от поляны, встретились два человека.
Одному из них на вид был около сорока, может быть, сорока пяти лет, хотя на самом деле ему совсем недавно сровнялось тридцать. Коптящий смоляной факел, который он держал в левой руке, освещал заросшее косматой бородою широкое кирпично-красное лицо и расхристанную на волосатой, выпуклой, как наковальня, груди ветхую рубаху, в вырезе которой тускло поблескивал медный крестик на засаленном шнурке. Человек был коренаст и крепок; наполовину истлевшую от грязи и пота рубаху перехватывал широкий кожаный пояс, за который был засунут любовно отточенный топор с лоснящимся, захватанным руками топорищем. Через плечо была перекинута разлохмаченная верёвка, в петлю которой была продета висевшая на боку побитая ржавчиной сабля без ножен. Шапка на человеке была худая и рваная, зато сапоги, коих почти не достигал красноватый свет факела, пришлись бы впору хоть боярину, хоть князю – красные, сафьяновые, с серебряными подковками, они были великоваты своему владельцу, каковое неудобство устранялось при помощи дополнительной портянки. Словом, человек этот выглядел обыкновенным разбойником, и неудивительно: разбойником он и был, причем уже давненько, и малопочтенное сие ремесло естественным порядком наложило неизгладимую печать на его облик.
Второй был старше лет на десять с хвостиком, а выглядел и вовсе стариком – до тех пор, по крайней мере, пока внимательному наблюдателю не бросалась в глаза недурно замаскированная мешковатой драной рубахой, некоторой сутулостью и, в особенности, длинной и взлохмаченной бородищей мощь богатырской фигуры, над коей оказались не властны ни годы, ни тяжкий труд, ни пережитые лишения. Лицо его пересекал длинный, неправильно сросшийся и оттого уродливый шрам, проходивший прямиком через глаз, так что оставалось только гадать, как это обладатель сего украшения в своё время ухитрился не окриветь. Лохмотья, заменявшие ему рубаху, были перепоясаны куском сплетённой из лыка верёвки; поверх рубахи было надето что-то вроде меховой безрукавки, за поясом торчал большой нож в меховых же ножнах, с рукояткой из лосиного рога. Несмотря на дикую лесную наружность, на разбойника он не походил – для такого сходства ему чего-то недоставало не то в лице, хотя и достаточно безобразном, но словно озарённом каким-то внутренним светом, не то в том, как он разговаривал. Внешность его наводила на мысли не о разбое, а почему-то о нечистой силе, обитавшей в здешних лесах с полузабытых языческих времен – леших, кикиморах, водяных, аукалках.
– Я тебе, Медведь, в третий раз говорю и боле повторять не стану: не замай, – негромко, но с большою внутренней силой втолковывал он человеку с факелом. – Грехов на тебе и без того немало, так что ныне можно и воздержаться.
– Давно ль ты ко мне в духовники-то записался? – Голос Медведя звучал насмешливо, но глаза поблескивали из-под косматых бровей насторожённо и даже боязливо, словно собеседник вызывал у него какие-то опасения. – Ишь, чего удумал – воздержаться! Я бы, может, и воздержался, да уж больно кус лакомый!
– На чужой каравай рот не разевай, – наставительно сказал ему старший. – Сей кус тебе не по зубам. Верно тебе говорю: даже думать забудь, не то после пожалеешь горько.
Последние зубы свои об тот кус обломаешь, да и околеешь, как пёс, без покаяния.
Разбойник фыркнул, переложил факел в другую руку и независимо подбоченился, картинно отставив в сторону ногу в красном сафьяновом сапоге.
– Да что тебе в том обозе? – спросил он, и по голосу чувствовалось, что терпение его на исходе. – Нешто знакомые у тебя там али родня? Так ты укажи, кого трогать не надобно, мы и не тронем. Ну, ежели, конечно, знакомец твой сам на рожон не полезет. Тогда уж не обессудь – не я, он сам в своей смерти повинен будет.
– Людей сих ты и пальцем не тронешь, – упрямо и спокойно, будто речь шла о чём-то вполне обыденном, гнул своё старик. – Достанет на твой век обозов – и купеческих, и царских, и иных прочих. Мы с тобой, Медведь, уж который год мирно бок о бок живём. Терплю я тебя, жалею, ибо ты есть человек, боярином злым обиженный и немало бед в своей жизни претерпевший. Однако ж и ты моего терпения не испытывай. Сказано тебе: нельзя, – стало быть, нельзя.
– Да отчего нельзя-то?! – окончательно потеряв терпение, воскликнул разбойник. – Что ты долбишь, яко дятел: нельзя, нельзя?., ещё и стращать меня удумал!
– Нельзя – значит, нельзя, – спокойно повторил старик. – Видение мне было. И не стращаю я тебя, дурака, а упреждаю по-доброму: не буди лихо, пока оно тихо.
Медведь криво ухмыльнулся и пошевелил губами, словно намереваясь плюнуть под ноги, но плевать почему-то не стал.
– Видение, – насмешливо протянул он. – Нешто ты и впрямь думаешь, что я в эти бабьи сказки поверю? Тоже мне, пророк выискался! Ты рожу-то свою видал, праведник святой? Даром, что ли, тебя Лешим кличут?
– То-то, что недаром, – согласился Леший. – Вот и призадумайся, детинушка, отчего это народ мне такое прозвище прилепил. Ведомо мне, что в бабьи сказки ты не веришь, а веришь токмо в железо, кровь да злато, разбоем добытое. Ну и верь себе. Ибо сказано: да воздастся каждому по вере его. Ведай токмо, что, на сей обоз налетев, злата ты не получишь, а вот железа и крови обретёшь столько, сколько и в страшном сне не видывал. Не сносить тебе головы, Медведь, ежели ты этих людей хоть пальцем тронешь.
– Грозишь? – нахмурился разбойник. – Гляди, Леший! Ты-то, чай, тоже не из железа сделан. Не ровён час, пырнет кто ножичком – каково тебе покажется проповедовать с дырявым-то брюхом?
– А ништо, – сказал Леший. – Мне, поди-ка, не впервой. Не ты первый, не ты, мнится, и последний, кому сия сумасбродная мысль в голову пришла. Гляди-ка!
С этими словами он неожиданно задрал подол рубахи, оголив впалый живот. На животе этом, прямо под грудиной, виднелся страшный шрам, наводивший на мысль об ударе не ножом или даже мечом, а, пожалуй, хорошо отточенной лопатой.
– Гляди, – повторил Леший, – гляди хорошенько. Не пробил ещё мой час, нужен я, видать, зачем-то Господу. Тот, кто сие сделал, давно уж в пекле на самой большой сковородке жарится, а я, вишь, по сию пору землю топчу, хоть и не в радость мне то. Посему, коль есть охота, попытай счастья.
Опустив факел пониже, Медведь склонился и внимательно осмотрел шрам. Когда он снова выпрямился, даже при неверных, пляшущих отблесках горящего на конце кривой сосновой дубины чадного огня стало видно, как побледнело его кирпично-красное лицо.
– Заговорённый, – крестясь свободной рукой и даже не заметив, что рука эта левая, пробормотал разбойник. – Как есть, заговорённый!
– Почто – заговорённый? – снисходительно усмехаясь, сказал Леший. – Надобно ль лешего от железа вострого да стрел калёных заговаривать? Не напрасно ведь я тебе говорил: подумай, еловая твоя голова, откуда у меня такое прозвище! А может, то и не прозвище вовсе? А? Про то, небось, не думал?
Медведь отшатнулся.
– Сгинь, пропади, нечистая сила! – испуганно воскликнул он, крестя Лешего большим крестным знамением.
– А сказывал, в бабьи сказки не веришь, – усмехнулся Леший, который, натурально, даже и не думал куда-то пропадать. – Да не трясись, пошутил я. А кабы не пошутил, так толку от твоего крестного знамения всё едино, как от козла молока. Нешто станет Господь тебе, душегубу, пособлять? Гляди, Медведь! Ты в моем лесу гуляешь, покуда я на твое озорство сквозь пальцы гляжу. А как надоест – прихлопну, яко комара, и духу твоего не останется.
– Нешто воевать со мной надумал? – кривя рот, спросил Медведь. Он хорохорился, но вид у него был испуганный, и голос предательски подрагивал.
– Не я – ты на рожон лезешь, – возразил Леший. – Добром ведь просил: не трогай ты этих людей, дай им своей дорогой идти. Нешто ты с голоду помрёшь, ежели тот обоз не заграбастаешь? Глянь, рожу-то отъел на вольных хлебах такую, что в три дня не заплюешь! Алчность сие, а алчность суть грех великий, за который наказание положено – одному в загробной жизни, а иному и прямо тут, в скорбной земной юдоли, это уж кому как повезёт. Не кличь ты беду, охолонь. Вспомни лучше, кто тебя, полумертвого, выходил, когда ты от лихорадки чуть Богу душу не отдал? Кто ватажников твоих, битых да рваных, мало не по кускам собирал, когда на них княжеская охота набежала? И брага моя вам, лиходеям, по нутру да по сердцу… А ты подумай, что выйти может, ежели в ту брагу ненароком, по недосмотру аль иным каким путем какая-нибудь не та травка угодит?
– Дался тебе этот обоз, – сдаваясь, проворчал Медведь.
– Дался, не дался – сие не твоя забота, а дело Господа Бога и моё, – отрезал Леший. – Говорю же, видение мне было.
Разбойник вздохнул и без видимой нужды оправил свободной рукой широкий пояс, на мгновение коснувшись гладкого обуха засунутого за него топора.
– Ну, видение так видение, – сказал он уже без раздражения, вполне миролюбиво. – Я в таких делах и впрямь ни бельмеса не разумею, а посему и судить о том не могу. Будь по-твоему, Леший. Ты нам не единожды помогал, так отчего б мне ныне тебя не уважить? Пущай идут своей дорогой. Твоя правда: на мой век добычи достанет. Одним обозом больше, одним меньше – от меня не убудет.
– Вот и правильно, – похвалил его Леший. – Я всем про тебя так и говорю: Медведь, мол, настоящий атаман, поелику главная сила у него не в руках, а в голове запрятана. У кого голова светлая есть, тому и руки не надобны – он и без них хлеб свой насущный добудет. А у кого промеж ушей ветер свищет, тому силушка богатырская не подспорье, а одна помеха, от коей, того и гляди, беды не оберёшься. Ну, коли договорились мы с тобою, ступай себе с Богом.
– А ты? – подозрительно спросил Медведь, который и впрямь был неглуп и оттого не торопился принять похвалы Лешего за чистую монету.
– А я пойду, погляжу поближе, что за обозники такие в нашем лесу объявились, – сообщил Леший. – Мнится, заблудились они. Надо бы добрых людей от греха подальше на большак вывести, а то как бы беды какой не стряслось.
Под проницательным взглядом Лешего Медведь, у которого и впрямь были кое-какие задние мысли на сей счёт, отвел глаза и насупился.
– Ступай, – уже не так ласково повторил Леший.
Медведь неловко дёрнул головой – не то поклонился, не то кивнул, не то просто отогнал шального комара, – и, резко повернувшись кругом, беззвучно канул в темноту. Там, куда он ушёл, лишь один раз треснула потревоженная сафьяновым сапогом сухая хворостинка; в путанице чёрных ветвей ещё какое-то время мелькал пляшущий огонь смоляного факела, а после пропал и он.
Леший ещё какое-то время постоял на тропинке, давая глазам привыкнуть к наступившей после ухода Медведя темноте, а потом неторопливо зашагал напрямик через лес к поляне, где остановился на ночлег обоз княжны Басмановой.
Вскоре среди ветвей снова замелькал огонь. Приблизившись, Леший увидел два костра – один затухающий, подле коего спали вповалку вооруженные стражники и справно одетые обозные мужики, и другой, яркий, жадно пожирающий хворост, у которого на деревянной скамеечке сидела, пригорюнясь, княжна. На поляне, призрачно белея во мраке, стоял островерхий полотняный шатёр, внутри которого, превращая его в подобие китайского бумажного фонарика, горели свечи. С краю поляны, в каких-нибудь пяти шагах от Лешего, стоял, опираясь на копье, караульный в кольчуге и железной шапке; другой, коего даже зоркие глаза лесного жителя не различили бы во мраке, не будь и на нем железного, отражающего свет костра, шлема, неподвижно торчал на противоположном краю поляны. Ещё один воин, по виду – начальный человек, сидел на телеге и любовно точил саблю, проводя бруском вдоль всего лезвия от рукоятки к острию. Он что-то напевал, и монотонное шарканье бруска по блестящему железу служило своеобразным аккомпанементом его немелодичному пению, кое больше напоминало ворчание мающегося животом медведя.
Раздвинув колючие еловые ветви, Леший шагнул на поляну. Караульный по-прежнему стоял лицом к костру, не подозревая, что за спиной у него объявился подозрительный чужак – когда хотел, Леший умел передвигаться беззвучно, как призрак. Оглядевшись, он приметил лежащую в траве сухую ветку и нарочно наступил на неё сапогом. Ветка громко хрустнула; караульный подпрыгнул, словно его ткнули шилом пониже спины, резко обернулся и, уставив на Лешего острие копья, закричал испуганным петушиным голосом:
– А ну, стой! Куды прешь? Стой, кому сказано?!
– Стою, – успокоил его Леший. – Да не ори, всех зверей в округе насмерть перепугаешь. Веди меня лучше к начальным людям.
– Ишь, чего захотел, – преисполняясь важности, которая пришла на смену испугу и была призвана оный испуг скрыть, протянул караульный, продолжая держать остриё копья напротив переносицы Лешего. – Может, тебя ещё хлебом-солью приветить, как дорогого гостя?
– И то не помешало б, – не стал артачиться Леший.
– Ишь ты! А вот я тебя, лиходея, сей же час на вертел насажу – поглядим, чего ты тогда запоешь!
– Кабы был я лиходей, так ты б ныне лежал носом в траву и остывал потихонечку, – заверил его Леший. – Я человек не злой…
– Добрые люди в такую пору дома на полатях лежат и десятый сон зрят, – сказал набежавший поперед заспанных стражников Васька Бык. – А ну, братцы, вяжи его!
Стражники, соскучившиеся без дела, кинулись, как псы. Леший, не говоря худого слова, дал скрутить себе за спиной руки. Единственное, что он предпринял, дабы предохранить себя от излишнего рвения Быка, каковой стал ясен ему буквально с первого же взгляда, так это незаметно напряг могучие, вздувшиеся под ветхой рубахой страшными буграми мышцы рук. Когда стражники затянули узлы и, подергав веревки, удовлетворились полученным результатом, Леший расслабил руки, и путы мигом ослабли так, что теперь ему ничего не стоило сбросить их в любую минуту.
– Волоки его к костру, – деятельно распоряжался Бык, не подозревающий о том, что беспомощность пленника является мнимой. – Да хвороста подбросьте! Я ему, лиходею, в глаза глядеть стану. Меня не обманешь! Сейчас разом сведаем, кто таков и чего взыскует! Хотя, мнится, тут и спрашивать ничего не надобно: и так ясно, что за птица, стоит только раз единый на рожу его поглядеть.
– На свою глянь, – не сочтя необходимым сдерживаться, доброжелательно посоветовал Леший.
Вместо ответа Бык ударил его кулаком в живот. Раздался сдавленный болезненный возглас; Леший скупо усмехнулся, глядя на трясущего отшибленной кистью десятника.
– Экий облом-то, – процедил сквозь зубы униженный Бык. – Ей-богу, из цельного дубового комля вытесан! Ну, чего стали?! К костру, к костру его волоките!
Охранники, спотыкаясь в темноте, треща хворостом и ругаясь срамными словами, поволокли пленника к костру – разумеется, не к тому, подле которого сидела княжна, а к тому, около которого большинство из них минуту назад спало мёртвым сном умаявшихся за день людей.
Аникей Севастьянов, уже лет десять откликавшийся на лесную, звериную кличку «Медведь», увидев это, отпустил колючую еловую лапу, которая, качнувшись, закрыла от него происходящее, и, пожав плечами, пошёл восвояси. На ходу Медведь прикинул, что, ежели Леший сдуру сам полез в капкан, и закованные в железо княжеские стражники поутру потехи ради повесят его на ближайшей берёзе, можно будет с чистой совестью считать, что недавнего разговора на звериной тропке попросту не было. Люди, коих Леший зачем-то хотел спасти, уберечь от Медведевых ватажников, сами накличут на себя беду, сжив со свету своего охранителя. А коли так, туда им и дорога; судя по тому, как горбилась и топорщилась поклажа на укрытых рогожею возах, добыча обещала быть богатой, и предводитель лихой ватаги не собирался уступать кому-то другому право завладеть ею. Кто смел, тот и съел – таков самый главный закон, по коему издревле живёт род людской. Тот, кто преступает этот основной закон, обрекает себя на верную погибель; Леший только что это доказал, и Медведь вовсе не собирался следовать его дурному примеру.