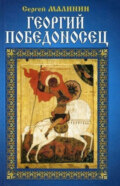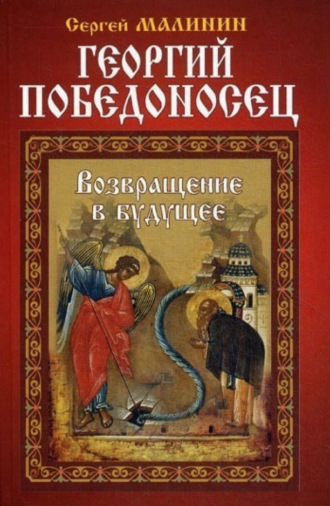
Сергей Малинин
Георгий Победоносец. Возвращение в будущее
Это и впрямь была удача, подвернувшаяся как раз тогда, когда пан Анджей начал ощущать настоятельную необходимость поправить свои денежные дела. За благородного пленника можно было получить весьма приличный выкуп – возможно, такой, что его хватило бы даже на небольшое приданое дочери Юлии. Почему б, в самом деле, пленнику не оказаться сыном знатного боярина или князя, у коего злата куры не клюют, и который ничего не пожалеет ради возвращения из плена своего наследника?
Когда пан Анджей воротился домой из похода, пленник его уже оправился от ран и даже начал под присмотром дворовых выходить на крыльцо. Положение своё он понимал прекрасно и относился к плену философически: дескать, что ж попишешь, коли так вышло?
Впрочем, шансы пана Анджея на получение богатого выкупа пленник находил весьма сомнительными. Признав, что действительно приходится сыном такому богатому и влиятельному вельможе, как князь Андрей Басманов, и что пан Анджей Закревский по обычаю имеет полное право претендовать на выкуп, юноша добавил со вздохом, что князь вряд ли захочет выручить его из неволи. «Ты победил, тебе и награда, – сказал он пану Анджею. – Да только невелика тебе с меня прибыль, ясновельможный. Князь Басманов мне отец, но я-то ему, вишь, не сын!» – «Как это?» – слегка растерявшись и решив, что, видно, неправильно понял пленника (разговаривали-то они поначалу, в основном, на пальцах, жестами), переспросил пан Закревский. «Нешто ты не знаешь, откуда байстрюки берутся!» – с легкой горечью воскликнул пленник, и пан Анджей понимающе крякнул. Судьба опять сыграла с ним злую шутку, в награду за доблесть и смертельный риск подсунув вместо настоящего княжича полукровку – сына грешной, безвестной матери, не имеющего законного права ни на родовое имя, ни, тем паче, на долю в отцовском наследстве.
Увы, другого пленника у пана Анджея Закревского в запасе не было, и он решил попытать удачи с тем, что имелся под рукой. Тут, на счастье, подвернулась оказия: всемилостивый король Речи Посполитой Сигизмунд отправлял посольство к царю и великому князю всея Руси Фёдору Иоанновичу. Через знакомых в сейме пану Анджею удалось добиться разрешения отправить с посольством своего гонца – однодверного шляхтича пана Тадеуша Малиновского, у коего за душой не было ничего, кроме немолодого коня, доброй пищали, отцовской сабли да шляхетской гордости, каковая не оставляла его даже в те минуты, когда он, с пищалью за спиной и саблей на боку, самолично пахал землю, используя в качестве тягла своего боевого скакуна. Когда такое случалось (а случалось такое регулярно, ибо человеку требуется пропитание, а гордость на хлеб не намажешь), было издалека заметно, что в хомуте и с сохою позади оный скакун чувствует себя куда привычнее, нежели под седлом. Однако же смельчак, дерзнувший прямо сказать об этом пану Тадеушу Малиновскому или как-то иначе задеть его гордость, рисковал прямо тут же, на месте, лишиться живота: академий пан Тадеуш не кончал и едва мог нацарапать пером на бумаге своё имя, но саблей при этом орудовал с завидными ловкостью и хладнокровием.
Хутор пана Тадеуша Малиновского располагался на родовых землях Закревских; пан Анджей не единожды ходил вместе с паном Тадеушем на войну, не раз и не два спасали они друг другу жизнь и в отношениях своих давным-давно переступили ту грань, что издревле разделяет вассала и сюзерена. На людях по-прежнему блюдя внешние приличия, они уж не первый десяток лет по-настоящему дружили, и лучшего посланника пану Анджею было не сыскать, хотя бы он, задавшись такою целью, обошёл весь белый свет. Но мудрые люди оттого и мудры, что не ищут того, чего искать не надобно, и никогда не пренебрегают тем, что находится прямо под рукой, ежели оно пригодно для затеянного дела. Пан Тадеуш же годился для дела как никто: ему можно было довериться, как себе, и он не растерялся бы, попав в трудную ситуацию. Словом, если бы пан Тадеуш Малиновский не справился с поручением, сие означало бы одно из двух: либо поручение было заведомо невыполнимо, либо гонцу уж очень сильно, прямо-таки фатально, не повезло.
Итак, подъехав к дому и бросив поводья подбежавшему конюху, пан Анджей Закревский легко, как молодой, взбежал по ступенькам увенчанного античным портиком с пузатыми колоннами крыльца, покосился на ласточкино гнездо под кровлей портика, и мимо распахнувшего дверь босоногого лакея вступил в дом.
В доме оказалось неожиданно шумно. Со стороны столовой доносился громкий мужской голос, на все лады поносивший кого-то такими страшными словами, что, имей оные слова материальную силу, поносимому не хватило бы и десяти жизней, чтобы претерпеть все беды и напасти, коих желал ему поносящий. Манера выражаться и, в особенности, голос сразу же показались пану Анджею до боли знакомыми. В первую минуту он даже не удивился, решив, что весь этот сквернословный шум происходит исключительно внутри его головы и является продолжением его размышлений о пане Тадеуше Малиновском, коему и принадлежали многочисленные и громогласные «пся крэв» и «холера ясна», что всё ещё доносились со стороны столовой.
Потом что-то задребезжало, забренчало, зазвенело; из коридора выскочил и, едва поклонившись хозяину, с тихим тоскливым воем пробежал в сторону кухни повар. От повара валил пахнущий варёной капустой горячий пар; с волос у него капало, причёску, лицо и одежду сомнительно украшали разваренные капустные листья. Сколь ни стремительно промчался мимо повар, пан Анджей успел углядеть на капусте предательские чёрные пятна и унюхать неприятный душок гнили. Всё было ясно: прижимистый повар пытался попотчевать гостя бигусом, приготовленным из подгнившей капусты, был на этом пойман и наказан прямо на месте преступления. Верно говорят московиты: поделом вору мука. Если б такое сомнительное угощенье гостю поднёс сам хозяин, пан Тадеуш, может, и стерпел бы из уважения к старой дружбе. Но терпеть такое от холопа этот гордец, ясно, не станет даже за все сокровища мира…
И только теперь, мысленно разобравшись с поваром и бигусом, пан Анджей осознал, что всё это вовсе не плод его воображения. Голос пана Малиновского продолжал громыхать в столовой, да и облитый бигусом повар столь же мало смахивал на рождённую воображением химеру, сколь и его неаппетитное варево. То бишь, бигус из гнилой капусты в какой-то степени, конечно, был-таки сродни химерам – по крайности, он мог их рождать, особенно по ночам, будучи употреблённым на ужин, – но уж обвешанный капустой повар наверняка был созданием в высшей степени земным – настолько земным, что пан Анджей пробудился от своих мечтаний и, наконец, сообразил, что там, в столовой, сидит пан Тадеуш Малиновский собственной персоной – так сказать, во плоти.
Сие означало, что миссия пана Тадеуша благополучно завершилась – благополучно, по крайней мере, для самого пана Тадеуша, ибо покойники неспособны сквернословить и возмущаться качеством подаваемой на их стол еды.
Осторожно воспрянув духом, пан Анджей устремился в столовую. Помещение это, некогда донельзя роскошное – во всяком случае, по провинциальным меркам, – ныне основательно обветшало, как и всё иное хозяйство во владении шляхтича Закревского. Тёмные дубовые панели стен были источены жучками-древоточцами и напоминали некую деревянную разновидность швейцарского сыра, мебель трещала и скрипела, грозя рассыпаться прахом от неосторожного прикосновения, а драгоценные гобелены и портреты предков потемнели, закоптились и засалились так, что на них уже стало трудно отличить доблестных рыцарей от их боевых коней, а бравых охотников – от оленей и фазанов, на коих они охотились. Покрытые пылью и непобедимой, всесокрушающей ржавчиной старинное оружие и доспехи сумрачно поблескивали на стенах; от побитых молью персидских ковров веяло сухой затхлостью угасающего величия, а из закопчёной пасти огромного, как в королевском замке, бесполезного камина тянуло застарелой печной гарью.
Посреди этого обветшалого великолепия располагался длинный дубовый стол, за коим одновременно могли отобедать человек тридцать. Стол этот был накрыт посеревшей от старости, но чистой полотняной скатертью; в дальнем его конце, ближе к хозяйскому месту, виднелся одинокий столовый прибор из массивного серебра, появление коего на столе означало, что в доме дорогой гость. Мигом заметив и оценив это обстоятельство, пан Анджей мысленно отдал должное сметливости дочери, которая в отсутствие отца и брата брала на себя хлопотную роль хозяйки дома (пан Анджей уже много лет был вдов и, блюдя верность памяти покойной жены, а паче того, не имея средств на очередную женитьбу, так и не обзавёлся новой спутницей).
Войдя в столовую, пан Анджей застал дочь стоящей подле стола. В своём скромном белом платье на фоне тёмных дубовых панелей рыжеволосая пани Юлия напоминала венчальную свечу, а ветхая роскошь обстановки выгодно подчёркивала её молодость и красоту. Перед Юлией, преклонив колена и взяв её тонкую белую руку в свои загрубелые, мало чем отличающиеся от мужичьих, красные лапищи, склонив обильно посеребрённую сединой голову, стоял пан Тадеуш Малиновский, голос которого пан Анджей слышал ещё в прихожей.
– Простите, ясновельможная пани, – приглушённо рокотал пан Тадеуш, – простите великодушно! Не пристало вашим нежным ушкам слушать такие слова…
– Это я должна просить прощения у пана, – мягко возразила Юлия. – Пан устал с дороги и проголодался, а я не проследила за тем, чтоб ему подали угощение, достойное столь дорогого гостя…
– Так пану и надо! – в свой черёд перебил её Малиновский. – Пан совсем одичал, раз позволяет себе лаяться на прислугу в чужом доме, да ещё и в присутствии хозяйки. Лучшего угощения пан не заслужил… За такую провинность пана на конюшне кормить надо, да не овсом, а гнилой соломой!
Пан Анджей прервал этот обмен любезностями, деликатно кашлянув в кулак. Малиновский оглянулся, живо вскочил с колен и поклонился ему в пояс. Приблизившись, пан Анджей обнял старого приятеля.
– Несказанно рад твоему возвращению, – признался он. – Вижу, повар не разделяет моей радости. Прости его, друг мой. Он ловчит, пытаясь сберечь кусочек повкуснее для меня и моих детей. Хотя беречь, признаться, уже нечего. Юлия, – обратился он к дочери, – вели подать нам вина и еды. Да проследи, чтоб на сей раз всё было в порядке.
– Неужто дела настолько плохи? – спросил пан Тадеуш. Когда дочь хозяина вышла из комнаты, улыбка сбежала с его лица, и оно стало хмурым и усталым.
– Ну, не настолько, чтоб я не мог накормить старого друга, как полагается, – невесело усмехнулся Закревский. – Однако и хорошего мало. Виды на урожай не самые лучшие. Да и вряд ли один урожай, даже самый богатый, сумеет исправить то, что приходило в упадок десятилетиями… Не знаю, право, что тогда делать. Я ведь даже имение продать не могу – майорат.
Малиновский огорчённо крякнул, хорошо понимая, к чему клонит пан Анджей. Закревский усадил его за стол и сел напротив, с ожиданием и надеждой поглядывая на старого друга. Принесли вино и закуску; пока слуги суетились вокруг, накрывая на стол, пан Тадеуш попытался собраться с мыслями. Из этого ничего не вышло; да и что, право слово, можно было придумать в таком положении?! Прямой вопрос, который вот-вот должен был прозвучать, требовал столь же прямого ответа. Ответ же был неутешителен; за всё время пути из Москвы в родные места пан Тадеуш так и не сумел придумать, как подсластить горькую истину, и глупо было надеяться, что способ смягчить удар отыщется теперь, в самую последнюю минуту.
Наконец, предводительствуемые опасливо косящимся на гостя поваром лакеи удалились, оставив шляхтичей одних. Юлия Закревская тоже не вернулась в столовую, понимая, по всей видимости, что отцу надобно переговорить с гостем с глазу на глаз. Уходя, она выглядела печальной и бледной. Простодушный пан Тадеуш Малиновский отнёс её настроение на счёт своего и впрямь не слишком пристойного поведения; право, не стоило ему так забористо бранить повара, не оглядевшись прежде по сторонам. Пан Анджей, в отличие от него, подозревал, что причина дочерней грусти иная; он догадывался, что это за причина, и оттого его нетерпение услышать привезённые гонцом новости многократно усиливалось.
Пан Тадеуш, однако, говорить не спешил. Осушив кубок, в который входила добрая бутылка вина, он с прямо-таки неприличной поспешностью до отказа набил рот едой и принялся жевать, кряхтя, причмокивая и всеми возможными способами показывая, как ему вкусно и как он истосковался по домашней пище. Пан Анджей терпеливо ждал, давая другу возможность утолить голод. Малиновский продолжал есть; ему казалось, что это недурной способ оттянуть неприятный для обоих разговор, однако он подозревал, что надолго его не хватит: каким бы голодным человек ни уселся за стол, рано или поздно он либо наестся до отвала, либо съест всё, до чего может дотянуться.
Через некоторое время пан Анджей заподозрил неладное, а когда Малиновский, целиком умяв жареного гуся, всё так же молча, да ещё и пряча при этом глаза, принялся за свиной окорок, ему стало окончательно ясно, что денег нет и не будет. Оставалось лишь выяснить причину неудачи; положа руку на сердце, причина сия пану Анджею была глубоко безразлична – от разговоров деньги всё равно не появятся, – однако расспросить пана Тадеуша надлежало хотя бы из вежливости.
– Говори, друже, – мягко произнес он, – не томи. Что сказал тебе князь Басманов? Можешь не хитрить, я и так уже всё понял.
Пан Тадеуш крякнул и с видимым облегчением оттолкнул от себя окорок, на который уже не мог глядеть. Вынув из-за пазухи слегка помятый бумажный свиток, перевязанный витым шнурком, на коем болталась подтаявшая восковая печать, он протянул грамоту Закревскому.
– Пся крэв, – проворчал пан Тадеуш. – Если б мог, я вызвал бы его на поединок и дал ему отведать моей сабли. Холера ясна! Не помочь в беде родному сыну!
– Он незаконнорожденный, – вздохнул пан Анджей, разворачивая свиток.
Грамота была составлена по-польски; польский, разумеется, был таким, каким его представлял себе толмач-московит, коего удалось разыскать князю Басманову. Ничего утешительного или хотя бы нового для пана Анджея грамотка не содержала, если не считать пары ругательств, коих шляхтич Закревский ранее не слышал и потому решил запомнить, дабы при удобном случае ввернуть в приватном мужском разговоре.
Пока он читал, пан Тадеуш, заново обретя дар речи, без стеснения поносил русского князя, который не захотел прийти на выручку собственному, пусть себе и незаконнорожденному, сыну. Пану Анджею такое положение вещей тоже представлялось довольно странным. Добро бы ещё у князя не было денег! Но деньги у Басманова водились, и притом в таком количестве, что ему ничего не стоило выкупить из плена хоть целый полк своих соотечественников.
Если отбросить обидные намёки на принадлежность всей польской шляхты и, в первую голову, пана Анджея Закревского к собачьему роду-племени, а заодно и всё прочее сквернословие, смысл привезённой из далёкой Москвы грамотки сводился к следующему: да, в далёкой юности князь Андрей Басманов согрешил, однако грех свой давно искупил, пожаловав своему незаконнорожденному отпрыску в наследственное владение деревеньку под Нижним Новгородом, доброго коня, саблю и три сотни ефимков. Свой родительский долг князь, таким образом, считал исполненным и более ничего не желал слышать о недоросле, именующем себя его сыном. Коротко говоря, сумел угодить в полон – сумей из него и выбраться.
В общем и целом выглядело всё это разумно, хотя на взгляд пана Анджея князь мог бы более тщательно выбирать выражения. Но выражения не меняли сути дела. Суть же была проста: платить выкуп за сына князь решительно отказался, и теперь Закревскому предстояло решить, как быть дальше.
– Холера ясна, – вслед за паном Тадеушем беспомощно выругался он. – И что я теперь должен с ним делать? Не могу же я держать его у себя в доме до скончания века! Ведь, помимо всего иного, это ещё и лишний рот! Не могу же я определить княжеского сына в конюхи!
– Почему? – удивился пан Тадеуш, который не видел в таком предположении ничего странного и неприемлемого, ибо сам был себе и конюхом, и дворником, и лакеем, и землепашцем.
– Честь не позволяет, – сообщил пан Анджей. – Пленный князь – всё равно князь.
– Граф Вислоцкий, к примеру, просто продал бы его каким-нибудь туркам, – наливая себе вина, задумчиво проговорил пан Тадеуш. – Им безразлично, князь он или холоп. Разница только в цене, которую можно получить за него на невольничьем рынке где-нибудь в Стамбуле.
– Это не самая удачная из твоих шуток, пан Тадеуш, – с грустью произнёс Закревский.
– Наверное, оттого, что мне не слишком весело, – предположил Малиновский. – Не знаю. Может быть, князь передумает. Хотя по его виду мне показалось, что он не из тех, кто меняет свои решения.
– На то он и князь, – ещё печальнее сказал пан Анджей.
– Будучи князем, вовсе не обязательно быть глупцом, – возразил Малиновский. – Сказано: один Бог без греха. Даже князья могут ошибаться, говоря в горячке то, о чём после приходится сожалеть. Не исправляя допущенных ошибок, мы лишь усугубляем их последствия…
Не договорив, он жадно припал к кубку. Пан Анджей молчал, разглядывая старого друга с некоторым изумлением и мысленно пытаясь сопоставить его простецкое лицо и огрубелые, привычные к тяжкой мужичьей работе руки с философическими речами, коих от пана Тадеуша никто отродясь не слыхивал.
– Это, – продолжал пан Тадеуш, утолив жажду, – объяснил мне один старик-отшельник. У него странное прозвище – Леший… А впрочем, и не странное вовсе. На лешего он и похож. Ха! Мне только сейчас подумалось: а может, это и был самый настоящий леший? – Он ухмыльнулся; язык у него уже слегка заплетался, и вообще было видно, что пан Тадеуш основательно захмелел от обильной пищи, вина и накопившейся усталости. – Я ночевал у него на обратном пути, мы разговорились, и слова его показались мне достойными внимания.
– Ага, – с понимающим видом кивнул слегка успокоенный этим сообщением Закревский и тоже налил себе вина. – Что же прикажешь делать? Ждать, пока твой Леший встретится с князем Басмановым и вразумит его?
– Боюсь, ждать придётся долго, – вздохнул Малиновский. – Старик безвылазно сидит в лесной глухомани, и я не заметил, чтобы его сильно тянуло к людям. Особенно к князьям… Но либо так, либо тебе самому придётся признать, что ты допустил большую ошибку, взяв в плен этого московита.
– Ошибку! – воскликнул пан Анджей, с такой силой стукнув кубком о стол, что вино выплеснулось через край и растеклось по скатерти похожим на кровь пятном. – Не дать достойному противнику умереть от ран – ошибка ли это, пан Тадеуш? Но даже если и так, что с того? Что изменится, даже если я во время воскресной проповеди столкну ксендза с амвона, вскарабкаюсь туда сам и во всеуслышание объявлю, что ошибся? Сомневаюсь, что в этом случае Господь смилостивится надо мной и заплатит выкуп вместо князя!
– Я тоже в этом сомневаюсь, – рассудительно согласился пан Тадеуш. – Особенно если ты действительно спихнёшь ксендза с амвона.
– Вот видишь, – убитым тоном заключил пан Анджей.
– Да, – протянул Малиновский, – положение трудное. Продавать его туркам ты не хочешь, определить в конюхи не можешь… Остаётся одно – ждать и надеяться, что Господь вразумит князя Басманова и тот переменит своё несправедливое решение.
– Боюсь, что ждать я тоже не могу, – нехотя признался пан Анджей. – И дело не только в деньгах. Видишь ли, Юлия… Я не хотел об этом говорить, но мне нужен твой совет, Тадеуш. Мне кажется, княжич ей нравится.
– А вот это и впрямь скверно, – с трудом переварив полученное сообщение, почесал в затылке Малиновский. – Ай-яй-яй… Как же так? Пленник, да ещё схизмат…
– Сердцу не прикажешь, – вздохнул пан Анджей. – И кто-то упорно распускает слухи, будто бы Юлия и этот московит… ну, ты меня понимаешь.
– Я даже догадываюсь, кто этим занимается. – Пудовый кулак пана Тадеуша с грохотом опустился на столешницу, заставив подпрыгнуть посуду. – Клянусь всеми святыми, здесь не обошлось без Быковского! Только этот прихвостень Вислоцкого с его грязным языком мог измыслить такую напраслину! Погоди, дай только отдохнуть с дороги, и я вобью его слова ему в глотку вот этим кулаком!
Пан Анджей с кислым выражением лица оглядел внушительный кулак приятеля, коим, судя по виду, можно было свалить с ног бешеного слона.
– Быковский не станет драться на кулаках, – остудил он пана Тадеуша. – Для начала он оскорбит тебя, сказав, что кулачный бой – мужичья забава, и что сам ты – мужик. Тогда тебе придётся либо проглотить оскорбление, либо драться с ним на саблях. А что такое сабля в руках Быковского, ты знаешь не хуже меня.
– А честь? – грозно насупился Малиновский.
– О чести можно говорить, когда ты сам услышишь, как Быковский распускает гнусные сплетни о моей семье. Тогда я первый обнажу клинок, и будь что будет. Пока же это лишь твоя догадка. Затеяв ссору без доказательств, ты сам будешь выглядеть клеветником, а когда Быковский тебя убьет, ты не сможешь даже оправдаться.
– Перед Господом мне оправдываться не придётся, – возразил пан Тадеуш. – Он всё видит…
– И он один без греха, – мягко напомнил пан Анджей. – А вдруг ты ошибаешься? Больше всего я боюсь, – признался он, – что эти сплетни дойдут до Станислава.
– О, да, – начал пан Тадеуш и осёкся, с удивлением и недовольством воззрившись на лакея, который без стука ввалился в столовую и остановился на пороге, тяжело дыша и дико тараща глаза.
– Беда, ясновельможный пан! – не вдруг отыскав взглядом сидевшего на непривычном месте, сбоку от стола, а не во главе его, пана Анджея, выпалил он. – Молодой господин обезумел, хочет убить московита!
Шляхтичи разом вскочили, с грохотом опрокинув тяжелые стулья.
– Где?! – вопросил пан Анджей.
– На заднем дворе, у конюшни, – отвечал холоп.
Оттолкнув его, пан Закревский опрометью выбежал из столовой.
– Видно, не зря ты боялся, – пробормотал пан Тадеуш Малиновский, хватая свою пыльную шапку и устремляясь за хозяином.