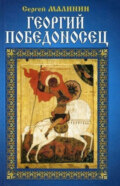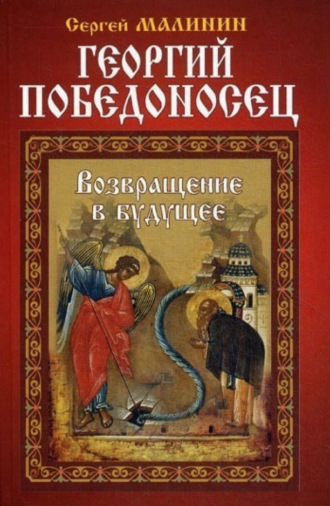
Сергей Малинин
Георгий Победоносец. Возвращение в будущее
Глава 3
Миновав скверно возделанное поле, на котором изредка можно было встретить оборванного смерда, что ковырял деревянной сохой сухую землю и испуганно, как забитое животное, косился на проезжающих, небольшой отряд короткой вереницей втянулся в густой заповедный лес. Огромные, в три-четыре обхвата, многовековые дубы-великаны простёрли над дорогой могучие ветви, совершенно заслонив солнце. Под их сенью царил вечный, пахнущий грибной прелью зеленоватый сумрак, земля была ровно и густо, как морской берег галькой, засыпана падавшими на неё на протяжении столетий желудями, которые маслянисто поблёскивали в пробивающихся сквозь густой полог листвы косых солнечных лучах. Дорога здесь являла собою просто неширокую полосу свободной от деревьев земли, столь же густо усеянной желудями, как и повсюду кругом, из чего следовало, что ездят здесь нечасто.
Оценив это обстоятельство, ехавший во главе отряда закованный в воронёные латы светловолосый гигант из предосторожности поднял кольчужный воротник, закрыв горло до самого подбородка. Многие из ехавших следом, так же, как и он, закованных в железо всадников последовали его примеру: кольчуга – скверная защита от пули или стального арбалетного болта, но от выпущенной из самодельного лука, выстроганной из свежесрезанной ветки, кое-как заостренной и обожжённой над углями стрелы она может спасти. На отряд нападали уже дважды, и оба раза это были шайки жалких, едва держащихся на ногах от голода, грязных оборванцев, вооружённых чем попало и настолько скверно владеющих даже тем, с позволения сказать, оружием, коим обладали, что предводитель отряда мог в одиночку раскидать их, как щенков, даже не обнажая шпаги. Впрочем, дрались они отчаянно, из чего следовало, что для них это вопрос жизни и смерти, так что без крови не обошлось: позади осталось не менее двух десятков изрубленных, прошитых пулями и арбалетными стрелами разбойников, а также, увы, трое оказавшихся недостаточно проворными ландскнехтов.
Вспоминая эти стычки, командир небольшого отряда швейцарских и немецких наёмников, уроженец кантона Швиц Ульрих фон Валленберг дивился только одному: отчего это поляки обзывают московитов дикарями и азиатами, коль сами недалеко от них ушли? Судьба троих оставшихся в придорожных кустах кнехтов фон Валленберга не волновала: смерть – ремесло солдата, а жизнь его – всего-навсего товар, который он более или менее удачно меняет на золото.
Валленберг уже полных десять лет верой и правдой служил ландграфу Карлу Вюрцбургскому. Ему было уже под сорок, и в последнее время он начал с горечью и легким испугом осознавать, что становится староват для своего ремесла. Возвращаться на родину не было смысла, ибо на каменистой почве кантона Швиц хорошо произрастали только плечистые молодцы вроде него, большинству которых, дабы худо-бедно прокормиться, приходилось наниматься в армию какого-либо государя. Дожить до старости удавалось немногим, и лишь единицы возвращались домой с тем, зачем когда-то отправились в дальние края, то бишь с туго набитым кошелем, в котором, лаская слух, позванивало золото.
Ульрих фон Валленберг, увы, не принадлежал к числу этих счастливцев, ибо за все годы службы так и не научился копить деньги. Причиной тому была вовсе не врожденная расточительность или, Боже сохрани, глупость. Валленберг просто не мог понять, как человек, занятый его ремеслом, может загадывать наперед, строить какие-то планы и не казаться при этом смешным. В кантоне Швиц не осталось никого, кто мог бы назвать Валленберга своим родичем, а посему наследником его с неизбежностью должен был стать какой-нибудь мародёр, коему посчастливилось первым обобрать остывающий на поле боя изувеченный труп.
Как-то раз совсем недавно он заговорил об этом со своим господином, Карлом Вюрцбургским, при котором в последнее время состоял телохранителем. Ландграф выслушал старого солдата со всем вниманием, на кое был способен по молодости лет, после чего, казалось, напрочь забыл о разговоре. Валленберг не обиделся: ничего иного он и не ждал, а о том, что стареет, заговорил с ландграфом лишь в силу присущего его простой натуре прямодушия: он не хотел, чтобы Карл заблуждался по поводу его способности нести службу, и честно предложил поискать себе замену.
Произошло сие после того, как во время обычной учебной схватки на заднем дворе замка неопытный, но здоровенный, как бык, новобранец ухитрился выбить из руки Валленберга шпагу. Это видели все, и все, в том числе и сам Валленберг, понимали, что то была досадная случайность. Но капитан Валленберг не признавал оправданий и в тот же день явился к своему господину, Карлу Вюрцбургскому, прося отставки. Отставка не была принята, и, поостыв, капитан с неохотой признал правоту ландграфа: сам он сколько угодно мог называть себя стариком, на деле же стоил десятка менее опытных бойцов. Лучшего же начальника охраны Карлу было не сыскать; о том знали оба, и разговор, начавшись с произнесённой каменным тоном просьбы принять отставку, вскоре плавно перетёк в дружескую беседу, в коей, как после со смущением осознал Валленберг, он единственно и нуждался.
Спустя неделю ландграф вызвал его к себе. Оказалось, что Карл вовсе не забыл о том разговоре. Перечислив заслуги капитана Валленберга, которых и впрямь было немало, ландграф предложил ему весьма приличную сумму единовременно и небольшую ежегодную ренту, ежели тот выполнит его последнее поручение: встретит на границе Московии и Речи Посполитой и невредимой доставит в Вюрцбург его невесту, княжну Басманову. После того, заявил ландграф, капитан Валленберг будет свободен от всяких пред ним обязательств: захочет – продолжит службу в замке, не захочет – удалится на покой, что, с учётом предлагаемой суммы, выглядело весьма привлекательным делом.
Поручение, конечно, представлялось опасным, однако отказываться нельзя: Валленберг не хотел уронить профессиональную честь, да и деньги для наёмника лишними не бывают. Коротко отсалютовав хозяину, капитан вышел и без промедления стал собираться в дорогу.
И вот теперь, расслабленно покачиваясь в седле, старый наёмник с обманчиво благодушным видом озирал окрестности из-под белесых, как у молодого поросенка, ресниц, что опушали его красноватые от бессонницы и усталости глаза. Рука привычно лежала на эфесе шпаги; жёсткий металл кольчужного воротника уже согрелся от соприкосновения с телом и больше не холодил кожу. Дубовая роща кончилась; вместе с нею кончился и неприятно хрустевший под конскими копытами скользкий желудёвый ковер. Теперь рослый гнедой жеребец Валленберга с мягким перестуком ступал ногами по слегка припорошенной прошлогодней хвоей утоптанной земле. Дорога поросла жёсткой, остроконечной, как лезвия шпаг, лесной травой; кое-где на неё уже выползли кусты и даже молодые деревца. Капитана предупреждали, что здешние места пользуются дурной славой даже у местного населения, однако он торопился, а посему, имея у себя под рукой без малого два десятка хорошо вооруженных всадников, решил ради сокращения пути пренебречь опасностью очередного нападения шайки голодранцев.
Прихотливо, без видимой необходимости изгибаясь и петляя, дорога лениво карабкалась на высокий, поросший толстыми старыми соснами и серебристым мхом песчаный холм. В вековом сосновом бору было светло и просторно, как в огромном храме, медные колонны сосен возносили к испятнанному белой пеной облаков голубому небу пышные тёмно-зелёные кроны. Где-то неподалеку выбивал гулкую барабанную дробь красноголовый дятел; мягко стучали копыта, всхрапывали лошади, негромко позвякивала сбруя. Запах разогретой солнцем сосновой смолы и хвои пьянил, как молодое вино, забивая даже ставшие привычными запахи конского пота, дублёной кожи и железа. Вместе с карабкавшимся к зениту солнцем понемногу поднималось настроение. Валленберг повеселел, особенно когда вспомнил, что сегодня, быть может, ему удастся встретить поезд княжны Басмановой и, взяв её под свою охрану, повернуть восвояси. Ему было любопытно взглянуть на избранницу ландграфа, тем паче что сам Карл Вюрцбургский её ещё не видел; шевеля губами, он про себя повторил заученные перед отъездом, казавшиеся смешными и бессмысленными слова чужого языка: «Я – капитан гвардии ландграфа Вюрцбургского. Послан тебе навстречу, княжна, дабы невредимой доставить ко двору моего господина». С трудом выговаривая эту абракадабру, он надеялся лишь, что сумеет отличить княжну от других женщин, коих, как он подозревал, в её свите было немало. Господь всемогущий! Разве мечтал он когда-либо о таком венце карьеры? Тащить через болота и кишащие лихими людьми леса целый обоз причитающих, визжащих, всё время норовящих отстать и заблудиться баб – такого, право, врагу не пожелаешь!
Где-то в стороне пронзительно и визгливо скрипнуло потревоженное ветром дерево. Ехавший по правую руку от капитана всадник заметно вздрогнул и нервно стиснул резной приклад колесцового мушкета.
– Спокойнее, Курт, – сказал ему Валленберг. – Это всего лишь старая сухая сосна. Боюсь, здесь нет ничего опаснее белок. Это путешествие понемногу становится скучным, ты не находишь?
Ландскнехт повернул к нему обветренное, обезображенное длинным извилистым шрамом горбоносое лицо.
– Тот старик на постоялом дворе рассказывал, что в здешних местах водится нечистая сила, – сказал он.
– И ты испугался бабьих сказок, придуманных грязными славянскими свиньями? – усмехнулся Валленберг. – Они темны, забиты и боятся даже собственной тени. Ха! Нечистая сила! Я скитаюсь по свету уже больше двадцати лет, и поверь, дружище, мне ни разу не встретилась нечисть, которая не испустила бы дух, отведав моей шпаги!
– Вы везучий человек, капитан, – уклончиво ответил ни в чём не переубеждённый ландскнехт.
– Верить мне или нищему с постоялого двора – твоё дело, приятель, – посуровев, сказал Валленберг. – Если думаешь, что это тебе поможет, помолись. Я, так и быть, отвернусь на минутку. А больше, увы, я ничем не могу тебе помочь.
– Вряд ли Господь услышит мою молитву, – с сомнением заметил наёмник.
– Тем более не стоит вешать нос, – подбодрил его Валленберг. – Нечисть… Нашёл, кого бояться! У этих славян даже нечисть какая-то мелкая – домовые, лешие, кикиморы… То ли дело – тролль величиной с гору! Или огнедышащий дракон. А тот старый хрыч на постоялом дворе почти наверняка врал, рассказывая сказки, которые сам только что сочинил, дабы мы, свернув на указанную им тропу, угодили прямиком в лапы его сообщников. Бог свидетель, я был бы даже не прочь ещё разок позабавиться, насаживая их на вертел! – При этих словах обтянутая грязной и засаленной замшевой перчаткой ладонь капитана фон Валленберга многозначительно похлопала по эфесу шпаги. – Увы, нам не до развлечений. Время не терпит, не то я бы непременно последовал совету старого лазутчика и двинулся той дорогой, которую он указал. Здешние места после этого стали бы немного чище, а всем нам было бы не так скучно. Да и ты, дружище Курт, не так трясся бы при виде настоящего врага, как трясёшься из страха столкнуться с врагом воображаемым…
Пристыженный Курт отвернулся, проворчав что-то сердитое, под смех своих товарищей, которые, как обычно, были рады случаю позубоскалить. Валленберг коротко взмахнул рукой, и смех оборвался, словно обрезанный ножом. Эта поездка чем дальше, тем больше представлялась делом пустяковым, наподобие увеселительной прогулки, однако капитан не мог позволить себе ослабить железную хватку, которой держал своих подчиненных. Командовать наёмниками нелегко; дисциплина их тяготит, умирать за хозяина они не желают (ибо мёртвому, как известно, деньги ни к чему), и держать их в узде можно лишь при помощи железной строгости да чувства воинского товарищества, которое заменяет солдату без роду-племени чувство долга и верности родине. Ландскнехты, коими имел сомнительную честь командовать капитан Ульрих фон Валленберг, готовы были умереть, но не за хозяина, которому присягнули, а за своего командира и своих товарищей по оружию, ибо только такая готовность давала каждому из них хоть какой-то шанс уцелеть, дожить до старости и вернуться в родные края.
Солнце поднялось в зенит и начало мало-помалу клониться к западу. Разлинованная синеватыми тенями сосновых стволов, испятнанная ажурной тенью крон дорога, будто следуя его примеру, вскарабкалась на лесистый гребень холма и покатилась под уклон, в заросшую густым кустарником болотистую низину, по дну которой, негромко журча, бежал ручей. Кони заржали, издалека почуяв живительную прохладу струящейся в тенистых зарослях воды.
Кусты на дне оврага раздвинулись, из них показалась гнедая конская голова, а следом в поле зрения капитана Валленберга возник посланный им десять минут назад на разведку дозорный в начищенной до блеска кирасе и похожем на глубокий таз стальном шлеме. Громыхая железом, дозорный подскакал к капитану и доложил, что впереди всё спокойно, что дно в ручье не очень топкое и что вода в самом глубоком месте едва достигает конских бабок. Глядя поверх его плеча в густо заросшую кустарником и молодыми деревьями лощину, Валленберг заметил какой-то куст, цветущий пышным белым цветом. Над цветами с деловитым гудением вились пчелы. Картина была такая мирная и приятная глазу, что капитану невольно представился уютный каменный домик под красной черепичной крышей, увитый диким виноградом и утонувший в зарослях роз – его давнишняя мечта, которую он намеревался осуществить после возвращения из этого путешествия.
Отогнав сие сладостное, но, увы, неуместное в данный момент видение, фон Валленберг махнул рукой в перчатке своим людям и первым направил коня в лощину. С глухим топотом и металлическим лязгом отряд пришёл в движение и стал спускаться с холма, отдалённо напоминая железный ручей. Округлые шлемы и выпуклые нагрудные зерцала маслянисто поблескивали, острия пик вспыхивали на солнце острыми искрами; лоснились гладкие лошадиные крупы, а на конских чепраках и коротких плащах всадников переливался золотым шитьём родовой герб ландграфа Вюрцбургского.
На ближних подступах к ручью отряд был внезапно атакован звенящей тучей комаров, слепней и Бог весть какой ещё крылатой кровососущей мерзости. Лошади фыркали, хлестали себя хвостами по бокам и отчаянно мотали головами, звеня сбруей; всадникам тоже пришлось несладко, и звуки хлёстких пощёчин и яростных проклятий гармонично вплетались в производимую движущейся сквозь комариную тучу кавалькадой какофонию. Лишь Ульрих фон Валленберг по-прежнему спокойно и расслабленно сидел в седле, словно назойливые кровососы досаждали ему не более чем могли бы досадить установленной на площади бронзовой конной статуе. Казалось, дублёная кожа капитана дворцовой гвардии нечувствительна к укусам. На деле это было, конечно же, не так; просто, привыкнув стойко сносить боль от полученных в сражениях ран, старый солдат считал ниже своего достоинства обращать внимание на булавочные уколы комариных жал.
Дорога под копытами лошади превратилась в полосу влажной, вязкой, поросшей пучками болотной травы почвы. Ветви густо разросшихся кустов задевали лицо, с шорохом скребли по зерцалу доспехов и воронёным наплечникам, цеплялись за плащ, как недобрые, норовящие сдёрнуть всадника с седла руки. Здесь было сумрачно и промозгло, как в сыром погребе; это было одно из тех мест, откуда хочется поскорее убраться.
Копыта гнедого зачавкали по грязи. Из травы выпрыгнула и с коротким всплеском погрузилась в ручей потревоженная серая лягушка. Измученный жарой и комариными укусами конь жадно потянулся к воде. Валленберг железной рукой натянул поводья, задирая ему голову. В это самое мгновение крупный слепень, с жужжанием опустившись на конский храп, вонзил жало в бархатистую незащищённую кожу. Дико заржав, гнедой встал на дыбы, норовя сбросить седока, в коем не без оснований видел причину всех претерпеваемых ныне бедствий.
С губ капитана сорвалось громкое проклятье, и в то же мгновение, заглушив богохульный вопль Валленберга, из кустов на противоположной стороне ручья грянул ружейный залп. Гнедой содрогнулся всем телом, издал предсмертное ржание и боком рухнул в воду, подмяв под себя седока.
* * *
Дичи в лесу оказалось столько, что это заметил бы даже человек, куда менее сведущий в ремесле охотника, чем княжич Пётр, который был обучен сему тонкому искусству с младых ногтей и не единожды хаживал с рогатиной на медведя, не говоря уже о более мелком лесном зверье.
Без труда заметив и распознав признаки бурлящей в лесных дебрях жизни, княжич с несвойственной его возрасту рассудительностью решил сделать небольшую остановку. Вообще, спешить ему было некуда: оставленная на попечение старосты деревенька уже более двух лет худо-бедно жила без него, а стало быть, могла так же спокойно прожить лишний час, день, а может быть, и год. Никто не просиживал день-деньской у окошка, глядя на дорогу и с нетерпением ожидая его возвращения, и даже товарищи по порубежной государевой службе, вернее всего, уже давно не чаяли увидеть его живым. Княжич Пётр Басманов был свободен, как птица или вольный ветер. Когда первый восторг освобождения из плена немного остыл, а нетерпение, подгонявшее его вперёд, поближе к родным местам, пошло на убыль, он осознал это обстоятельство и начал находить в своём нынешнем положении неоспоримые преимущества. То было положение человека, который никому и ничем не обязан – положение, во все времена от сотворения мира являвшееся редкостным и трудно достижимым.
Конечно, он был обязан заботиться о своих крестьянах, спора нет; но, как уже было сказано, крестьяне прекрасно обходились без него уже более двух лет и могли подождать ещё немного.
Он был обязан служить государю, но государь, как и его холопы, недурно обходился без княжича Басманова на протяжении целого года и, верно, не свалился б с трона, даже если бы упомянутый княжич и вовсе не вернулся на службу. Никакой большой войны пока не предвиделось, а мелкими порубежными стычками Пётр Басманов был сыт по горло и наверняка знал, что уж они-то от него никуда не денутся – сколь ни проезди по чужим краям, а этого добра на твой век всё едино с лихвой достанет.
Ещё он был обязан пану Анджею Закревскому, коему обещался вернуть выкуп за свою свободу, но сие дело также могло подождать – пускай недолго, ибо пан Анджей отчаянно нуждался в деньгах, и скрыть этого не могла даже его старательно выставляемая напоказ шляхетская гордость, но всё-таки могло.
Более княжич Пётр ни перед кем из смертных не имел обязательств; Господу же, коего все мы от рождения и до смерти должны денно и нощно прославлять, можно молиться и в лесу, и в чистом поле, и в сыром склепе – словом, всюду, куда б ни занесла тебя судьба. Осенние холода были ещё далеко, так что спешить княжичу Петру и впрямь было некуда, и, уразумев сие, он перестал без толку торопить притомившегося коня и решил, пока суд да дело, позаботиться о пропитании.
Запасов, коими снабдил его, провожая в дальний путь, добросердечный пан Анджей, на всю дорогу хватить не могло. Да и свежее мясо, как ни кинь, вкуснее ржаного сухаря и вяленой рыбы; мяса же, как уже было сказано, в этом лесу бегало предостаточно, и его оставалось только добыть.
Посему, очутившись под сенью заповедных дубрав, княжич сделал большой привал, употребив это время на изготовление доброго лука. Пока придирчиво выбранная и срубленная верной саблей крепкая ветвь подсыхала над разведённым костерком, княжич со сноровкой бывалого воина и охотника сплёл тетиву из волос, позаимствованных из хвоста гнедого. Гнедой был этим не слишком доволен, тем паче, что лошади мяса не едят, а стало быть, сия жертва представлялась ему бессмысленной, однако от него не убыло, а ежели и убыло, так не зело заметно.
За стрелами дело тоже не стало. Княжич призадумался было, чем бы их оперить, но тут ему повезло наткнуться на объеденную кем-то – не иначе, лисицей, а может статься, и иным мелким зверьком, – тушку птицы, бывшей некогда сорокою. Перьев, таким образом, ему хватило с лихвой; заострив и закалив над огнём концы стрел, княжич старательно их оперил и, пока не село солнце, отправился добывать себе пропитание.
Встреченного оленя он не тронул, ибо не чаял в одиночку умять его целиком и не хотел губить Божью тварь ради единственной, пускай и весьма обильной, трапезы. Сохранить мясо, коего, пожалуй, могло бы хватить до самой Москвы, он также не мог, а посему удовлетворился зайцем, что неосторожно выскочил из кустов в каком-нибудь десятке шагов от него и был немедля сбит метко пущенной стрелой.
Пока княжич разделывал добычу, раздувал погасший костёр и готовил ужин, день почти догорел. В лесу быстро темнело, и о том, чтобы продолжить путь, не могло быть и речи. Перекусив, чем Бог послал, и запив не слишком обильную трапезу водой из притороченной к седлу кожаной баклаги, княжич помолился Богу и устроился на ночлег, по обыкновению положив под голову седло и завернувшись в плащ. Крупные летние звёзды смотрели на него сквозь колышущийся полог ветвей; глядя на эти неугасимые Божьи лампады, Пётр Басманов уснул легко и беззаботно, как человек, чьё тело молодо и здорово, совесть чиста, желудок полон, а душа не обременена тяжким грузом грехов и невыполненных обязательств.
Его разбудил утренний холодок и перекличка лесных птах, что звонко пробовали голоса, готовясь встретить восход солнца. Зевнув и с наслаждением потянувшись всем телом, княжич легко поднялся со своего спартанского ложа, раздул угли, разогрел на них оставшуюся от вчерашнего ужина зайчатину, без спешки перекусил, а после, засыпав костёр землёю и оседлав гнедого, тронулся в путь.
Ближе к полудню его внимание привлекли отпечатавшиеся на твердой земле заросшей травами лесной дороги следы лошадиных подков. Отпечатков было великое множество; они шли густо, перекрывая друг друга и никуда не сворачивая с дороги, из чего следовало, что тут проехал не одинокий всадник и не охотничья кавалькада, которая непременно рыскала бы по лесу в поисках добычи, а военный отряд десятка в два, а может быть, и в три сабель. Отпечатки подков были глубоки; сравнив их с отпечатками своего гнедого, княжич пришёл к выводу, что всадники были тяжело вооружены – если только, конечно, не ехали по двое на одной лошади.
Глядя на следы, коими была густо испещрена заброшенная лесная дорога, княжич Пётр призадумался. Следы вели в сторону русской границы, до которой осталось не более одного дневного перехода. Следы вооруженного отряда, ведущие от центра польского королевства к русским пределам, могли означать только одно: поляки затеяли очередной разбойничий набег. Не войну, ибо в таком случае следов было бы много больше, и не только лошадиных, а вот именно короткий разорительный набег. Двадцать-тридцать сабель – не войско, но, незаметно пробравшись на чужую территорию, такой летучий отряд может натворить немало бед. Не один десяток изб займётся пламенем, и немало вдов и сирот останется в спалённых дотла деревеньках после такого набега. В порубежных лесах опять забелеют кости предательски подстреленных из засады ертоульных, и опять, вернувшись из похода, разбойники в расшитых награбленным златом кунтушах будут пить вино и во хмелю с хохотом похваляться друг перед другом своей воровской доблестью.
Кровь вскипела у него в жилах, заставив в единый миг позабыть о недавних рассуждениях по поводу вольного ветра, который никому ничего не должен и ничем никому не обязан. Княжич Басманов, в свои молодые годы уже ставший настоящим ветераном порубежных схваток, вспомнил о главном своем долге: лечь костьми, но не пропустить врага на родную землю.
Заставив себя успокоиться, дабы в горячке не наделать лиха, княжич навострил уши и двинулся по следу конного отряда, благо тот направлялся как раз туда, куда ему самому было надобно.
Солнце поднималось всё выше, становилось по-настоящему жарко. Кроны деревьев монотонно шумели под ровным верховым ветром, но внизу не было ни дуновения, и напоённый ароматами живицы, хвои и можжевельника воздух был неподвижным, горячим и казался густым, как смола. Мелкая мошкара так и липла к вспотевшему лицу; проезжая через густой орешник, княжич сломил ветку и обмахивался ею, как опахалом, отгоняя надоедливых мошек.
Вскоре после полудня ему снова пришлось сделать остановку. Справа, выныривая из молодого ельника, в дорогу, как ручей в полноводную реку, впадала неприметная тропа, так же, как и сама дорога, густо истоптанная лошадиными подковами. Тут княжич спешился и, присев на корточки, внимательно осмотрел землю.
Подковы лошадей, что шли по дороге, явно были выкованы в одной кузнице и, пожалуй, одним и тем же кузнецом. Следы на тропе, что терялась в молодом ельнике, также были одинаковы меж собой, заметно отличаясь от следов на дороге. Не имея иных сведений о противнике, опричь этих следов, княжич пришёл к выводу, что на этом месте встретились и объединились два отряда, посланных соседями-помещиками для совместного набега на русские порубежные земли. Единообразие подков говорило о том, что лошади были взяты из одной конюшни – вернее, из двух, поелику отрядов было два. Лошадей же в каждом отряде было не менее двух десятков, а стало быть, принадлежали они богатым шляхтичам – к примеру, хоть бы и тому же графу Вислоцкому, о коем княжич Пётр за год плена наслышался предостаточно. Сей именитый лиходей обитал в родовом замке неподалеку от имения пана Анджея Закревского и регулярно промышлял набегами на русские земли, ибо собрать потребное для того количество вооружённых всадников для него, богатого вельможи, не составляло никакого труда. Ему, в отличие от менее зажиточных соседей, не надо было ни с кем сговариваться и спорить из-за доли в добыче – он мог просто отдать короткий приказ, и уже через час сотня, если не две, вооружённых до зубов верховых была готова тронуться в путь.
Всё это княжич сообразил в мгновение ока, едва взглянув на следы двух слившихся воедино отрядов, и даже не столько сообразил, сколько просто увидел опытным глазом бывалого порубежника. Понял он также и то, что ему надобно делать. Задача перед ним стояла хоть и незатейливая, однако вместе с тем непростая: ему следовало торопиться изо всех сил, дабы обогнать замысливших недоброе поляков и предупредить своих о готовящемся набеге. К границе двигался отряд, насчитывающий около полусотни сабель; будучи вовремя предупрежденными, русские порубежники могли дать лиходеям достойный отпор. В противном же случае, уничтожая встречающиеся по пути разъезды русских ертоульных, поляки могли долго бесчинствовать в приграничных землях, и ловить их там было бы то же самое, что гоняться за ветром в поле.
Княжич бросил последний взгляд на так много рассказавшие ему следы. Вывороченная подковами земля ещё не до конца просохла; сие означало, что всадники проехали здесь не так давно – никак не более часа назад. Как по расстоянию между следами, так и из общих соображений было ясно, что ехали они не спеша, шагом – берегли силы лошадей, которые вскоре должны были понадобиться для лихого дела.
– Прости, друже, – негромко обратился княжич к коню, садясь в седло, и ожёг его плетью.
Конь прянул с места. Княжич скакал, пригнувшись к конской гриве даже ниже, чем надобно – сук, ставший причиной долгого плена, помнился ему так живо, словно это было накануне, а не год назад. Быстрая езда принесла ему некоторое облегчение: ветерок от движения овевал разгорячённое лицо, да и назойливая мошкара теперь не могла за ним угнаться, лишь изредка ударяясь в щёки и лоб.
Вылетев на макушку поросшего сосновым лесом песчаного холма, княжич натянул поводья, заставив коня вздыбиться и затанцевать на месте. Эхо нестройного ружейного залпа ещё блуждало меж рыжих сосновых стволов, а княжич уже спрыгнул с седла, обеими руками зажав гнедому морду, дабы тот не выдал ржанием своего присутствия.
Внизу, в заросшей густым орешником и ольхою лощине, всё ещё слышались гулкие одиночные выстрелы. Над чащей зелёных ветвей, стелясь подобно утреннему туману, рваными клочьями плыл пороховой дым. Ветви ходили ходуном, как будто в зарослях резвилось целое стадо лосей или диких кабанов, ветерок доносил до княжича знакомый уху всякого воина лязг железа, крики раненых и яростную брань сражающихся.
Бросив коня, ржание которого ныне вряд ли могло привлечь чьё-либо внимание, с саблей наголо в одной руке и с подаренным паном Анджеем пистолем в другой, княжич скрытно стал спускаться с холма туда, где, судя по звукам, кипела кровопролитная схватка. Чем ближе он подходил, тем сильнее становилось его удивление, ибо среди доносившихся из кустов, уже ставших привычными «пся крэв» и «холера ясна» ухо его стало различать всевозможные «доннерветтер», «дер тейфель» и «о, майн Готт!». Не будучи зело сведущим в иноземных наречиях, княжич, тем не менее, без труда отличил немецкую брань от польской и искренне изумился: откуда, в самом деле, тут было взяться целому отряду вооруженных аломанцев? Ведь для того, чтобы ввязаться в эту кровавую драку, им прежде надобно было проехать едва не всю Речь Посполиту!
Раздумья пришлось оставить до более подходящего времени, когда из кустов прямо на него вдруг вывернулся и замахнулся саблей какой-то человек – судя по чёрному кунтушу, лихо заломленной шапке и длинным пшеничным усам, поляк. Уклонившись от свистящего косого удара, княжич ткнул противника саблей в живот, от души понадеявшись, что под кунтушом нет кольчуги, а если и есть, то она не слишком прочна. Кольчуги не оказалось; поляк охнул, выронил саблю и умер раньше, чем его тело коснулось сырой земли. Не желая ввязываться в чужую драку, никто из участников которой не вызывал у него даже тени симпатии, княжич пригнулся и весьма благоразумно нырнул в кусты, сразу же споткнувшись о тело какого-то человека в железном нагруднике и похожем на глубокий таз стальном шлеме. Запутавшийся в ольховых ветках короткий синий плащ был украшен каким-то замысловатым гербом; княжич был не силён в иноземной геральдике, но и без герба было видно, что перед ним немец. Стальной шлем и высокий, до подбородка кольчужный воротник его не спасли: чья-то меткая пуля попала ему в переносицу, оставив точно между глаз отверстие, в которое при желании можно было без труда засунуть палец. Над этой окровавленной дырой уже кружили мухи; рука в заскорузлой от пота и грязи кожаной перчатке с широким раструбом сжимала прямую широкую шпагу с чистым, не запятнанным кровью лезвием.
Стрельба уже прекратилась, уступив место леденящим душу звукам сабельной рубки: лязгу металла о металл, ржанию лошадей, людским крикам и стонам, а также отвратительному тупому стуку и мокрому хрусту, с коими отточенное до бритвенной остроты тяжёлое железо впивалось в живую плоть, рассекая её и дробя кости.