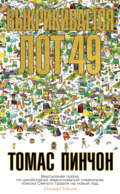Сергей Кузнецов
Хоровод воды
4. Напоследок
Вы бы знали, Александр Михайлович, как я на вас злилась последний год. Все давно платят по пятнадцать, даже двадцать долларов – а вы всё десять. Я уж намекала по-всякому, стала к вам раз в две недели приходить – все равно делали вид, будто не понимаете. Знаете, что не могу я так взять и уйти от вас, помню – после дефолта все от меня отказались, а вы как платили десять, так и продолжали платить. Хотя я знала – вы как работу потеряли, так и сидите с тех пор на мели.
Ну, по вашим меркам, конечно.
Но я вас за этот дефолт сильно уважаю. И еще – что мы с вами всегда были на «вы», с первой встречи. Помните, в 1996-м я из Донецка приехала? Сереженьку родителям оставила, поселилась с Иркой в съемной комнате. Спали вдвоем на раскладном диване, она работала няней у каких-то новых русских, ну и я тоже няней хотела. Думала, долларов сто можно в Донецк маме отправлять. Казалось – большие деньги. Сереженька одет-обут будет, да и родителям полегче.
Ну, вы знаете – не взяли меня. Акцент, сказали, хохлятский. Мол, разве что к азерам пойти, им все равно, они по-русски сами ни бельмеса.
Я отказалась, конечно. Думала домой вернуться, но Ирка меня с вами познакомила. Десять долларов в день, раз в неделю. Плюс отдельно за мойку окон весной и осенью. Не густо, но хоть Ирке за комнату отдавала.
Я не говорила никогда, но мне сначала обидно было уборщицей: все-таки я воспитательница детсада, педагог, специалист. Когда шла встречаться с вами, сказала себе: не понравится – откажусь! Ну честно, вы мне понравились. Такой интеллигентный мужчина, очки, борода, усы. Волосы черные тогда еще были, не то что сейчас. Поздоровались так вежливо, сказали: Давайте, Оксана, я покажу вам квартиру.
Знаете, тогда эта ваша квартира – она гораздо грязнее была, конечно. Думаете, легко все эти кораллы отмывать от пыли, а крабам панцирь протирать тряпочкой? А вы еще в этом самом кресле сидели все время. Я смущалась, кстати: как на лестницу стану, халатик у меня распахивается прям досюда. Я моложе тогда была, крепкая такая, красивая – может, помните? – очень стеснялась: вдруг вы приставать начнете.
Но чего не было, того не было, это правда. Только разговаривали. Как на Дальний Восток ездили, про Тихий океан, про Долину гейзеров. Как там вода горячая из земли бьет, ни бойлерной не надо, ни газовой колонки. Фотографии показывали, красивые такие.
Я помню, вы же геологом были до перестройки, да, Александр Михайлович?
Я иногда думаю, вы мне удачу принесли. Года не прошло – я уже больше Ирки зарабатывала. Правда, без выходных работала, а по вторникам и четвергам по две квартиры делала, хорошо хоть ехать было недалеко. Но до́ма все равно говорила, что в детском саду работаю.
Я знаю, я вам все это рассказывала, наверное. Но все-таки я еще разок, ничего? Вот губочку выжму и снова по полочкам пройдусь.
Помните, я вас как-то спросила, чего вы не женаты? Мол, нестарый еще мужчина и при деньгах, а вы ответили, что у вас любовь и вы храните ей верность.
Я как услышала – вас сразу зауважала. Муж-то мой загулял, чуть я в Москву подалась. Правда, и до этого пил столько, что толку от него… разве что Сереженьку сделали, и то хорошо.
Я один раз даже спросила вас про эту любовь – как зовут, где живет, почему у вас ничего не вышло. Помните, что вы сказали? Я, дурак, все сам испортил – и всё, больше никогда ни слова. Ну а я больше не спрашивала.
Я на вас страшно злилась последний год, если честно. Все-таки двадцать долларов в месяц теряла, а то и все сорок. Сегодня тоже – шла утром и думала: надо все-таки ему отказать. Уборка – это не хлеб, без нее прожить можно. Если нет денег, пусть сам убирает.
Вы извините, что я так думала, хорошо?
Я не поняла сначала ничего, решила – может, уехали куда, вот и не отвечаете. Открыла своим ключом, вхожу, вижу – свет в комнате горит, хотя утро уже. Ну, вы часто свет за собой не гасили, я еще злилась, думала, что лучше бы электричество экономили, чем мне десять долларов платить.
Я сразу в ванную пошла, переоделась, ведро, тряпку взяла – и только потом в комнату.
Ну а вы вот тут, у кресла, на полу. Я к вам бросилась, за руку взяла – а рука холодная совсем. Я и поняла сразу, что все, ничего уже не поделаешь.
Я сначала разозлилась страшно. Мне же теперь в милицию звонить, Александр Михайлович, а что я им скажу? Менты придут, регистрацию мою липовую проверять будут, на деньги разводить – и все, между прочим, из-за вас. Давно мне надо было отказаться, десять долларов – все-таки не цена, я вам теперь честно скажу. Давно собиралась, ну, вот и пришлось.
Сильно вы меня подвели, очень сильно.
Когда я вас увидела и к вам побежала, я ведро-то и опрокинула, вот, полюбуйтесь, лужа – прям посередь комнаты. И мне так неохота звонить в эту милицию, что я тряпку взяла и вытирать стала. Что ж еще делать? Привычка. Девять лет, как я в вашей квартире убираюсь. Сколько всего случилось – Сереженька мой вырос, в армию пошел, мама умерла, Ирка замуж вышла, – а я здесь почти каждую неделю. И больше никогда я сюда не приду, между прочим.
Я всю воду собрала, тряпку выжала, за губочкой в ванну сходила, начала полки протирать, где кораллы ваши стоят и крабы всякие. Уж в последний раз, думаю, хоть уберусь как надо, по-хорошему.
Вы, Александр Михайлович, это зря все придумали, я честно вам скажу. Вам ведь всего пятьдесят шесть, правильно? Всего на пятнадцать лет меня старше, между прочим. Вам бы еще жить и жить.
Я вот думаю – как это вас угораздило? Сидели, наверное, читали – и плохо стало, да? Сердце, наверное? Говорят, когда приступ – воздуха не хватает и в глазах темнеет? Это правда, да?
Что ж вы до телефона не дотянулись, а? Умный, взрослый человек, все знаете, а под рукой телефона не оказалось. Ведь если сердце больное – надо чтобы всегда телефон был под рукой. Приехала бы скорая, откачали бы, укол сделали.
Вам больно было, наверное. Может, вы кричали даже – рот, вижу, до сих пор открыт. Чего ж соседи не услышали, а? Или у вас сил не было кричать?
Господи, как все-таки это ужасно. Вы же такой умный, такой красивый, все у вас было – что же вы так, в пятьдесят шесть, один ночью, в пустой квартире?
Это все потому, что у вас женщины не было. Нельзя человеку одному жить, особенно мужчине. Если бы я тут была, я бы вам скорую вызвала и нитроглицерина, или чего там надо, накапала.
Глупо это с вашей любовью вышло. Что значит – сами испортили? Она что, не видела, как вы ее любите?
А мне вот жалко даже, что вы никогда ко мне не приставали. Особенно когда я молодая была. Видели хотя бы, какие у меня ноги были красивые? Не то что теперь. Девять лет прошло все-таки.
Слушайте, я вызову сейчас милицию, я понимаю, надо вызвать. Дайте только я волосы вам поправлю и рот закрою.
Ну да, не получается. Я и забыла. У покойников же всегда так. Платочком еще повязывают.
Жалко, вам не видно, как я у вас убралась. Все просто блестит.
Вы уж извините, что я плачу, Александр Михайлович. Я сейчас перестану.
Волосы у вас так до конца и не поседели, я вижу. Но вам седина идет, даже такому, мертвому.
Слово какое противное. Мертвый. Говорить его не хочу даже.
Давайте я не буду сразу в милицию звонить. А то приедут, увезут вас, мы и не увидимся больше. Лучше я кому-нибудь из ваших друзей позвоню… или там родственников.
Записная книжка на столике, да? Как обычно, правильно? Я поищу сейчас.
У вас же брат был, верно? Вы как-то говорили. Имя еще какое-то простое. Коля, Ваня… нет, не помню.
Какой у вас все-таки, Александр Михайлович, почерк неразборчивый, жуть. Не поймешь ничего.
А, вот. Василий Мельников, точно, Вася, не Ваня. Я наберу сейчас, а потом уже – ментам.
Только плакать перестану – и позвоню.
Я, наверное, в Донецк теперь уеду. Сереженька вырос, сам на жизнь заработает. Чего мне в Москве делать?
Сейчас вот позвоню. Василий Мельников, Василий Михайлович, значит.
Аллё? Василий Михайлович? Это Оксана, уборщица вашего брата. Знаете, Василий Михайлович, он умер сегодня.
Да, вот так и скажу. Сейчас успокоюсь и позвоню. И потом милицию вызову. А на похороны не пойду, что мне там делать? Смеяться будут – уборщица на похороны пришла. И что я надену? У меня все платья красивые в Донецке остались.
Знаете, зря вы все-таки. Я вам честно скажу: если бы вы не умерли, я бы вам даже забесплатно убирала!
Больше мы ничего не услышим об Оксане из Донецка. На похороны она так и не пошла, да и вообще ее никто ни разу не видел. Только Василий Мельников слышал по телефону южный говор: Это Оксана, уборщица вашего брата. Знаете, Василий Михайлович, он умер сегодня — вот и все.
Остальное мне пришлось сочинять самому.
Конечно, глупо, но мне захотелось, чтобы хоть кто-нибудь оплакал Александра Михайловича Мельникова.
Пусть это будет чужая, незнакомая женщина – пусть поплачет от чистого сердца, без обиды, без вины.
Говорят, неоплаканный покойник – к беде.
5. Альтернативные поминки
Ты хочешь, чтобы я рассказал о себе? Давай лучше я расскажу тебе историю четырех человек, двух братьев и двух сестер, двоюродных и сводных, и заодно – историю наших семей, потому что эта история у нас – общая на всех, так уж перемешались наши семьи, чтобы мы появились на свет.
Мы, четверо: вот я, Саша Мореухов, вот мой брат Никита и моя двоюродная сестра Аня – или сводная, если дядя Саша все-таки был моим отцом. А четвертая – это Анина двоюродная сестра Римма. Бабушка Джамиля хотела, чтобы девочки дружили, а дружбы не получилось – все-таки десять лет разницы, – но все равно: то же поколение, то же время, тот же город. Вот она, Римма Тахтагонова, она ничего не знает о смерти Александра Мельникова, ничего, наверное, не знает ни обо мне, ни о Никите, но я постараюсь не забыть о ней.
А если что – ты мне напомнишь, ладно?
Черные фигуры, припорошенные снегом, черный провал свежевырытой могилы, белые хлопья, летящие с неба…
Похороны, куда так и не пришла Оксана.
Хованское кладбище. 7 февраля 2005 года.
Вот Мореухов стоит, засунув руки в карманы драной куртки, ежится от ветра, плотнее натягивает вязаную шапочку. Чуть сбоку – Аня в черном китайском пуховике поддерживает за локоть Татьяну Тахтагонову, свою маму. Неподалеку в тех же позах – Никита и его отец, Василий Мельников, брат покойного.
Скульптурная композиция, думает Мореухов. Под снегом – словно мраморные. Две мужские фигуры и две женские. Символизируют скорбь. А может, не скорбь, а стыд, раскаяние и вину.
У нас короткая память. Собственную жизнь – и ту вспоминаем с трудом.
На чужие жизни никакой памяти не хватит.
Сто лет для нас – неподъемный срок.
Нельзя вспомнить – можно только представить: 7 февраля 1905 года тоже шел снег.
У мельничной запруды, опираясь на палку, стоит старик, глядит в сереющее снежное небо. Вода скована льдом; подо льдом – темная влага, заснувшие раки, безмолвные рыбы, гнилые коряги… Старик молчит, а может, еле слышно бубнит что-то себе под нос, словно говорит с тем, кто там, подо льдом, на дне запруды.
Маленький мальчик лежит в колыбели, кружева, ленты… Интеллигентное отцовское лицо склоняется над ним. Мишенька, сынок, говорит отец. Поблескивают стекла пенсне.
Никита, Мореухов и Эльвира будут называть этого мальчика дедушка Миша.
Мы видим их как сквозь снежную пелену, едва различая лица и фигуры: множество людей, родители дедушки Макара, дедушки Гриши, бабушки Насти, бабушки Оли, бабушки Джамили… разбросанные по городам и деревням Российской империи, они ничего не знают друг о друге, о будущем, о внуках и правнуках, которые объединят их.
Не станет империи, не станет России, потом – Советского Союза, и вот 7 февраля 2005 года мы, их потомки, соберемся на кладбище, и снег будет падать так же, как сто лет назад, – разве что слегка побуреет от копоти и гари МКАД, от въевшегося запаха московской окружной, где машины движутся по кругу, словно молекулы воды в школьном учебнике: вода, пар, дождь, снег; возгонка, испарение, конденсация, замерзание; вечный водный круг, мельничное колесо, колесо рождений и смертей, похорон и крестин.
Поднимем глаза к небу: из белой пустоты летят белые хлопья, как в финале романа Эдгара По. Представим: эти хлопья – материальное воплощение взгляда умершего, взгляда с небес. Пусть Александр Мельников увидит, как гроб покачивается над черной дырой в снежном покрове. Пусть в последний раз взглянет на людей, с которыми прожил свою жизнь: вот его дочь обнимает за плечи женщину, с которой он развелся, вот его племянник обнимает за плечи мужчину, который его предал. Вот по дорожке спешит женщина, которую он когда-то любил. Говорит:
– Я опоздала.
Тушь на лице, разумеется, смазана. В такой-то снегопад. На таких похоронах.
Мореухов обнимает ее за плечи – теперь композиция завершена. Двое мужчин. Две женщины. Мужчина и женщина.
Дети и родители.
Не гляди на нас, дядя Саша: скоро ты встретишь Бога и ангелов. Это я, Александр Мореухов, пытаюсь смотреть твоими глазами. Ты верил в загробную жизнь – в семидесятые стало модно верить, вот ты и верил. Пусть она для тебя и случится, небесные ангелы, добрый Бог на снежном облаке, вечное райское блаженство. Ты много передал мне, а эту веру – не смог. Хотя я, конечно, считаю себя православным.
Я смотрю вверх, на падающий снег, представляю в его мелькании белоснежные перья ангелических крыл, но думаю: дядя Саша смотрит не с небес, а из гроба, из деревянного ящика, на последних качелях взлетающего над мерзлой черной дырой.
Для взгляда умершего крышка прозрачна. Сквозь нее видно, как снег летит вниз, как небо раскачивается в такт движениям могильщиков, спускающих гроб в яму. Он видит, как вместе с белоснежными невесомыми хлопьями в лицо летит грязь, темная, схваченная морозцем. Слышит стук, и вот уже всё черным-черно, спустилась ночь, последняя ночь, ночь мертвых мертвецов, из которой не подняться, не вырвать руку из земли приветственным жестом, салютом всех зомби мира, не пробиться сквозь крышку Умой Турман, не увидеть зимний солнечный свет.
Я представляю в гробу дядю Сашу, моего отца, могильщики заравнивают землю, мама начинает всхлипывать, цепляется за мою руку. Я никогда не спрашивал, кто мой настоящий отец. Разве это важно? Ты можешь сам выбрать себе отца – особенно если мужчина, которому ты обязан отчеством, за всю жизнь не сказал тебе ни слова.
Вот он, Василий Мельников, стоит поодаль под руку с Никитой, моим братом. Двоюродным или сводным – зависит от того, кого я выбираю в отцы.
На Никите хорошее пальто. Не знаю, как такие называются. Буржуйское пальто. Если бы я по-прежнему верил в революцию, я бы занес Никиту в расстрельные списки. Но я уже много лет не верю в революцию. Ни в красную, ни в черную, ни в оранжевую.
Иногда мне нравится представлять себе, как живет Никита. Я знаю: у него какой-то бизнес. Кого-то разводит. В смысле – домашних животных. Кажется, рыбок.
Мы уходим с кладбища, почти ничего не сказав друг другу. В самом деле, на похоронах положено выражать соболезнования близким покойного. Но кто из нас был ему близок? Моя мать, которую он любил когда-то (думаю, всю жизнь)? Жена, которая развелась с ним, когда я родился? Дочь, которую она забрала у него?
Я, я был ему самым близким человеком! Ко мне они должны подойти, пожать руку, заглянуть в глаза, пролепетать что-то, снедаемые чувством вины, раздавленные моим страданием, моим одиночеством! А они толпятся вокруг тети Тани, его бывшей жены, женщины, которую он никогда не любил! Они говорят слова соболезнования Эльвире, которая отреклась даже от своего имени и стала Аней!
Я тоже отказался от своей фамилии, но это совсем другое дело.
Мама тянет меня за руку. Неужели и она хочет выразить им соболезнования? Нет, слава богу. По занесенной снегом дорожке молча идем к выходу. Наверное, я что-то должен сказать. Не знаю что.
У самых ворот нас догоняет Аня.
– Саша, – говорит она, – ты разве не пойдешь на поминки? Я знаю, папа тебя любил.
Я молчу. Она знает: папа меня в самом деле любил – больше, чем ее. Знает и ревнует даже сегодня.
– Нет, – говорю я, – у меня будут альтернативные поминки.
Разворачиваюсь и ухожу. Аня, вероятно, смотрит мне вслед. Снег кинематографично заметает мои следы.
Сажаю маму в такси, бреду к метро. Может, надо было поехать с ней? Нет, сейчас лучше побыть одному. Наверное, и маме тоже хочется одиночества.
У метро пересчитываю деньги, полученные от Димона. Да, на цветах я немного сэкономил. Все равно их воруют на кладбище, мертвым какая разница?
И вот в ларьке у метро Мореухов берет двухлитровую бутыль очаковского джин-тоника. Пьет большими глотками, горло схватывает судорогой. Проезжает такси – Эльвира с тетей Таней, коллеги дяди Саши, его друзья, статисты, массовка. Никита сидит за рулем «тойоты», отец на переднем сиденье, просит отвезти его домой. Никита молча едет сквозь снег, вспоминает надтреснутый голос в трубке: Ты знаешь, Саша умер – Брат? – Да. И каждый думает о своем брате.
Они молча едут сквозь снег, как будто боясь нарушить тишину, тишину вины и стыда, запоздалое эхо молчания, столько лет разделявшего братьев. Они молчат, а Никита представляет: одинокий Мореухов у ларька справляет альтернативные поминки.
Такси. Эльвира с тетей Таней. То есть Аня с мамой. Наверное, обе плачут. Это нормально: плакать, возвращаясь с похорон. Или нет: они еще не могут заплакать, они говорят о поминках, о продуктах, о покупках. Или нет – они просто молчат.
Машина едет сквозь мокрый московский снег. Таксист слушает песню про Лялю, которую загубили, хотя она была девчонка кроткая. Нету столько водки, чтоб от боли не сойти с ума. Ну-ну.
Вся Москва сейчас слушает хип-хоп – или подделки под хип-хоп.
Да. Продукты, покупки, салаты, дожить до зарплаты, два брата, последняя трата. Вот Аня и Таня, как будто картинки, смотрите – поминки, набились к Татьяне, сидят на диване, на стульях, на досках, вот так, в этом плане, ну, в общем понятно, открутим обратно, давай, заноси! – немного вперед, вот, обратно – в такси.
Аня смотрит в окно, сжимает мамину руку, думает: мама всегда говорила: Твой отец меня никогда не любил. Ну вот, и я его никогда не любила. Да и виделись мы всего раза три-четыре. Лет десять назад сама позвонила из любопытства, встретились, поговорили. А до этого за двадцать лет он меня даже ни разу не навестил. Разве это отец?
А еще говорил: мол, бывшая жена не давала им видеться. Хотел бы – увиделся!
Они молчат. Мокрый снег за окном. Черной земли на папиной могиле, наверное, уже не видно.
Аня берет маму за руку.
– Послушай, я вот хотела тебя спросить…
– Что? – отвечает мама.
В самом деле: что? Аня задерживает дыхание, как бабушка-снайпер перед выстрелом, и наконец спрашивает первое, что приходит в голову:
– А ты сильно любила папу?
Она чувствует: мамина ладонь напрягается в ее руке. Татьяна отворачивается к окну и говорит:
– Да.
Это да ледяным комом проскальзывает в мое горло. Потому что это – главный вопрос и главный ответ. Ты его очень любила? Да. И я его очень любил. И сегодня, 7 февраля 2005 года, стоя в сугробе в пяти шагах от ларька в незнакомой мне части города, где не сыскать живой воды за тридцать, я приделываю второй батл джин-тоника, уже не думаю о том, где возьму деньги на третий, как буду добираться до дома, доберусь ли домой вообще. Снег валит с неба, мой отец умер два дня назад.
Да, говорю я сам себе и бросаю пустую пластиковую бутылку в сугроб, как гранату под вражеский танк. Наверное, Эльвира с мамой уже доехали до дома, поминки начались. Через два-три часа гости разойдутся, Татьяна наконец-то заплачет, а мне вот не нужно ждать так долго, я пла́чу прямо сейчас, стоя под снегом, скрывающим мужские слезы.
Мои поминки будут долгими.
Часть первая
Два брата
(шестидесятые – восьмидесятые)
Только братья знают: любовь и ненависть – сестры.
Сержи Блэксмит
Василий Мельников, 1945 г. р., отец Никиты
Александр Мельников, 1949 г. р., брат Василия, отец Ани-Эльвиры
Елена Борисова, 1950 г. р., она же Лёля, мать Мореухова
Светлана Мельникова, в девичестве Тихомирова, 1945 г. р., жена Василия Мельникова, мать Никиты
Макар и Настя Тихомировы – родители Светланы, бабушка и дедушка Никиты
Татьяна Тахтагонова, 1954 г. р., жена (1971–1975) Александра Мельникова, мать Ани-Эльвиры
6. Обычный пацан из московских окраин
Как так вышло? Как получилось? Как я очутился здесь?
С пустой бутылкой в руке, будто с гранатой – под танк. По колено в грязном московском снегу, под порывами ледяного февральского ветра, в рваной куртке, в огромном городе, в тридцать без малого лет, без зубов, без шапки, с разбитым в кровь лицом. Как я сюда попал?
Я был маленький мальчик, мама меня любила, дедушка меня любил, папу я не знал.
Я был молодой художник, меня любили критики, девушки мне давали за просто так, у меня были друзья, меня ждала слава.
А теперь я – подзаборная заснеженная пьянь, алкаш, пропойца, и я падаю в снег, завидев фары машины: вдруг менты?
Я – падаль.
У меня умер отец.
Умер отец, а я напился так, что не могу разобрать – куда идти? Где я? Где мой дом?
Где он вообще – мой дом?
Десять лет назад все было по-другому. Рецензии в «Художественном журнале», выставки в продвинутых галереях второго эшелона, впереди маячили Венецианская биеннале и кассельская «Документа», а дальше – телевидение, Министерство культуры, мастерская, слава, почет, персональные выставки.
Как сказал бы дон Корлеоне: предложение, от которого трудно отказаться.
И если бы Саше Мореухову в самом деле предложили все это – биеннале, Минкультуры, персональные выставки, all that jazz, все это говно, – он бы согласился. Потому что все-таки мечтал о славе. О деньгах и о женщинах.
И тогда Мореухов испугался. Система дышала в затылок; ее смрадное дыхание отдавало сытой отрыжкой халявной вернисажной жратвы, щекотало гортань пузырьковыми поцелуями итальянского шампанского, смеялась по-английски, блестя не по-русски ровными белыми зубами.
Соня Шпильман, тогдашняя любовь Мореухова, гуляла свое последнее московское лето перед отъездом на историческую родину, в Израиль, – то есть они гуляли это лето вместе и вдвоем быстро поняли, что делать. Пару раз не успеть к выставке. Устроить пьяный дебош на вернисаже. В конце концов всем объявить, что разрабатываешь новый долгоиграющий проект: «Я – обычный пацан из московских окраин».
Правильно, конечно, говорить «с московских окраин» – но аграмматизм уже входил в моду.
Проект оказался вполне долгоиграющим. Можно даже сказать – успешным.
Более чем успешным.
Как говорил Малколм Макларен, failure is the best success.
Малколм Макларен, идеолог панка, творец Sex Pistols.
Боже, храни королеву!
Храни королеву – и спаси меня, твоего блудного сына в грязном московском снегу, в свете фар подъезжающей упаковки.
Два мордоворота. В теплой форме.
– Документы.
Дрожащей рукой – во внутренний карман. Вот, суки, московский паспорт. Даже не регистрация – прописка. Что, съели?
Листают, сверяют лицо с фотографией. Ну да, зубы тогда были на месте, а что? Зубы такая вещь – сегодня есть, завтра нет. Естественная убыль, усушка-утруска.
В рваном свете мигалки – табличка с названием улицы. Да уж, далеко я забрался. Где это – Мансуровский переулок? Самый центр, золотая миля.
Нормальные люди в таких местах не живут.
Хорошо хоть, теперь я знаю, в какую сторону идти.
– Пройдемте в отделение.
Ну, началось. Отмудохают, деньги отберут – ха-ха, не отберут, потому что денег нет! – ну хорошо, просто отмудохают, для забавы, как мистер Блонд в «Бешеных псах» – потому что мне это нравится! Потом – Димон, Тигр Мракович, капельница, отходняк, трезвость.
Ну нет.
– Ребята, – заплетающимся языком, – зачем в отделение? Я домой иду, недалеко тут.
Недалеко! Ха-ха! Надеюсь, теперь, когда я знаю, где я, мое «недалеко» звучит убедительно?
– Пошли, пошли, – и хватают за локоть.
На секунду – вспышкой, словно стробоскоп высветил: удар правой, вырвать дубинку, второму – промеж глаз. И – бежать.
Ну да. Кино семидесятых, видеосалоны моего детства, позабытый дом.
Я так не умею.
– Пошли, пошли.
– Ребята, – говорю я, – послушайте. Я пьяный, это правда. Но тут такое дело – у меня отец умер. Похороны вчера были. Отец, понимаете?
– Ага, – говорят, – конечно. У всех отец умер, как же.
– Послушайте, нет, в самом деле. Я с матерью жил, она говорила, что отец нас бросил. А это, мол, просто дядя Саша… ну, заходил иногда, я к нему тоже ездил, он геолог был, с ним интересно было. Я только потом догадался, когда фотографию увидел, он там с мамой в роддоме. Ну, и я в кульке с бантиком. Понимаете? Никакой не дядя, а отец. Почему-то скрывал, наверное, из-за жены. Хотя с ней все равно развелся, представляете? Но маму он сильно любил, я всегда чувствовал. Дети, они же чувствуют такое, правда? И он умер теперь, понимаете? Умер – и его закопали. Вчера. А меня даже на поминки не позвали, будто я и не сын ему. Как же так получилось, а?
И пока я говорю, они тащат меня к машине, но тот, который слева, вдруг останавливается и говорит второму: погоди, Коля! – и мы так и замираем посреди сугроба: два мента и я, распятый между ними.
И в этот миг время будто останавливается, я не чувствую холода, только вкус собственных слов на губах: Как же так получилось, а? Молчащая мама, любимый дядя Саша, неведомый «папа Вася» – как же так получилось?
Мой брат Никита, наверное, уже вернулся с работы домой к жене, лежит в супружеской кровати, держит свою Машу за руку, тоже думает: как же так получилось? Папа, мама, дядя Саша – и эта женщина, как ее – Лёля? – которую он сегодня впервые увидел. Что случилось с ними тогда, тридцать лет назад?