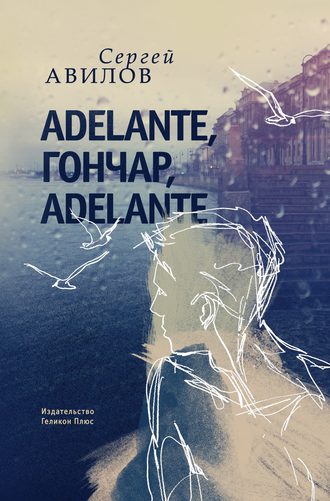
Сергей Авилов
Adelante, Гончар, adelante
8
Глеб проснулся от звука. Во сне ему почудилось, будто где-то близко, в соседней комнате, прокричал петух. Когда он открыл глаза, стало тихо. Потом послышалось звяканье ведра и резкий скрип.
На соседней койке, завернувшись в одеяло, спал сосед. Вернулся, что ли?
Потом все обрушилось резко и неотвратимо: Туапсе, родной дом, вчерашние похороны отца… На соседней кровати спит никакой не сосед, а маленький брат Ромка.
Глеб спустил ноги с постели, оглядел длинную, как трамвай, бывшую свою, а теперь брата комнату.
Две кровати у окна, одна напротив другой. Стол с неорганизованной кучкой книг и засохшими цветами в литровой банке. Шкаф со шмотками. Обветшавшие обои, которыми оклеили комнату еще в Глебовом детстве.
Глеб залез в брюки, нащупал в кармане сигареты, купленные по вчерашнему печальному поводу. Приоткрыл дверь и через сени вышел на крыльцо.
События вчерашнего дня, которых было многовато для одного человека, казались тяжелым сном, не исчезнувшим с пробуждением.
За вчерашний день Глеб устал так, что едва не засыпал на поминках, в то время как надо было изображать горе.
Изображать горе Глеб не хотел с самого утра.
Однажды, лет, может быть, в двенадцать, Глеб стащил из кармана отца рубль. Сложенная вчетверо бумажка переехала жить из глубокого кармана отцовских брюк в менее глубокий – Глеба. Жила там, между прочим, недолго. На ворованные деньги они с приятелем купили мороженого.
Вечером была крапива. При том что, если бы Глеб не признался сам, вряд ли отец решился бы на бездоказательное наказание. Когда он спросил Глеба: «Ты?» – Глеб честно ответил: «Да». Юлить и вывертываться было еще страшнее.
После крапивы, уже отрыдав и успокоившись, Глеб решил, что убьет отца назавтра, когда тот будет еще спать. Убийство он проспал. Да и ненависть к отцу поутихла. Но шрамик остался. Даже не сказать, что саднил, – только виднелся.
Отец выпивал и огрубевал одновременно. Приходя со смены домой, дремал над остывающим супом с папиросой в зубах, то и дело наливая себе из ежедневной «маленькой». Тихо косел и шел спать, оставив после себя накрошенный хлеб и яичную скорлупу.
В пятнадцать Глеб распознавал свое с ним родство с трудом.
Потом отец все-таки подшился. Стал нервным и резким. Нередко орал на мать за всякую чепуху. Повесил приблудного трехногого кобеля, которого сам же и приволок по пьянке. И кажется, обо всем этом переживал. Жить с ним стало тяжело. Отправляя Глеба в Петербург, был скуп на слова:
– Ты там попробуй закрепиться. Может, девушку найдешь… Ты же сам все знаешь! Деньги я тебе по мере сил… Да, по мере сил…
Когда отец отрезвлялся, денежные дела в семье ощутимо поправлялись.
Любви между Глебом и отцом не было вообще. Хуже того, у Глеба к отцу не было даже уважения – все ограничивалось страхом и пришедшим ему на смену с возрастом равнодушием.
Изображать равнодушие, выдавая его за горе, Глеб не умел. Поэтому все поминки сидел молча, изредка откликаясь на хмельные вопросы бесчисленного количества дядьев как с отцовской стороны, так и со стороны матери.
Чтобы равнодушие было похоже на горе, Глеб в десятый уже раз пытался представить последние часы и минуты отца.
За час до своей смерти отец преспокойно пил водку с владельцем лодки и пьяницей-армянином Акопом – как выяснится позже, отцовским Хароном. За полчаса – собирал весла и вставлял уключины, вглядываясь в ненастное море.
За несколько минут – разматывал снасти.
Как местных жителей занесло в такое море в таком состоянии, знает только водка. Потому что любой рыбак, только лишь поглядев на погоду, отказался бы от рыбачьей затеи.
Армянин утверждал, что случайно перевернул лодку отец. Естественно, что Акоп будет валить все на покойного. С него-то, покойника, какой спрос?
Акопа спасли люди, возвращавшиеся на яхте с прогулки. Отца вынесло на берег спустя сутки. Тело уже поджидали родственники.
Что чувствовал отец, оказавшись в воде? Оторопел и захлебнулся или боролся до последнего? Сумел ли осознать надвигающуюся смерть, или море смилостивилось, лишив отца чувств раньше, чем жизни?
Так размышлял Глеб, глядя на поднимающих полные рюмки дядьев, которых отцовская смерть ничему не научила.
В какой-то момент Глеб почувствовал отвращение к каждому поодиночке. Они – как отцовские, так и материнские родственники – были примерно одинаковыми. Умеренные пьяницы, работяги с той или иной квалификацией, хозяева с тем или иным уровнем домовитости… Багровые от ветра и водки лица. Прокуренные усы. Они родились здесь, на берегу моря, и умрут они точно здесь. На том же берегу моря. То, что они не поцарапают земной коры, – это полдела! А вот то, что они даже не мыслят этого попробовать… И их счастье находится где-то между первой и восьмой рюмками, после восьмой ложкой дегтя примешивается тоска… И Глеба интересовало, о чем могут тосковать эти люди!
Жалел Глеб только мать! И, как оказалось, зря. В первую ночь после его приезда они с матерью долго просидели за столом. Выпивали. Глеб заметил, что мать приобрела какие-то навыки в этом деле. Промолчал. Говорила мать вот что:
– Я устала, Глеб! Я его последнее время даже своим присутствием раздражала! Придет домой, глазами туда-сюда – меня нет! Он давай Ромку гонять по пьяному делу! То ему не то, это не это… Деньги-то на выпивку он где брал, если он месяц уже не работал? Сперва свои были, а потом свои-то кончились! Ты не беспокойся, Глеб, мы-то с Ромкой проживем. Так, кое-что еще продать можно, и тебе присылать буду. Только учись ты…
Красивая раньше, к сорока годам мать заполучила порцию седины в шикарные, когда-то черные волосы.
Глеб сидел, набычившись, низко опустив голову. Смотреть матери в лицо ему почему-то было стыдно. Он пока не мог сказать: «Не надо мне присылать деньги. Я сам!»
Если мать Глеб жалел, то Ромка его беспокоил. Запуганный ребенок с черными, доверчивыми глазами все больше молчал, и если Глеб спрашивал его, Ромка отвечал вяло и односложно. Родственных чувств к Ромке, как и к отцу, тоже было немного.
Глеб курил на крыльце, наблюдая за тем, как просыпается жизнь в доме напротив.
Сосед дядька Андрей выкатывает из ворот белую «восьмерку». Оставляет машину заведенной и возвращается во двор. Что-то кричит в окно дома – очевидно, прощается. Садится за руль и уезжает.
Глеб не здоровается с дядькой Андреем, зная, что у того плохое зрение. В этой гробовой суматохе Глеб не успел пробежать даже друзей и соседей.
Сегодня суббота, и большинство его знакомых, наверное, спят еще в это время.
Из-за угла дома с пустым, в опилках, ведром вышла мать.
– Курам дала, – сурово произнесла она и, мягче: – Ты зачем так рано проснулся?
Глеб спустился под горку. Потом прошел мимо магазина и хотел было повернуть обычной дорогой, той, что он ходил к Скрипкину, когда кто-то громко окликнул его сзади.
– Гончар! Глеб! – и снова: – Гончар!
Глеб обернулся, узнав голос приятеля.
Глеб не помнил того времени, когда он был не знаком со Скрипкиным.
Они вместе ходили в детский сад. Все, что Глеб помнит оттуда, – это как раз сопливая физиономия Скрипкина. Дальше – первый класс. Его и Скрипкина матери ведут первого сентября в школу нарядных детей, болтая между собой так увлеченно, что Глеб и его друг Санек едва не удрали от них.
Младшая школа – Глеб украл у отца две папиросы и принес их в класс в нагрудном кармане школьного пиджака. Одна из папирос просыпалась. Вторую они выкурили за гаражами, стоящими неподалеку от здания школы. Глеба тошнило, и он надолго забыл о табаке. С Саней, увы, этого не произошло.
Между детскими безобразиями и первым интересом к девочкам – глупости наподобие индейцев и пиратов, где Глеб обнаруживает интерес к истории и географии.
Позже – совместные и сладкие тяготы полового созревания. Изощренная ложь во всем, что касается девочек… И наконец понимание, что все, о чем они врали, происходит совсем не так.
Хотя это случилось уже в техникуме.
Саня к тому времени подался в путягу, но с Глебом они были соседями и все равно проводили вечера вместе.
– Гончар, елы… – басил Саня, заключая Глеба в неловкие объятия. От Сани кисло пахло потом и перегаром. В его авоське звякало.
– Ну здорово, чувак! – обрадовался и Глеб, ловя себя на том, что не мыслит приветствия без подобной фразы.
– Ну ты это… Прими соболезнования, что ли?
– Спасибо, – ответил Глеб – Ты домой?
– Да пойдем, пойдем… – обнимал его Саня за плечо: У меня водка есть. Шмали немного… Я думал полегоньку на пиве съехать, да, видимо, не получится… Бери, бери…
Он раскрыл авоську перед Глебом. Гончаренко достал себе холодную, покрытую капельками влаги бутылку. Запотевшая бутылка выглядела как цельное изобретение. Вся – от пробки до содержимого. Ее не хотелось открывать.
Саня взял пробку в зубы. Дернул. Пиво зашипело.
– Зубов не жалко?
– А… – неопределенно отмахнулся Саня. Протянул Глебу открытую бутылку.
– Может, здесь посидим? – предложил Глеб. Он забыл, что к местным, пусть даже и самым близким друзьям, нужно относиться с осторожностью.
– Да ты чо, Гончар! Мы же год не виделись…
И тут Глеб понял, что прав. Не видеться год – еще не повод, чтобы выпить и выкурить все кайфы одновременно, не помня наутро половину из того, что было сказано.
– Нет, Саня. Я матушке обещал, – вывернулся Глеб.
– Ладно… – пробурчал Скрипкин, сворачивая к лавочке возле магазина.
Человеком Скрипкин был неплохим. По местным меркам – даже хорошим. Будучи одарен физически, мог позволить себе не водиться со шпаной. К тому же он был глубоко местный – его знала не только каждая собака, но и каждая кошка с мышкой в придачу. Скрипкин был чем-то вроде местного авторитета. Пацаны поглядывали на него с уважением.
– Ну, Гончар, рассказывай, чо там в Питере делаешь? Телок местных попробовал? Чо как там, а?
За убогостью выражений, знал Глеб, стояло искреннее любопытство. И не только телками, конечно, интересовался Саня. Он, возможно, хотел знать о жизни в общаге, новых друзьях. Просто спрашивать об этом как-то не принято. То ли дело – телки.
– Да офигенно, – вдруг услышал себя Глеб. И даже вздрогнул от неожиданности. – Телки красивые… – продолжил и немного похвалил себя Глеб. Пусть пока «телки» – Саня бы не понял «девушек», но уже «красивые», а не что либо сально-матерное…
– Ну а как там вообще?
«Вот это объем у вопроса», – удивился Глеб.
– Учусь. По пять пар в день. Пара – полтора часа, пятнадцать минут перерыв. Короче, как на работу… Так что бухать там особо некогда.
– Да ла-адно, – недоверчиво произнес Скрипкин, закуривая.
Протянул сигареты Глебу. И впервые в жизни Глеб отказался со словами:
– Я бросил…
Свою пачку он оставил дома, на столе, рядом с банкой с засушенными цветами.
Скрипкин уважительно посмотрел на Гончаренко и удивленно при этом выругался.
– Ну ты… Не пьешь, не куришь… И чего вы там целыми днями делаете? В театры ходите?
– В музеи! – парировал Глеб.
– Ты серьезно, Гончар? – напрягся Саня. – Значит, я в этой жизни вообще ничего не понимаю. Зачем тебе эти музеи? Пива взял… На море пошел…
– На телок смотреть или бычков ловить? – еле сдержав усмешку, спросил Глеб.
– Да нет, я серьезно!
– Ну и я… – перебил Глеб. – Чем наши-то занимаются? – попытался он разрядить обстановку. «Наши» – одноклассники, с которыми Глеб и Скрипкин сохранили связь.
– Ну как… По сравнению с тобой, Гончар, – ничем! Ну вот честно… – Скрипкин даже положил руку туда, где у людей случается сердце. – Силя уехал в Ставрополь – там у него батя работает, Андрюха сидит… А, ну ты знаешь. Дема здесь.
– Я к нему собирался…
– А я тебе скажу, Гончар, – не ходи! Он там на какую-то химию подсел…
– Торчит, что ли?
– Да не то что торчит… Я тебе расскажу, а тебе самому решать. Короче, я не знаю, как эта хрень называется, но только от нее очень хочется бабу. Они собираются – человек пять и телка – и себе это колют… Говорят, что к ней не привыкают. Чушь, я так думаю.
– Какой ужас, – поежился Глеб.
– Да ну, – подтвердил Скрипкин, торопливо закуривая. Так, словно собирался отгонять от себя злых духов.
– Дема говорит, что все нормально – только я-то вижу, что нет, не нормально… Ну кто еще… Хохлова двойню родила, а я, знаешь, думаю, как в нее вообще дети поместились, а? Она же тощая… Солонкина замуж вышла за какого-то чучмека. А красивая была… Я – видишь, бухаю…
– Ты это давай кончай, – с улыбкой пожурил его Глеб, но Саня вдруг заговорил серьезно:
– Давай, Гончар, начистоту! Ты – молодец, не потому что ты учишься, а даже потому, что хочешь чего-то. Я, положим, тоже чего-то хочу! А вроде как поздно…
– Тебе двадцать лет! – напомнил ему Глеб.
– Время упущено…
– Да ты чо! – от удивления Глеб даже выронил забытое словечко.
– А… – махнул рукой Саня. – Я, кстати, твою тут видел! С дочкой…
Глеб думал, что эта женщина уже не может его потревожить. Взволновать! Однако даже одно упоминание ее Саней вдруг обожгло его воспоминаниями.
Твоя? Моя? Своя? Та, которую видел Саня… Звали ее Алла. Имя кончалось и начиналось на первую букву алфавита. Имя можно было читать задом наперед… Ладное имя. И холодное одновременно. Как синий цвет. Без всяких «ю» и «я».
Как она вся…
Когда Глебу было шестнадцать, ей – двадцать один. И у нее была дочь, которой в то время было четыре. У Аллы никогда не было мужа, но она, по ее собственным словам, «к двадцати годам повидала немалое количество мужиков». В произнесенном ею варианте слово «мужики» было заменено на соответствующий мужику половой признак. И странное дело – она приводила этот аргумент как несомненный плюс. Хотя, по правде сказать, определенная часть мужчин действительно так считает. Не в этом дело. Дело в том, что «немалое количество повидав», она таки захотела присовокупить к этому количеству Глеба. Семнадцатилетнему подростку это льстило.
Искусав его в лакомых местах, наигравшись с его здоровьем и готовностью к подвигам на ниве любви, она выбросила его, как капризная собачонка, нашедшая другую забаву.
Втихаря Глеб плакал. В уме – стрелялся и вешался десятки раз. Спасло его только то, что он где-то слышал, будто у висельников непременно расслабляется кишечник и изо рта вываливается язык, и невозможность застрелиться из швабры или удочки.
Вторая в жизни мимолетная связь вывела его из состояния внутреннего апокалипсиса. Взросление продолжалось. Но даже и сейчас, по прошествии лет, при воспоминании об Алле у Глеба сжималось где-то под сердцем. И ощущения эти были сродни тревоги. С Аллой тревога преследовала его всегда и повсюду. Может быть, с женщинами и нужно начинать именно так, чтобы потом уже ничего не бояться.
Он боялся ее подруг и всех мужчин, с которыми он мог ее видеть. Вплоть до пожилого директора магазина, где она продавала сладости и сахарный песок.
Один раз он встретился с отцом ее дочки. Крупный и животастый, тот был раза в два старше самого Глеба. Звали его Костя.
Он произвел на Глеба огромное впечатление. Если не маленький, но вполне себе средних размеров Глеб рядом с Аллой смотрелся гармонично, то массивный Костя в красной футболке выглядел именно как защитник. Хрупкая Алла уравновешивала собой разгул мышц и кипение тестостерона. К тому же Костя был лыс и при этом загорел. Как он, зачиная дитя, не повредил хрупкие Аллины косточки?
Костя сказал: «Ого!» – и рука Глеба чуть ли не по локоть провалилась в рукопожатие.
Несколько раз он назвал Аллу Алкой! Она отвечала сварливо и капризно. В капризных нотках Глебу почудилось кокетство.
Когда Костя ушел, забрав с собой дочь, за которой и приходил, Глеб стал задавать глупые вопросы. Ему казалось, что, если Алла на них ответит, он расстанется со страхами. Оказалось наоборот! Чего стоит только один ответ Аллы на вопрос о постели.
– Костик? Да ураган… – она не закончила, а Глеб побоялся спрашивать.
Глеб не мог вспомнить случая, когда ему казалось, будто у них с Аллой все хорошо.
Глеб никогда не спорил о любви. Даже в винных разговорах с Корнеевым он избегал этого термина.
Он вспоминал себя семнадцатилетнего. Когда Алла говорила ему что-то, у него отключалось сознание. Когда он видел смуглую полосочку ее тела между джинсами и футболкой – у него тоже отключалось сознание. Он сходил с ума… Но почему тогда он не смог даже просто симпатизировать ее дочери? Части ее самой?
Как-то в ванной комнате ему на глаза попалась описанная четырехлетним ребенком простыня, которую Алла впопыхах забыла застирать. Простыня к тому же имела запах. В тот день Глеб уговаривал себя прикоснуться к чашке чая, налитой Аллой. Везде, по всей крохотной квартирке ему чудился детский запах, хотя Глеб и осознавал, что источник запаха у него в голове.
Так было.
И было уже не важно то, как это называется.
Осталось волнение, которое скорее всего исчезнет, если Глеб увидит Аллу и заговорит с ней. Волнение исчезнет – останется скука.
– Как она? – равнодушно спросил Глеб. – Ты подошел?
– Она, по ходу, тоже бухает, Гончар, – признался Скрипкин.
– Это с чего ты взял? – спросил он, думая о том, что так и должно было быть. «Немалое количество мужиков» почему-то не приносят счастья.
– Вид у нее какой-то… Ну хрен знает… Свалявшийся, что ли… Ну и пиво брала. Я не стал подходить. Неудобно стало.
– Ну да, – коротко подтвердил Глеб, а сам подумал, что несвойственное ему злорадство неожиданно показало себя в необычном месте.
Не то чтобы Глебу хотелось ее неудач. Тем более – разбитой алкоголем жизни. Хотелось какой-то маленькой, но запоминающейся мести. За то, что она считала себя самой-самой… И за то, что для Глеба ею была.
Глеб распрощался с Саней тут же, у магазина, заранее дав себе слово не покупаться на предлагаемые Скрипкиным удовольствия.
Прощание вышло долгим и тягостным. При этом правомерно сулило дальнюю дорогу. Скрипкин не мог понять, как при отсутствии дел можно отказаться от водки. Поэтому дела Глебу нужно было срочно придумывать.
В конце концов обнялись и пожали руки.
– Может быть, зимой приеду, – соврал Глеб.
Глеб вернулся домой, удивив мать.
– А чего ты вернулся? Сашки дома нет?
Мать намывала посуду после вчерашних поминок.
– Сашка? Есть, – отвечал Глеб. – Мне на море надо.
– А Сашка? – матери было не понять, почему есть Сашка, а Глеб при этом хочет на море.
– Мам, мы пообщались, – попытался успокоить ее Глеб.
– Может, тебе деньги нужны? – отчаянно предположила она.
– Мам… – Глеб хотел положить руку ей на плечо, но в последний момент сдержал себя. В его семье было не принято трогать друг друга руками.
Она, кажется, поняла.
Дорога до моря занимала около получаса. Он завернул на дикий пляж, но и там в это время было полным-полно народа.
Глеб сел далеко от воды и людей, размотал с кулака полотенце и снял футболку.
Тут же поймал себя на том, что среди лежащих и двигающихся по направлению к морю тел ищет глазами девичьи прелести. Это было настолько естественным, что он усмехнулся. Пожалел даже, что не взял пива. Хотя, пожалуй, он все-таки не мог позволить себе незатейливый отдых сразу после похорон. Покойники заслуживали уважения только потому, что перешагнули грань. А потом уже все остальное…
Глеб сидел, рассматривая окружающих. Подсознательно он всегда хотел отделиться от толпы, но разумно противопоставлять себя толпе было увлекательнее…
Глеб переводил взгляд. Он знал эту особенность любого заполненного телами пляжа. Взгляд таки наталкивается на хорошее женское тело в сопровождении телохранителя. Элементарная теория вероятности. Потом, в зависимости от телохранителя, развития событий могло быть два: если кавалер хорош собой и на его накачанном бицепсе или плече скалился цветной дракон, то Глеб убеждал себя в том, что обладательница тела – малоинтеллигентная дура, клюнувшая на первичные половые признаки самца – мышцы и кошелек (Глеб был уверен, что все накачанные самцы богаты). Если же самец был так себе, Глеб обижался на его спутницу проще – только за то, что она выбрала не его.
Какое-то такое времяпрепровождение, видимо, и ценил Влад.
Разница в том, что если Владу это нравилось, то Глеб держал такие занятия за унижение.
Да и на пляж Глеб пришел не за этим.
Ему хотелось расставить все по местам. Если ехал он сюда хоронить отца, то после похорон у него вдруг не осталось здесь дел.
Он уже не смог бы равнодушно смотреть на то, как мать собирается на работу, притом что он, Глеб, волен с утра делать все, что захочет. При таком раскладе Глебу ничего и не захочется.
Потом друзья! Если к Скрипкину ходить еще раз было просто незачем, то к Деме – еще и опасно. Была еще пара-тройка друзей по техникуму, по которым он не сильно скучал… Если он не встретится с ними, ничего страшного не произойдет. И точно не произойдет разочарования! А это плюс.
Дальше… Дальше почему-то с упоминания Сани все это… В общем – Алла. Женщина с именем, читающимся задом наперед… В нее Глебу хотелось плюнуть. Или с ней переспать – он еще не решил. И вот если он не встретится с ней – это будет торжеством. Торжеством Глеба нынешнего над Глебом, повадки которого он хотел забыть.
Впервые он понял, что ему надо ехать… домой.
Главное, попытаться донести все это до матери.
Доковыляв по камешкам до воды, он вошел в нее по пояс и бесшумно нырнул. Вынырнув далеко, сделал с десяток красивых махов руками. Раскинул руки и повис над глубиной. На душе было легко, как бывает тогда, когда принял правильное решение.
Мать поняла его. Попросила остаться на девять дней и дала в дорогу Глебу хорошую сумму денег.
– Это от отца… Он пытался тебя любить, Глеб…
Глеб не поверил и взял деньги.




