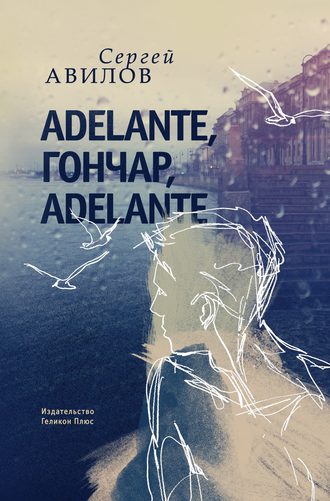
Сергей Авилов
Adelante, Гончар, adelante
Вопреки желаниям, ему приснилась мать. Теплый сон хотелось смотреть долго-долго, но пересушенный алкоголем рот не позволял даже пошевелить языком.
Глеб встал и в полной темноте, почти на ощупь, напился из горлышка чайника. Снова лег. Электронные часы со светящимся циферблатом показывали шесть. Через два часа нужно было просыпаться в институт, но очень болела голова и хотелось яблок.
2
Между тем обычная жизнь понемногу стала увлекать Глеба. Он довольно прилежно ходил на лекции и не пропускал практических занятий. Причем конспектировать лекции он привык, даже не понимая смысла написанного. Особенно если дело касалось высшей математики или физики. Основы прикладных наук, наподобие геологии и метеорологии, были, пускай и насильно, заложены в техникуме.
Бесцветная масса одногруппников к концу сентября распалась наконец на индивидуумов.
Наверное, среди них не было волков, да! Но Глеб вдруг почувствовал, что не обязательно становиться волком там, где в основной массе присутствуют обычные, нормальные люди. Даже так – становиться волком было глупо. А главное – незачем!
И к концу сентября Глеб прекратил порыкивать на новых товарищей из-под поношенной шкуры и принял некоторые из правил нового коллектива.
И только после этого увидел вдруг, что коллектив вопреки написанным другими волками правилам повернут к Глебу почему-то лицом. Ему давали переписать конспекты. Курящие делились с ним сигаретами. Пару раз даже угощали пивом…
Глеб и еще двое его сокурсников сидели на скамеечке во дворах. Кленовые листья, похожие на отпечатки пятерни, украшали пространство. Они были везде – на деревьях и под ногами. Перелетное небо еще не поблекло и светилось солнечно-голубым.
– У нас все не так, – жмурился Глеб на солнце и вопросы товарищей.
– Что не так-то?
– Да все, – загадочно произносил он, в замешательстве ногтем обдирая этикетку с пивной бутылки.
– У нас все не так, – повторял он уже с каким-то вторым смыслом. – Все не так, по-другому!
Закир появился, как и всегда, неожиданно. Сперва картонная дверь пискнула от сквозняка, потом распахнулась, впуская в нору Глеба звуки и запахи коридора. Сам Глеб сновал между плиткой и раковиной, сливая сваренный рис. То, что в общаге придется более-менее регулярно питаться, в отличие от своих соседей он понял как-то сразу.
– Привет! – бросил Закир так, будто они расстались только вчера.
– Здорово, – вместо мокрой руки Глеб протянул Закиру запястье.
– Обедаешь? – нелогично спросил Закир. Все же был уже девятый час вечера.
Гончаренко кивнул. Потом помялся и предложил кавказцу:
– Будешь?
– Да не-э, – как бы даже немного брезгливо ответил тот. Потом сел на кровать отсутствующего соседа.
Молчание с Закиром всегда казалось Глебу отягощенным. Молчание в ожидании удара или подвоха…
– Хорошо живешь! – Закир кивнул на тарелку с рисом. Потом перевел глаза на сковородку, где в золотистой поджарке терялись из виду кусочки дешевой и малогабаритной сардельки.
– Так угощайся, – предложил второй раз Глеб, еще не понимая, куда клонит неудобный гость.
– Да не-э, – повторил тот и вдруг излишне заинтересованно уставился на сохнущие на веревке под потолком джинсы, выстиранные Глебом накануне.
– Оба-а, – прищелкнул он вдруг пальцами, да так неожиданно, что Глеб вздрогнул. – Да это «Стьюмен»…
Глеб хорошо знал, что на этикетке дешевых китайских или турецких штанов стоял неизвестный ему лейбл Stillmen. И не сразу понял восторгов Закира.
– Че, Глебка, хорошо живешь? – Гончаренко впервые услышал в свой адрес «Глебка», и в этом «Глебке» ему почудилось что-то презрительное. Он даже не осознал, вопрос ли это или констатация факта.
Но слегка позабытый в Петербурге кодекс чести настоящего мужчины не позволял Глебу ответить просто и честно: «Сарделька с рисом и китайские (или все-таки турецкие?) потертые джинсы – куда уж лучше». У настоящего мужчины должны быть деньги! И, уже немного понимая, к чему идет дело, Глеб все же ответил так, как подсказывал ему неизвестно кем и для кого изобретенный кодекс:
– Нормально!
– Слушай, Глебка, дружище, – кавказский коршун стал сужать круги над потенциальной добычей, – у меня тут день рождения было…
– Поздравляю, – уныло ответил Глеб, понимая, что попался.
– Мне бы баксов двести на недельку… Потратился! Я тебе в следующий понедельник занесу. Потом пойдем еще поработаем, и весь навар тебе пойдет – поднимешься немножко! С процентами отдам!
«Еще не взял, а уже отдает с процентами!» – подумал Глеб. От того, что двухсот баксов не было, легче почему-то не становилось. Он же не мог сказать Закиру, что у него совсем нет денег. На какие-то суммы он все же живет. Тем более что сам только что задекларировал свое существование как «нормальное».
– Таких сумм у меня нет, – осторожно пятился Глеб, подсчитывая, чем можно откупиться от полного грабежа.
– Давай сколько есть, – обреченно и чуть ли не печально ответил кавказец.
Глеб мысленно перебирал деньги в кошельке. В институтской столовой он покупал макароны с подливкой и чай. Сдача там – минимальная. Весь капитал Глеба помещался в тумбочке между страниц пухлой и аппетитной книги по истории России. Когда было необходимо, Глеб вытягивал из книги купюру и жил на нее, пытаясь растянуть на максимальный срок.
В общем, показывать Закиру эти купюры не следовало.
И было еще сто долларов – одной, хуже того, одной-единственной бумажкой! Бумажкой, которая в будущем должна была трансформироваться в зимнюю куртку и теплые ботинки. Пока не наступила зима, неконвертируемая пока в одежду и обувь, бумажка грела душу гораздо больше.
Эти деньги лежали отдельно.
Не будь рядом Закира, Глеб, наверное, придумал бы какой-нибудь третий вариант расставания с деньгами. Такой, чтобы данная в долг, а скорее всего навсегда, сумма не пробила критической бреши в бюджете. Однако для обдумывания вариантов требовалось время. Время, которого не было!
Глеб нагнулся к тумбочке, встал на корточки…
– Да ладно тебе мельтешить! Сказал же, отдам через неделю… – поторопил Закир и даже хохотнул при этом.
Мгновенная волна омерзения и стыда прокатилась по всему телу Глеба. Он промолчал.
Разогнувшись, он протянул Закиру сотку. Сложенная вчетверо, она выглядела так, будто Глеб достал ее из очень потайного кармашка.
– О, – оживился тот, – двести нету? – он говорил так, будто спрашивал горсть мелочи на сигареты.
– Все, что есть, – холодно ответил Глеб.
– Да ладно… – усмехнулся Закир. – Все равно спасибо! Я еще сотку у Шаха займу. Ты знаешь Шаха? Нет? Познакомлю!
Глеб молча давился рисом. Есть ему, естественно, расхотелось.
– Ладно, Глебка, пойду… Я на неделе зайду – там дело будет! – Закир поднялся, расправил спину. Покряхтел.
– Да чо ты грустишь, Гончар! – вдруг хлопнул он Глеба по плечу. – Будут лаве! Подожди немного, и все будет! – эти слова были произнесены с особым, усиленным кавказским акцентом. Так, будто акцент служил прикрытием обычной лжи, которая не имеет национальности.
Когда дверь за дагестанцем захлопнулась, Гончаренко отставил тарелку в сторону. Проглотив обиду, можно было уже не ужинать.
Глеб не смог бы ответить на вопрос, почему он повел себя именно так. Почему просто не сказал Закиру о том, что денег нету? Начались бы вопросы? Да! Но неужели ответы на эти вопросы не стоят ста единиц американской валюты? Конечно же, стоят! Может быть, он боялся, что Закир приведет, например, того же Шаха («Хочешь – познакомлю?») и они с Шахом изобьют Глеба и отберут все деньги? Снова нет. Закир осторожен, да и вообще эта мысль какая-то варварская… Просто Глеб боялся уронить свое достоинство в глазах кавказца. А когда достоинство в упадке, стоит ждать следующего шага – презрения.
В общем, чтобы откупиться от презрения плохо знакомого ему плохого человека, Глебу пришлось выложить немаленькую сумму и даже радоваться тому, что дешево – ну, не так дорого – отделался.
Занимательная математика.
Глеб сидел, ошарашенно теребя пойманную ниточку этого мудреного психологического клубка. Еще третьего дня он пил пиво за чужой счет только потому, что не мог выделить на эту статью расходов своих денег.
– Ты чего такой грустный? – деловито поинтересовался явившийся сосед. Большой и румяный, как выкупанный слон, сосед вернулся поздно с курсов водолазного дела.
«Интересно бы посмотреть на него в скафандре», – подумал Глеб, но вслух только невнятно выругался.
– Понятно, – не заметил агрессии тот.
Глеб взял сигарету и вышел в коридор. В сером его тоннеле было накурено и прохладно. За одной из дверей излишне громко голосил телевизор.
На неделе Закир к Глебу не заходил. Притом что, сам себе не признаваясь, Глеб пытался быть дома по вечерам. Минимальная надежда на благородство кавказца у Глеба все-таки сохранялась. Спустя же положенный срок, когда Закир не появился, Глебу вдруг полегчало. Может быть, за сто долларов Глеб просто откупился от назойливого и опасного кавказца, и, как ни странно, эта мысль не казалось Глебу такой уж глупой. Пошла вторая неделя, и с каждым днем надежда Глеба крепла и ширилась. Он стал замечать, что уже боится появления этого человека.
Утром он двигался в сторону автобусной остановки. Под летними туфлями хрустела схваченная первым морозом трава. Издалека, одинокого, заметил на остановке Влада. Влад учился на другом факультете, и виделись они нечасто.
– Здоров!
Глеб кивнул.
– Ты про Закира слышал?
Глеб насторожился и, еле сдерживая волнение, коротко ответил:
– Не…
– Ха, убили Закира, – было не очень понятно, чему радуется Влад, но его радость была как-то очень очевидна.
– В смысле?
– Да ты чо, Гончар! Проснись! Насмерть, понимаешь? Мне вчера Шах рассказал.
– Ты знаешь Шаха?
– Ну! – подтвердил Влад. – Еще бы! Такого шакала не знать! Короче, его вчера в парке нашли!
– Шакала? – все еще путался от неожиданности Глеб.
– Закира, тоже шакала, – подтвердил Влад. – В парке с проломленной башкой. Шах говорит – откуда-то из листьев выволокли, он уже закоченел весь!
– Он там был? – спросил Глеб так, будто хотел еще раз перепроверить все данные и получить подтверждение.
– Шах? Да вроде был…
– Ясно! – подтвердил Глеб и поймал себя на том, что произнес «ясно» для того, чтобы не сказать обычное в таких случаях другое – «жалко». Потому как не жалко.
– Да не расстраивайся ты, – продолжал Влад. – Тогда-то он нас практически кинул!
– Практически? – посмаковал слово Глеб и усмехнулся.
– Ну чо ты к словам цепляешься… Ты, кстати, помнишь, как он от нас тогда ушел?
– Как?
– Да к телке, говорит, пойду. Присунуть…
– Ну? – Глеб уже догадывался, о чем пойдет речь.
– Его потом видели в ихней общаге. Ни к какой телке он тогда не ходил!
– А-а… Я знаю. Ладно, вон автобус идет. Поехали…
Весь день Глеб ходил в непонятном, легком настроении. Не то чтобы он радовался чужой смерти, скорее на саму смерть ему было наплевать. Но он искренне радовался тому, что за распахнутой сквозняком картонной дверью теперь уж точно не окажется неслышного, хитрого кавказца.
Придя в этот вечер домой, он долго мылил пенкой для бритья чеченскую бородку. Потом, глядя в осколок зеркала над раковиной, скреб ее безопасной бритвой. Сбрызнув одеколоном, оглаживал ладонью голый подбородок.
Из осколка зеркала на него глядел молодой человек с брюнетовым ежом волос совсем обычной и ничем не примечательной внешности.
3
В начале ноября выпал первый снег. Пушистый и неожиданно холодный. На юге такой снег выпадает редко – на юге снег чаще всего встречается в морозильниках.
В институте все было по-прежнему, хотя знакомые со старших курсов все чаще страшили первокурсников предстоящей сессией, и эта перспектива испугала Глеба только сейчас. Он вдруг с каким-то тоскливым чувством подумал о том, как скорее всего сложится его судьба. Несданные экзамены, отчисление… Отъезд обратно домой и, наконец, закономерная армия.
Экзаменов Глеб ждал с ужасом. Он вообще не понимал, как можно сдать экзамен по высшей математике, например. Как можно ответить то, в чем ты не понимаешь вообще ничего. Немного в меньшей степени это касалось физики.
Когда от постоянного ощущения тревоги появлялась усталость, Глеб обреченно думал, что жить в Петербурге ему осталось месяца три. И с какой-то незнакомой ему доселе сентиментальностью возвращался вечерами к себе в комнату.
Озвучив однажды свои опасения Славке Корнееву, он почему-то еще больше уверился в неотвратимости отъезда.
С Корнеевым они сблизились вполне закономерно, хотя разговорились вроде бы случайно. Слишком долго наблюдали друг за другом с интересом, чтобы не разговориться.
Корнеев был слегка начитан. Его кругозор был немного более широк, чем у окружающего большинства. Он чуть-чуть выделялся среди других богатым словарным запасом и кроме того писал стихи, что странным образом не вызывало у Глеба отвращения…
Как-то раз, выпив пива, Корнеев читал Глебу свое творчество, и Глеб, с неохотой и стеснением согласившись послушать, вдруг обнаружил в себе странный интерес к корнеевской недопоэзии. Ловко, как в школьных учебниках, складывались слоги и рифмовались слова, на первый взгляд не похожие друг на друга.
Зажгутся огни на проспекте Невском,
А мне не уснуть, потому что не с кем.
Эта строчка вообще запомнилась. Тем более что была актуальна. Весь октябрь Глеб ухаживал за красивой, высокой соседкой по общежитию со второго этажа. Ухаживания не увенчались успехом, хотя он нередко оставался у нее ночевать. Такое случается. Умный Глеб сделал из всей этой истории интересный вывод, что секс – еще не конечная и не самая близкая стадия отношений. И этот вывод как-то сразу поднял его над многими и многими теми, кто хвастался в курилке своими половыми викториями.
Корнеев был хорош тем, что мог бесконечно и бесцельно шляться по городу. И неназойливо он втянул в свои шатания Глеба. Корнеев любил город больше, чем знал. Его знания были обрывочными и поверхностными – их плюс был в том, что их было много. Корнеев мог перепутать Лебяжью и Зимнюю канавки, но при этом наизусть помнить названия мостов по всей длине Фонтанки. Глеб, особенно первое время, когда он мог перепутать саму Фонтанку с Мойкой, старался не упускать возможность совместной прогулки.
– Меня, наверное, выгонят на… – матерно поясняя куда, жаловался Глеб, когда они бродили вдоль Крюкова канала, где собор и колокольня цвета уже забытого в ноябре перелетного сентябрьского неба бросали прозрачные тени на выпавший снег и, не замерзшая еще, чернела и дымилась вода в канале.
– Да ведь не ты один ничего не понимаешь… – вяло подбадривал Слава, хотя говорил правду. По тем результатам, что имел сам Корнеев на данный момент, можно было судить о том, что он-то далеко не последний студент в группе, однако и он не мог разобрать пространные лекции бородатого доцента.
– С практикой я тебе помогу, – продолжал он. Старая ведьма с крашеными прядями, ведущаяя практику, задавала домой длинные, как сороконожки, уравнения.
Глеб благодарно кивал, и они шли дальше – мимо дома, где умер Суворов, выходили к Фонтанке.
Когда уже в начале двенадцатого они подходили к метро, Корнеев подвел финальную черту:
– Ну, бодро пробежались…
– Только ноги вымокли… – глупо хохотнул Глеб и попытался пошевелить пальцами ног, обутых в те самые летние туфли.
Слава посмотрел на его обувь.
– Что, денег нет? – спросил он, все еще глядя вниз.
– Да… – неопределенно пробормотал Глеб.
– Я попробую у родителей спросить… – просто сказал Слава. Глеб промолчал, по опыту зная, как быстро забываются такие обещания.
В понедельник Корнеев разыскал Глеба перед первой парой.
– Слушай, денег сейчас нет… – ожидаемо произнес Корнеев.
– Да ладно… – «Я и не рассчитывал», – чуть не сказал Глеб.
– У тебя какой размер?
– Что?
– Обувь какого размера? – повторил Слава и принялся стаскивать с плеч объемный рюкзак.
– Сорок третьего…
– Ну на вот, померь, – Корнеев вытряхнул из рюкзака связанные шнурками новые ботинки. – Это кожа. Отец сказал тебе предложить…
Глеб сел на ступеньки лестницы. Снял многострадальную туфлю и примерил правый ботинок. За ним – второй. Встал, попрыгал… Ботинки хоть и были грубыми, рабочими, но были не только впору соскучившемуся по нормальной обуви Глебу, но и добавляли необходимой тяжеловесности его походке.
– Спасибо! С меня причитается…
Корнеев, крепче пива ничего не употреблявший, казалось бы, даже не понял последней фразы.
В тягостном ожидании последующих трагедий Глеб встречал Новый год. Даже подготовка к празднику напоминала Глебу пир во время чумы. Ну если не чумы, то какой-то менее страшной, но тоже опасной эпидемии. Всем студентам хотелось забыть о сессии хотя бы на два-три дня. Причем отличникам и хорошистам это с легкостью удавалось.
Общага сдвигала столы и переносила стулья. В чрезмерных количествах запасалась водкой. Доставала присланные из дому разноцветные соленья и варенья. Сентиментальный парнишка из города Алексина приволок на радость девичеству потрепанную, но пахнущую лесом и праздником елку, наряженную впоследствии всем тем, что подвернулось под руку: мандаринами на веревочках, фонариками из цветной бумаги и дождиком из бумаги туалетной…
Еще по временам техникума Глеб знал всю программу предстоящего празднования. Проводить – в одиннадцать. И это еще не значит, что до самих проводов возбраняется выпить холодного пива. Поднять бокалы в двенадцать. Это понятно. С двенадцати до половины первого – как следует закусить, молча жуя, после – танцы. До утра, до упаду… С перерывами на возможные, но необязательные пьяные слезы дам и легкий мордобой, переходящий в объятия, – кавалеров. Какое-то удручающее отсутствие сюрпризов. И, к сожалению, даже подарков…
Тут дело такое – подарков ждут парни, у которых есть… конечно, уже не телки, но и не девушки тоже. Барышни… Дамы… Сударыни…
В общем, лучшим подарком Глебу была бы как раз… барышня, дама… Глебу могло бы взгрустнуться по этому поводу, но только в том случае, если бы в поле зрения был какой-то объект симпатии.
Объекта не было. Высокая и красивая октябрьская симпатия, перейдя в категорию бывших, почему-то утратила обаяние. Да и отмечала праздник где-то в другом месте.
Надеяться на чудо не приходилось.
В одиннадцать – проводили, хотя и до того уже пили теплый и густой портер, отхлебывая прямо из бутылок.
В полночь звенели бокалами, которых не хватило. Обделенные приспособили под фужеры чайные чашки. Выслушав поздравления президента, жевали, перекидываясь словечками, самое частое из которых было «передай». Главным блюдом стола в разнообразных ипостасях были огурцы. Соленые и маринованные, протертые с солью, уксусом, сахаром и укропом… Присланные из разных концов необъятной страны – от Ставрополя и Ростова до никому не известных заповедных городов Сибири.
С огурцами соперничало лечо.
Редким и желанным гостем застолья являлась колбаса.
И в отношении к бедности стола Глебу виделось различие между учениками туапсинского техникума и студентами вуза: если первые стеснялись бедности стола, то новоявленные студенты пытались шутить. «Бедность легче переносить тогда, когда она – объект насмешек», – думал Глеб.
Гости и хозяева – всего человек пятнадцать – поели и выпили еще. Стало жарко и весело. Кто-то – лучше поздно, чем никогда – раздобыл допотопную гирлянду на елку. Потушили основной свет, и стало уютно.
– Слушайте, как кайфово, – неловко начала полная девушка из Ростова. За убогостью выражения проступали чувства, для которых не хватало словарного запаса. – Мы в Питере празднуем Новый год! Я бы никогда и не подумала…
– Да не говори, – подхватила ее подруга, и Глеб заметил, что ее южное гэ-канье, от которого невольно избавлялись приезжие студенты, режет слух. Оно было слишком узнаваемое в любой компании петербуржцев. Невидимое клеймо провинциальности.
Девки немного потрепали удобную тему (подтекст – «мы – победители»), и Гончаренко с тоской подумал, что еще месяц-другой, и кому-то из них суждено на щите въехать обратно в свои города-замухрышки. И потом, вероятно, рассказывать своим родным о том, как он, а скорее она, «побывали в Питере».
Рюмка-другая – и Глеб уже убегал хотя бы до утра от этих мыслей, уже, забыв про сигарету в руке, спорил, перекрикивая музыку, с Владом, по-дружески обнимался с одной из хозяек комнаты, ходил между танцующими с зажженными бенгальскими огнями, которые он прикуривал один от другого.
Под утро те, кто не форсировал алкоголь, высыпали гулять.
На улицах было людно. На площадке перед общагой люди с маленькими детьми сооружали очередной фейерверк. Поджигали и с криками «Разошлись!» разбегались по сторонам. Через несколько мгновений с пронзительным воем в небо взмывала невидимая ракета, начинавшая дробиться и сыпать искрами в ночной темноте. Зрителей обдавало холодным, мигающим светом под сухой треск и крики «Ура!». Глеб тоже кричал «Ура!» и пил пущенное по кругу шампанское из горла…
А потом – потом ему показалось, что все вокруг застыло на одну двадцать четвертую секунды, на кадр – и этот кадр вместил в себя и картинку, и ощущения, испытываемые в этом кадре Глебом.
Шампанское, бегущее по губам и стекающее на воротник одной из девушек, когда она слишком уж наклонила бутылку. Матовый свет от ракеты, падающий на запрокинутые и поголовно восторженные лица. Физиономия незнакомого мужчины, за мгновение до этого произнесшего: «С Новым годом, ребята!» Чья-то скачущая по снегу дворняга, смешно запрокидывающая лапы… С Новым годом! Но главное – ощущение, не знакомое до сих пор только по той причине, что это было петербургское ощущение. Ощущение мгновенного петербургского счастья.
И теперь все остальное, что творилось за кадром, что осталось за кадром, было подчинено только одной мысли: здесь надо, необходимо, жизненно необходимо остаться.
Наверное, если разложить его мысли по отдельности, размотать клубочек, то можно было бы как-то понять его желания: выучиться, жить в большом городе. Но пока он сам не понимал их. Пока еще Глеб только чувствовал.
Вопреки ожиданиям, он лег спать вполне жизнеспособным. Более того – проснулся человеком. Только вот яблока все-таки хотелось…
Он спустился на вахту, где для жильцов стоял единственный на все общежитие телефон. В маленькой записной книжечке нашел телефон Корнеева и набрал номер.
– С Новым годом! – начал Глеб и, пропустив Славу с его поздравлениями, произнес: – Приглашение делать математику вдвоем остается в силе? Я приеду…
Приглашение оставалось в силе. Кажется, Корнеев даже обрадовался.
Пока Глеб все ждал возмездия за несколько прогулянных в первом семестре пар, он сдал зачеты и получил допуски к экзаменам. Он все ждал: вот-вот наступит самое страшное – среди зачетов тоже попадались непростые предметы, – а страшное не наступало. Один зачет он получил просто за посещения без пропусков, на другом преподаватель после раздачи вопросов вдруг удалился в курилку, демонстративно продувая «беломорину». Где-то еще попался удачный вопрос, об ответе на который Глеб имел какие-то представления.
Буря не грянула даже на первом экзамене по геофизике. Билет выпал до того простой, что Глеб пожалел предыдущую ночь, потраченную на зубрежку. Притом зубрежку с сомнительным результатом и головной болью от множества сигарет.
Через полчаса он вышел из аудитории с ощущением нереальности и записью «отлично» в зачетке.
И все равно Глеб резонно настраивал себя на худшее.
По чьей-то прихоти, а скорее случайно, в расписании экзамены расположились от простого к сложному. Такой порядок позволял рассчитывать на удачный исход сессии только после сдачи последнего, самого неприступного предмета – высшей математики. Все, что до нее – физика с химией, – казались только упражнениями. Может быть, поэтому, не заостряя внимания на них, Глеб сдал и то и другое походя – на «три» и «четыре» соответственно.
И только тогда в его сомневающейся душе зарделась вдруг хиленькая надежда. От надежды этой захватывало дух. Тем более что старшие курсы твердили одно и то же: главное – сдать первую сессию.
Гончаренко честно сидел за книгами. С горем пополам, а то и хуже, но научился ориентироваться в им же записанных лекциях, которых за полгода набралась полная тетрадь в сорок восемь листов. Ориентироваться – значило хоть что-то списать. Дальше этого дело не шло.
Корнеев, без затруднений решавший примеры, тоже не мог связать теорию с практикой.
Остальные что-то говорили про темный лес и отмахивались.
Тем временем день приближался, а потом и вовсе – наступил.
Только выйдя из аудитории, Глеб впервые по-настоящему похвалил сам себя. Оказалось, что знал он не меньше, а больше других. И четверка в его зачетке была совершенно законной.
Глеб ликовал. Он дождался Корнеева, который тоже получил «четыре».
– Слава, пойдем пива выпьем, – и добавил: – Я угощаю…
А почти непьющий Корнеев вдруг согласился.
Глеб чувствовал себя так, будто перед ним наконец-то открыли вожделенную дверь. И еще почти полгода можно не думать практически ни о чем.
Они шли по коридору опустевшего к экзаменам института, и в длинные высокие окна било яркое, холодное солнце. Потом спустились в подвал, переделанный под гардероб. Одевшись, вышли на улицу.
Негреющее солнце слепило и до рези в глазах отражалось от снега. Теплолюбивый Глеб натянул перчатки.
Он молчал, боясь признаться даже Корнееву, что он чувствовал. Впервые ему казалось, что впереди его ждало огромное будущее! Пусть даже пока это будущее ограничивалось временем до следующей, уже не кажущейся такой смертоносной сессии.
Свобода вдруг проявила себя во всем. В пронзительно-солнечном дне и чистом, холодном воздухе. В еще не вытоптанном, высоком снеге на обочинах. В предстоящих каникулах, наконец…
– Теперь можно и в Эрмитаж, – предположил Глеб.
– Пойдем! – обрадовался Корнеев.
В рюмочной Глеб купил две кружки пива и вяленой рыбы.
– Я остаюсь, – приподнял он кружку, когда приятели уселись в дальнем углу.
– Я тоже, – не понял Корнеев.
– В Питере, – пояснил Глеб и хлебнул из кружки.




