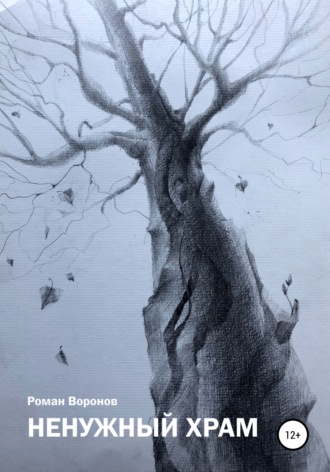
Роман Воронов
«Ненужный» Храм
Отражение
Я появился на свет с особенностью, которую и скрывать-то не приходилось, ибо она сама некоторое время скрывалась от меня. Думаете, речь о каком-нибудь врожденном пороке, скрытой болячке, причине, спящей до поры до времени, что в один «прекрасный» момент как гром среди ясного неба вырывается наружу перекошенным лицевым нервом, бельмом, растекающимся по глазу, или вредоносными клетками, пожирающими изнутри совсем юную плоть? Вовсе нет. Особенность моя дала о себе знать в тот день (вернее сказать, в тот же час на следующие сутки), когда родительница моя решила запечатлеть свое ненаглядное чадо навечно, или сколько там хранятся фотографические снимки. Она, нарядив, словно был праздничный день, отвела меня в небольшую, пахнущую старым, осыпающимся бархатом и едким нафталином комнату с плохо нарисованными горами, не существующими в природе кучерявыми волнами и фруктовыми деревьями, место которым скорее в Раю, нежели на грешной земле. Напыщенные воины, длинноволосые русалки, томные дамы в белоснежных шляпах и джентльмены в цилиндрах, изрядно смахивающих на дымовые трубы линейных кораблей, а также иные персонажи, разместившиеся на картонных ширмах, уставленных вдоль стен ателье (так именовалась странная комната), не имели лиц. Грубо вырезанные дыры угрожающе смотрели на посетителей, безмолвно вопрошая: – Зачем пришел? Ты, обладатель настоящей физиономии, здесь чужой.
Меня усадили на стул, двумя винтами, впившимися в виски как пиявки, зафиксировали голову, и весь мир, оставшийся за дверью картонно-неправдоподобного ателье, сузился до размеров черной точки объектива.
– Малыш, – обратился ко мне вертлявый, дерганный хозяин этой безликой армии русалок и наездников, – смотри прямо, – (как будто я мог посмотреть, зажатый его железными клещами, куда-то еще), – сейчас отсюда вылетит птичка.
Как я и предполагал, обладатель подобной внешности оказался банальным обманщиком. Никакой птички ниоткуда не вылетело, где ей, бедной, взяться в этом вонючем мире из папье-маше.
Когда дверь ателье захлопнулась за нами, я с удовольствием вдохнул свежего, настоящего воздуха, а маменька радостно залепетала: – Ну вот, фотографии будут готовы уже завтра.
Кабы знать заранее, что принесут мне эти карточки, подготовился бы к грядущему событию, но в тот момент меня интересовала рогатка, спрятанная во дворе дома, а на все остальное было наплевать, причем смачно.
Следующий день наступил, как и положено, в соответствии с положением Земли относительно Солнца. Матушка с утра отправилась к странному господину, заглядывающему через свой аппарат, по всей видимости, прямо в душу клиентам, и через некоторое время вернулась, ослепительно сияя всем своим существом и прижимая к груди небольшой конверт. Не сбавляя улыбки, и так растянутой донельзя, она вручила мне долгожданный (не мной, ею) портрет. То, что я увидел, потрясло меня в прямом смысле слова: – Мама, кто это?
Улыбка грохнулась на нижнюю челюсть родительницы подобно мостовому пролету, вдруг по какой-то неведомой причине лишенному обеих опор.
– Ты о чем, сынок?
Я ткнул пальцем в физиономию совершенно незнакомого мне мальчика: – Я об этом.
Судя по лицу маменьки, на фотографии точно был я (по ее мнению), но то, что видел я в собственных отражениях до этого момента, кардинально отличалось от снимка.
Думаю, в тот раз родительница списала мою странную реакцию скорее на жаркую погоду (перегулял на солнышке), нежели на неуместную шутку или умственную недостаточность, тем более что в ней за свои пять лет пребывания в этом мире замечен не был.
Я же, как это не прискорбно для столь юного индивидуума, осознал, что, глядя в зеркало, вижу себя иным, нежели являюсь на самом деле. Можно обалдеть? Да запросто, ваше мнение о собственной красоте, оказывается, расходится со взглядами окружающих по этому поводу.
Годы шли, я понемногу свыкся с необычной особенностью, стараясь не попадаться людям на глаза своим «отражением», и научился определять свое «положение» в окружающем мире по фотографиям. Да, да, мне пришлось стать завсегдатаем не стадионов или кабаков, а ателье. Люди начали считать меня себялюбцем, павлином, нарциссом. Какими только эпитетами не снабжали они (естественно, за глаза) мою измученную врожденной дуальностью душу, а я всего лишь пытался, пусть и несколько экзотическим образом, остаться самим собой.
Думаете, я шучу? Увы, различия между зеркалом и проявленной бумагой с возрастом становились все ярче и заметнее. Два совершенно не похожих лица смотрели на меня, и я перестал понимать сначала, где я, а потом – кто я. Скажете, подобными вопросами озадачивается все человечество (по крайней мере, думающая его часть) от начала времен?
Но мое, и без того унылое положение усугублялось неприятными нюансами: я не понимал, улыбаясь в «отражении», растянули ли лицевые мышцы мои губы в этот момент в настоящем мире. То же касалось проявлений любых эмоций на каждой стороне моего бытия. О, нестерпимая мука, кривясь от боли Здесь, иметь каменную мину Там, или, того хуже, встретив интересного собеседника Там, импонировать ему Здесь, но зевать при этом самым непристойным образом Там, то есть в том месте, где он был вынужден наблюдать мою скуку.
Да полно людей живут именно таким образом, возразит моим стенаниям читатель. Может быть, но, теряя свое лицо перед самим собой, перестаешь видеть другие лица, не говоря уже об их чувствах. И как водится у большинства представителей рода человеческого, к коему не без оснований причислял себя и я, при возникновении устойчивого сопротивления собственной воле сдаваться воле волн и ветра, мне пришла в голову вполне традиционная мысль поискать виноватого, естественно, на стороне. После недолгих размышлений причиной всех моих бед был назначен …фотограф. Маленький, вертлявый человек, с бегающими глазками и тонкими, нервными губами, вечно растянутыми в неестественной улыбке, кривизну которой подчеркивала нитка черных усиков.
Противный тип, думал я, вполне мог напакостить, подсовывая мне снимки других людей, убедив в этом сперва мою бедную матушку, а потом и меня. Чего уж проще, развивал конспирологическую теорию я: вы видите в собственном отражении прямой, тонкий нос, голубые, ясные глаза и высокий, благородный лоб, а вам тычут в лицо карточкой, на которой человек с орлиным «клювом», челюстью питекантропа и мелкими, да еще и косыми, карими глазками. Через неделю после очередного посещения ателье ваша (или не ваша) внешность меняется кардинально: нос округляется в картошку, из которой торчат редкие волосинки, а губы, вроде бы еще вчера (как показывало зеркало) имевшие нормальный объем и рисунок, трансформируются в пару упитанных слизней.
«Гад», – сказал я себе и направился в ателье, которое посещал уже двадцать лет, с твердым намерением положить конец этой затянувшейся комедии, с точки зрения злоумышленника фотографа, и настоящей трагедии, на взгляд вашего покорного слуги. Мой «злой гений» встретил меня с распростертыми объятиями (еще бы, постоянный клиент).
– В неурочный час, молодой человек, – защебетал он, – но тем не менее рад, очень рад. Присаживайтесь.
Старик засуетился, начал ставить свет и, как обычно, делать вид, что ищет куда-то запропастившийся магний, хотя коробочка с этим порошком всегда (сколько себя помню) стояла на одном и том же месте.
– Зачем вы выдаете снимки чужих людей за мои? – выпалил я, чувствуя, что мужество свое растерял по дороге и его остатки вот-вот испарятся окончательно.
Слегка опешивший фотограф замер у аппарата с разинутым ртом (глупейший вид, надо сказать). Я же, решив что крепость зашаталась, дал оглушительный залп: – Я в зеркале и на ваших снимках разный.
Пороховой дым развеялся, и стало ясно, что крепость устояла. Старик оправился от первого удивления и сейчас, совершенно спокойный, улыбался мне: – Ах, вы об этом. Здесь нет ничего удивительного.
Клянусь, если бы у картонных русалок были глаза, они бы выскочили из орбит от такой наглости. Настала очередь зашататься моим бастионам: – Вы считаете, что лицо на снимке и лицо в отражении не должны совпадать?
– А еще есть лицо на лице, дорогой друг, – развел руками мой оппонент, – и, к вашему сведению, есть лицо, которое я наблюдаю в объектив, – он поцокал пальцем по стеклянному глазу своего аппарата.
– И что, все они… – пробормотал я, едва справляясь с захлестывающей сознание пенной волной услышанного.
– Не похожи друг на друга, – закончил фразу старик, насыпая магний на полочку. Он жестом пригласил меня присесть на знакомый стул, я безвольно повиновался.
– Вы запутались, это ничего, попытаюсь объясниться с вами. Знаете ли вы, что испытываю я, разглядывая через толстое стекло объектива лица приходящих сюда людей?
Я отрицательно помотал головой, пока еще свободной от скрипящих винтовых клещей, хотя вопрос был явно риторический. Старик кивнул, как бы говоря: я так и думал.
– Чтобы вы поняли меня, – он удобно облокотился на ящик фотоаппарата, – поведаю вам о… душе. Не пугайтесь, не как священник, призывающий о ее спасении и тут же протягивающий чашу для пожертвований, но как друг, открывающий бесценную истину, и заметьте, совершенно бескорыстно. Душа в проявленном мире чувствует себя, как и вы в первый свой приход сюда – вокруг все не настоящее и вдобавок «безликое». По сути, это не ее мир, он чужероден ее тонкой натуре, и для пребывания в нем Творец придумал человеческое тело, некий скафандр, «капсулу». Душа путешествует в нашем мире, обремененном грубой, плотной материей, в этой самой капсуле.
Он похлопал себя по груди: – И наблюдает его через обзорное стекло.
– Человеческие глаза! – завопил я восторженно.
– Верно, юноша, – заулыбался вновь фотограф. – Через глаза смотрит душа на свое отражение в физическом мире.
– Так вы… – я вскочил со стула.
– Да, я захотел «примерить» на себя, каково это – смотреть со стороны, – тихо произнес старик.
– Но ведь вы смотрите не на себя, а на других, – логика странного человека была непонятна мне. Он не смутился моему возражению, напротив, подался вперед и чуть не свалил с треноги свой драгоценный аппарат: – Я и не могу смотреть на себя, я – слепой.
Земля разверзлась под ногами, и я вместе со стулом на несколько секунд повис в невесомости. Воздушная пробка застряла под кадыком, глаза едва удерживались зрительными нервами, вывалившись наружу, а пальцы захрустели, пытаясь раздавить деревянные подлокотники. Слепой фотограф, долгие годы дурачивший весь город, это много выше всякого понимания, но то, что этот иллюзионист сформировал совершенно определенным образом мое сознание, было не просто возмутительно. Шатающаяся до этого «залпа» крепость перестала существовать. Я задыхался, трясущиеся руки мои потянулись к морщинистому горлу старика, стоявшего покорно возле своей адской машинки.
– Так кто же я, по вашему мнению, милостивый государь, – хрипели мои переполненные гневом уста, – отражение себя или ваше отражение?
– Вы то, что видит ваша душа в своем отражении, когда вы даете ей взглянуть на себя, – старик стоял не шевелясь. – Но вы то, что видят в вас окружающие, даже когда вы не желаете показывать им себя.
В теперешнем моем состоянии разгадывать загадки старого идиота я был не намерен: – Как ты «видел» меня? – орал я в ухо сжавшемуся от страха фотографу. – Как выдавал снимки?
– Так же, как это делает душа, – старик отреченно «смотрел» сквозь меня.
– А как это делает душа? – я откровенно терял терпение.
– Она не видит форм и красок чуждого ей мира, но ощущает вибрации деяний и помыслов своей оболочки. Я улавливал теплоту разной интенсивности от всех клиентов и запоминал эти «образы», а проявив снимки, «вспоминал», какой из них чей.
Чертов старик запутал меня окончательно, что, впрочем, немудрено для персонажа, одурманившего половину города. Я был очень зол на него, но постепенно успокаивался, понимая, что чудак творил свое «искусство» не во зло, он, как и все великие, так видел (Господи, это ведь я о слепом).
– Хорошо, – сказал я примирительно, – я не сержусь, но уж потрудитесь подсказать, какому отражению теперь мне верить?
Фотограф встрепенулся: – Отражение зависит не только от оригинала, но и от той поверхности, что возвращает твоим очам свет.
– Я регулярно протираю зеркало от пыли, – буркнул я, прекрасно понимая (как мне казалось), куда клонит старик.
– А как насчет людей, от которых ты отражаешься? – он загадочно улыбнулся. – Их протирать не пробовал?
Мысль показалась мне здравой, но на всякий случай я съязвил: – Захотят ли?
– А ты попытайся, мысленно, – голос странного фотографа приобрел твердые нотки.
– Как это? – недоуменно пожал плечами я.
– Возлюби ближнего своего, как самое себя, – многозначительно произнес старик, подняв вверх указательный палец правой руки.
– Где-то это я уже слышал, – усмехнулся я, подумав о том, что, вероятнее всего, мой то ли учитель, то ли мучитель прав.
– Слышал, да не видел. Хочешь, покажу? – веселым голосом пропел удивительный «обманщик».
– А как? – поддался я его бурной радости.
– Садитесь ровно, смотрите прямо и не шевелитесь, сейчас отсюда вылетит птичка.
На развалинах
– …В час, когда солнце на покой
Уйти готовится неспешно,
Ты, с непокрытой головой – …
Квакающее эхо (обветшалые стены, полностью оккупированные плющом, который нехотя пустил в свои владения кусты мальвы, уступив ей углы нефа и ступени главного входа, отражали голос с искажениями) сводило на нет пафос произносимого, и Поэт, запнувшись, потерял и ритм, и рифму, и мысль.
– Дьявол, – выругался он, пнув от досады лежащий на этом месте долгие годы камушек. Кремниевый снаряд, преодолев небольшое расстояние, плюхнулся на зеленый листик вьюна, спугнув одну из многочисленных обитательниц развалин и по совместительству слушательницу «поэтического вечера», серо-коричневую ящерицу, которая уставилась на «агрессора» неподвижным и возмущенным взором черных глаз-бусинок.
Поэт, выдохнув, снова принял позу глашатая (выставил ногу вперед и воздел руку к небесам): – Ты, с непокрытой головой…
Эхо, какое бы оно ни было, отработало несколько циклов и затихло. Продолжения не последовало.
– Ну что же ты? – раздался тихий голос за спиной.
Поэт, не задумываясь, кто вопрошает, и не оборачиваясь, с обидой в голосе ответил незнакомцу: – Евтерпа позабыла, как горят мои глаза, с чего бы вдохновенью опылить мои уста?
– Немного театрально, но, в общем, в рамках допустимого, – с усмешкой заметил голос. – Ну, вот я здесь.
Поэт по-военному крутанулся на каблуках (едва не потеряв равновесие) – перед его широко раскрытыми глазами сияла Муза, нежная, утонченная, прекрасная.
– Вручишь себя объятьям грешным, – закончил он четверостишье и выдохнул уже облегченно.
Ящерицы радостно заморгали (захлопали) роговицами, изображая бурные аплодисменты, а Евтерпа еле заметно кивнула прелестной головкой в знак одобрения.
– Где ты была так долго? – в голосе Поэта опять зазвучала обида.
– Ты не один, поэтов много, – рассмеялась Муза. – Да и не мне отчитываться перед тобой.
Поэт насупился. Может, конечно, и есть другие, громогласно величающие себя настоящими поэтами, на самом деле являющиеся просто рифмоплетами, бездарями и халтурщиками. Видал я таких сотнями в кабаках: размахивают руками, орут свои плоские вирши, потом напиваются и рыдают в декольте девицам от того, что, видите ли, мир не понимает и не принимает их.
– Дерьмо, – вырвалось у него вслух.
Муза: – Не забывай, что это Храм.
Поэт: – Скорее то, что от него осталось.
Муза: – Храм остается Храмом даже там,
Где вместо стен забвенье и усталость.
Поэт: – Я думал, Храм – это перрон:
Билет купил (свечу поставил)
И сел с удобствами в вагон,
Чтоб к Богу вовремя доставил.
Муза: – Меж Богом и поэтом пустота,
Заполненная локоном девицы
И криком предрассветной птицы.
На каждого найдется простота.
Поэт бросил взгляд вниз. Храм строили на высоком холме, у восточного подножия которого небольшая речушка делала петлю и скрывалась в лесной чаще, конца и края которой не наблюдалось. С южной стороны все время дули теплые степные ветра, приносящие с собой для сиреневых цветков мальвы сказки темнокожих мавров о пещерах, полных золота, и яснооких девах, умеющих летать. К северному склону холма жался сосновый бор, и в песчанике, среди его обнаженных желтых корней, устраивали свои гнезда-норы непоседливые чайки.
– Евтерпа, – он обвел рукой то, что видел, – вот что между мной и Богом.
Муза широко улыбнулась, глаза ее, и без того лучистые, засияли еще ярче: – Между Человеком и Богом всегда что-то есть, у верующего это религия, перед служителем церкви – молитвенник, будто нечего ему сказать Творцу от сердца. Но Сына от Отца ничего не должно отделять, любому «препятствию» надобно быть «прозрачным».
– Но Он сам отделился от Человека целым Миром, – всплеснул руками Поэт. – Ты говоришь о Мире Бога, который, получается, мешает нам, живущим в нем по воле Всевышнего, видеть Его и быть с Ним. Это абсурдно.
– Муза на то и Муза, – загадочно произнесла Евтерпа, ничуть не смутившись.
– Что ты все время выводишь меня из себя? – Поэт хлопнул в сердцах ладонями по коленям.
– Чтобы заставить тебя смотреть на мир, а не на себя, хныча и причитая о пропавшем вдохновении, – Муза смотрела на подопечного ласково, как мать на обидевшегося по пустяку ребенка.
– Именно нечто «важное», что есть в жизни каждого перед лицом Бога (а самое важное – это Он), и разрушает Храм.
Она легонько толкнула ногой камешек, и он, потянув за собой соседей, шуршащей струйкой скатился со стены, раздавая звонкие пощечины возмущенным листьям вьюна.
– Привязанности, привычки, идолы, дело (как правило, всей жизни), имущество – все это термиты, выгрызающие изнутри стены Храма, – продолжила Муза. – Душа, облаченная в тяжелые одежды, вынуждена беседовать с Богом через дымку (частенько напоминающую грозовую, плотную тучу) атрибутов физического мира.
– Но, воспевая Женщину, не превозношу ли я саму Любовь, а через описание красот природы не восхваляю ли самого Бога, Создателя этого Мира? – Поэт снова принял театральную позу:
Прости раба рабов твоих, Всевышний,
Чьей грубой коже неподвластен тонкий бриз,
Когда закрыл глаза, вкушая грозди вишен,
И не узрел Тебя, спустившегося вниз.
«Браво» кричать не буду, – отрезала Муза, – но с рифмой у тебя наладилось.
– Что не так? – устало вздохнул Поэт, мысленно «прогоняя» по кругу только родившиеся строчки.
– Пустое самолюбование, очень низкий уровень вибраций. Если прочесть такое перед толпой голодных викингов, не поймут и, вероятнее всего, лишат жизни просто так, от скуки, – Евтерпа, воздев вверх сложенные вместе белоснежные тонкие запястья, опустила на голову незадачливого чтеца воображаемый боевой топор.
– Ты мне снова помогла, – коротко буркнул Поэт, обернувшись на блестящую под лучами солнца реку.
– Человек, – закончив «казнь», прервала Муза его задумчивое состояние, – видит предметы и явления, но не видит за ними или в них Создателя. Узрев же во всем Живого Бога, люди не смогут причинять вреда никому и ничему, ведь это Сам Бог.
– Открой же мне врата в беспечный Рай,
Соедини с родительской рукою,
Путь укажи к душевному покою,
Водой Живой наполни через край, – восторженно возопил Поэт, и руины ответили ему гулким (и, как мы помним, прыгающим) эхом.
– Еще хуже, чем было, – Муза слегка повела бровью. – Уважающий себя варвар не стал бы дослушивать до конца и прикончил автора после первой строки.
– И все-таки, – снова возбудился Поэт, усаживаясь на обломки стены, нагретые вечерним солнцем, – зачем явилась в столь трагический для меня час, принеся не надежду, но низкопробное, по твоему же мнению, вдохновение, от последствий которого воротит тебя саму?
– Не забывай, – лукаво ответила Евтерпа, поправляя локон, упавший на лоб, – я женщина.
– К черту эти ужимки! – взорвался по-настоящему Поэт. – Не многие ночи была ты подле меня, знать, «любовник» я никудышный, но и в те редкие минуты, когда сознанием обнимал нежный стан твой, слова не складывались в узор, а мысли – в звенящую струну.
– Все оттого, что видел (или вожделел) ты меня, а надобно было, я тебе уже говорила, Бога, – Муза указала рукой на губы, затем на лоб и на сердце.
– Ты искал Бога в словах, а Он – за словами. Сказано – не поминай вовсе, нежели упрощать и уплощать везде Имя Его, но уж коли произнес «Бог», потрудись увидеть Его во всем Величии, дабы не встали строки, тобой начертанные, неодолимым препятствием, стеной поднебесной, армией великой на Пути к Нему.
Поэт закрыл лицо руками, цикады враз ослабили мышцы и прекратили трескотню, а ящерицы, сновавшие без устали весь день, замерли, как по команде, завершив «последним штрихом» величественную мизансцену опустошенного человеческого разума.
Евтерпа исчезла, у муз так заведено: их появление и уход быстротечны, молчаливы и непредсказуемы.
Поэт взялся за перо (мысленно, конечно):
– Поток бурлящий усмиряя
Изгибом каменного дна,
Ты выплеснула плоть из Рая,
Оставшись в пустоте одна.
Раздался шорох. «Вернулась», – радостно решил Поэт и, обернувшись, произнес: – Недолго ты…
В дверном проеме (о том, что в этой части каменной кладки раньше находилась дверь, можно было догадаться по ржавой, полуистлевшей петле, зажатой двумя нижними венцами) стоял Каменщик, крепкий мужчина среднего роста, с плечами атланта и глазами ягненка.
– Пустое это, – сказал он просто.
– Что именно? – изумился Поэт то ли его появлению, то ли его фразе.
– Храмы обычным сотрясанием воздуха не восстанавливаются, – Каменщик показал раскрытые мозолистые ладони.
Поэт взглянул на свои бледные, почти белые руки – скорее намек, чем настоящее уплотнение, слегка тронуло подушечки большого и указательного пальцев правой кисти.
– Зовете меня в подмастерье? – спросил он, криво улыбнувшись, у Каменщика.
Тот молча кивнул.
– Ничего не выйдет, – Поэт уселся на стену, закинув ногу на ногу, – не приучен.
– Как и всяк, пришедший в этот мир неосознанно, – спокойно отреагировал на возражения Каменщик.
– Из речей твоих следует, что ты здесь осознанно, – встрепенулся Поэт и даже поднялся на ноги.
И вновь утвердительный, но молчаливый кивок был ему ответом.
– Почему я должен выпрашивать у всех объяснения? – излишне эмоционально произнес Поэт. – Что за мода?
Каменщик, улыбнувшись, спокойно заметил: – Не волнуйся так, я расскажу тебе.
Он огляделся и, заприметив нужный ему камешек, поднял его.
– Неосознанный мастер хватается за работу бездумно. Начав кладку Храма таким манером, он вынужден каждый последующий камень подбирать к предыдущему, размер и кривизна поверхностей должны совпадать и образовывать пару, иначе в стенах появятся щели, а сама кладка будет ослаблена. Таких «пар» под рукой может не оказаться, поэтому придется их выискивать, на что тратится уйма времени, да и терпения, как правило, неосознанному зодчему не хватает. Поэтому Храм у такого каменщика выглядит скорее как руины, вместо стройности гармоничного архитектурного творения.
– Где отроку набраться мудрых слов,
Когда днем лень, а ночью не до снов,
– съязвил Поэт, припомнив собственные юные годы.
– Вот и я о том же, – подхватил серьезно Каменщик. – Строительство Храма (читай, самого себя) ведется из добродетелей, а у человека на Пути сплошные соблазны да пороки – в кладку они не годятся.
– Отчего же? – радостно заметил Поэт. – Веселенькое заведеньице получилось бы.
– Оно и выходит у большинства, – строго сказал, нахмурившись, Мастер, – целые дворцы с башнями, зубчатыми стенами и хозяйственными постройками, где ж тут место для Храма.
– Но ведь мир таков. И не наш он, а Создателя, – Поэт развел руками. – Не Он ли наполнил его игривостью вина, женским смехом и мягкими подушками?
– Истину говоришь, – согласился Каменщик, – все Его: и женщины (в смысле очарования), и подушки (в том же смысле), – так Он создал многообразие Путей, но есть ты (душа), свободный в выборе своем.
– Намекаешь на осознанность? – Поэт, не отрываясь, смотрел на собеседника.
Мастер бросил поднятый камень на землю: – Да. Осознанный каменщик видит заранее свой Храм, знает его размеры и форму, поэтому не начинает возведение стен, пока не соберет нужные камни, все до одного.
– Пройден финал у пьесы,
Ревет восторженно зал,
А я ничего не понял
И «браво» не прокричал,
– скривившись, продекламировал Поэт.
Каменщик не удивился, видимо, начинал привыкать к манере стихоплета вставлять рифмы в обычную речь.
– Хотите, открою секрет осознанного зодчего? – негромко спросил он.
– Будьте любезны, – откликнулся Поэт.
– Когда вы понимаете, как должен выглядеть ваш Храм, я настаиваю – именно ваш Храм, вы не собираете по всей округе, включая и дальние ее пределы типа тридевятого царства, подходящие камни.
– Неужели мне их кто-то привезет? – игриво вставил Поэт.
– Вы обтесываете имеющиеся рядом с вами, здесь, своим инструментом, – Каменщик вытащил из сумки долото и молот.
– Вот мои всегда со мной.
– Каков же инструмент мой? – искренне удивился Поэт.
– Сознание, – коротко ответил Каменщик и, кивнув на прощание, исчез за обломками стен великого Храма, возведенного неизвестным зодчим, овеявшего его славой своих творений тогда, а ныне увитого ненасытным плющом, с нескрываемым раздражением отдавшим углы нефа и ступени главного входа надоедливой мальве.







