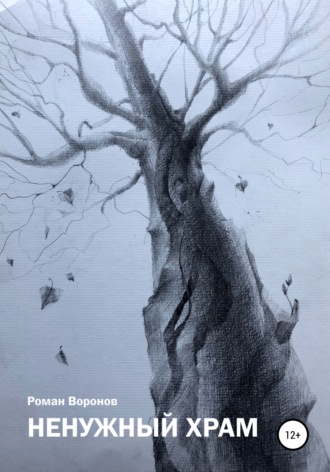
Роман Воронов
«Ненужный» Храм
– Меч, не отнявший ни одной жизни, не оскверненный кровью, становится Великим Мечом Милосердия. Его сотворчество с владельцем трансформирует сущность оружия убивать даже защищая в символ Смирения Силы, превалирование Высшего Блага над личным, – как-то слишком торжественно ответил ему старик в лохмотьях и королевской короне.
– Какое же имя дадим мы нашему мечу? – восторженно воскликнул «горностаевый» шут.
– Мы? – возмутился околпаченный Король. – Нашему?
– Друзья… – примирительно начал Мастер, при этом Шут подумал, когда это мы стали друзьями, может, ты с Королем, но не со мной, а сам Король решил после разговора по-дружески обезглавить старика, больно уж нагл.
– В мире людей оружие получает Имя собственное из гордости владельца, в мире ангелов – из смирения. Обладатель «повышенной» (по отношению к равным) силой на плотном плане искушаем гордыней, на тонком – преодолевает (познает) смирение.
– Вот и станем величать меч «Смиренным», имя как раз для оружия, вы, Ваше Величество, с таким «соратником» непременно завоюете полмира, – захохотал Шут, придерживая для удобства причинное место рукой.
– Не полмира, а весь мир, – абсолютно спокойно продолжил Мастер. – Смирение – антипод гордыни на физическом плане, но в тонких материях через смирение возможно самолюбование, сталкивающее к гордости. Как видишь, тут не до шуток.
– Мы обсуждаем меч воителя, мой меч, – прервал старика Король и стащил с макушки шутовской колпак, – а ты, несчастный, все о высоком.
– Меч воителя соответствует посоху праведника, как и кисть художника «Золотой Птице» Бога, – возразил Мастер и также обнажил голову, сняв с нее корону. – Кисть, посох и меч могут обрести второго владельца, если вибрации души и кармический фон его совпадает с первым хозяином. Экскалибур долго не давался никому, скрипка Паганини ни разу не звучала так, как у Паганини.
– К чему слова твои? – раздраженно рявкнул Король, приняв горделивую позу (весьма неуместную в его нынешнем обличии). – У этого меча один владелец – я.
Старик улыбнулся: – Возможно ли отличить короля от шута, если они поменяются костюмами? Короля королем делает корона, шута шутом – колпак.
– Но корона сейчас у тебя, – изобразив на лице подобострастность, Шут ткнул пальцем в Мастера.
– Значит, я король, – ответил старик и водрузил позолоченный символ власти обратно на свою макушку.
Тут же воздух тронного зала рассек свист меча.
– Оба лишитесь сейчас голов за подобные речи! – прогремел Король, хотя в руке его был не стальной гигант, а обыкновенный тисовый прут.
Человек, как известно, в отличие от животного, обладает сознанием, сознание же, что известно, но не достоверно, обладает качествами, способными эти отличия стереть. Кто я? Может, и вправду шут, смешной от того, что обнажен собственным сарказмом, выявляющим скудость и нищету души, и меч мой – Слово, разрубает ткани, под которыми прячусь сам? Или я мастер, с неведомо откуда взявшейся мудростью, знанием, свалившимся мне на плечи горностаевой мантией величия того, кто выковал меч, которым ничего не совершено, но лезвие его уже погрязло в обсуждении регалий, ему положенных (но не заслуженных)? Скорее всего, голое тело шута запихнули в сброшенный фартук ремесленника и, оглядевшись по сторонам, сорвали с мастера корону (она мешает работе в кузне), отчего получился весьма бравый король, славно размахивающий сейчас деревянным и, напоминаю, безымянным мечом.
– Пожалуй, настало время дать имя Мечу, – вдруг совершенно серьезно заметил пригнувшийся от неожиданности Шут.
– Моему Мечу, – горделиво произнес Король, умильно отковыривая почки на своем прутике.
– Нашему Мечу, – подвел черту Мастер, протягивая корону Шуту.
– Мне бы чем-нибудь прикрыться, – Шут повертел в руке сверкающей короной. – Отдам за набедренную повязку.
– Мою корону! – взревел монарх и рука его с зажатым прутом невольно поднялась вверх.
– Ваше Величество, – примирительно вступился за Шута Мастер, – верните паяцу его костюм в обмен на свою собственность, и дело с концом.
Король оглядел шутовской наряд на себе и удивленно произнес: – А он мне нравится, – и, довольный, уселся на трон, указав при этом прутиком на собеседников: – Давайте Имя.
Королевский паяц натянул на пояс корону, словно обруч на бочку, и уже не смущаясь заявил: – Шут – пересмешник, он не создает, а искажает, не называет, но обзывает. Мною нареченный Меч станет шутовским, ненастоящим, останется деревянным. Ваше Величество, не мне, находящему Истину через искривление уже искривленного, высмеивавшему ранее высмеянное, наградить Словом то, что прямо от рождения.
Король поднял лежавший возле трона шутовской колпак и бросил своему паяцу. Бубенчики на нем радостно звякнули, оказавшись в руках хозяина.
– А что скажешь ты? – обратился он к Мастеру.
Старик развел в стороны жилистые руки, способные разогнуть конскую подкову и вогнать пальцем гвоздь в доску, покачал седой головой и ответил: – Я всего лишь проводник Идеи из мира грез в мир осязаемый и не даю ей имя, как не назвал свое творение Господь, передав Мир, Им созданный, Адаму, и уже тот (вкупе со всем своим племенем) именовал Творение Бога, вкладывая в названия смыслы, им понимаемые, занимаясь, по сути, сотворчеством. Ваше Величество, вам, как владельцу Меча дать ему Имя.
Монарх, подперев рукой подбородок, задумался. Годы ожидания престола приучили его к терпению и скрытости собственных помыслов. Он видел, как груз ответственности гнет спину отцу (Король умер, да здравствует Король), как избегали любой помощи владыке придворные, как опускали глаза, когда требовался ясный взгляд, и прятались по углам, не желая подставить плечо. Теперь пришла его очередь. И Мастер, и Шут высказались, спасибо и на этом, осталось его решение, и ему быть.
– Отчего же мне, правителю земель, границ которых не узреть с самой высокой башни замка, владельцу тысяч поданных, заселивших эти земли, а стало быть, и их душ, не позаимствовать имя своему Мечу у Бога? Назову его Золотой Птицей.
Он поднял меч над головой и торжественно произнес: – Нарекаю тебя Золотая Птица.
Король обвел многозначительным взглядом присутствующих, направляя острие оружия на каждого. Ни Шут, ни Мастер не преклонили колен, не склонили голов. Взбешенный монарх негодующе воскликнул: – И что все это значит?
– Не сработало, – весело заметил паяц, расплывшись в бескрайней улыбке.
– Это значит, Ваше Величество, что меч остался тисовым прутком, – кузнец так же улыбнулся Королю.
Монарх повертел кистью увесистый кусок железа и, удивительное дело, не оскорбившись, спросил: – Держу в руке настоящее оружие и не понимаю твоей аллегории.
– Обладатель Золотой Птицы не нуждается ни в шуте, приносящем истину сознанию речами, искажающими реальность, ибо она есть иллюзия; ни в мастере, приносящем дары, сотворенные не самим, а на стороне, – кузнец не переставал улыбаться: – Деревянный меч обернется настоящим, когда мы исчезнем, Ваше Величество, из твоей жизни. Пока же займем полагающиеся места: Король на позолоченном троне, Шут рядом на подушке, а Мастер в кузне, у печи и наковальни.
Шар на песке
Идея перекатывалась Высшим Сознанием, как тестообразная субстанция в умелых руках хозяйки. Разрозненные образы, частицы полунамеков, неясные видения силой мыслей-ладоней стягивались вместе, сбивались в единое, взаимосвязанное и взаимозависимое, интегрируясь и сливаясь в шарообразную форму, которая, единственная, позволяет своим внешним натяжением удерживать внутренние напряжения. Нечто подобное, но несущее в себе иной вибрационный оттенок, уже спущено воплощенным сознаниям в плотные слои Лучом Христа. Души, получившие этот код, выбраны для восхождения через Смирение, чье качество подвижности соответствует физическим свойствам Воды. Символ Христианства – «Шар в воде», но то, что «стряпуха» любовно откатав в ладонях, готовится бросить в шипящее масло сознания вновь посеянных душ, окрасит восхождение оттенками Покорности, что своей окаменелостью схоже с Минералом, и символом приходящего Ислама станет «Шар на песке».
Тень от скалы узким длинным лезвием «разрезала» пустынный, лишенный каких-либо признаков жизни склон и упиралась в одинокий валун, оторвавшийся когда-то от гранитного материнского подола и закончивший свой не длинный, но долгий путь здесь. Его округлившиеся, как это бывает с возрастом, бока еще помнили то время, когда нынешнее, изнывающее под палящими лучами бесконечного солнца ложе было морским дном, и волны, ритмично и беспощадно вгонявшие острые соленые струи в скальные морщины век за веком, однажды раскрыли, расщепили внутренние связи, вырвав кусок из родного тела. Но, упав к материнским ногам, будущий валун не нашел покоя, те же волны, гонимые вечным дыханием океана, занялись его детской угловатостью и неуклюжестью. По мере спрямления углов и сглаживания остроконечных ребер обломок скалы учился «ходить», притяжение земного ядра усиливалось давлением толщи воды, на этих-то костылях он и добрался за несколько десятков тысячелетий до того самого места, где, вследствие глобальных подвижек земной коры, потерял соленую мантию и за пару веков окончательно обсох на разъяренном солнце, превратившем округу в пустыню.
В таком виде и застал его мальчик-пастух с темной кожей, карими, почти черными глазами и чистой, как небо над головой, душой. Измученный жарой и долгим переходом, он давно заприметил валун в скальной тени, но его упрямые подопечные, обнаружив скудный островок пожелтевшей травы, не желали покидать его пределов, несмотря на то что скромный клочок редкой в этих местах фауны был вытоптан и повыдерган ими с утра. В конце концов сообразив, что козы вперемешку с овцами будут дощипывать вожделенную лысину до полного уничтожения, мальчик отправился в спасительную тень один. Прислонившись спиной к теплому, но не раскаленному валуну, он блаженно закрыл глаза и погрузился в негу.
Что, в сущности, нужно юному сердцу? Ветер, треплющий волосы, камень, обнимающий спину, да мир, от края и до края – более ничего. От ощущения истинного блаженства, покоя, какой встречается только в одиночестве тишины, столь редкой среди людей, телесной истомы, ценимой скорее на склоне лет, нежели в отрочестве, не хотелось ни думать, ни дышать, ни шевелиться.
Легкий, едва различимый шорох заставил мальчика открыть глаза. К валуну, выбрав, видимо, в качестве ориентира уткнувшуюся в песок пятку пастушонка, среднего размера скарабей деловито катил свой навозный шарик. Жук ловко работал лапками, и его имущество, несмотря на липнувшие к нему песчинки, довольно быстро приближалось к тенистому укрытию, уже облюбованному мальчиком. Периодически усатый хозяин взбирался на свой перекати-дом, замирал на несколько секунд и снова с невообразимым упорством двигал его по песчаной дороге.
Пастушок прекрасно знал повадки скарабеев, а посему хоть и внимательно, но без любопытства поглядывал на шуршащую процессию, тем не менее испытывая при этом непонятное волнение. Он морщил лоб, пристально рассматривал жука, почесывая затылок, но не мог распознать причину своего беспокойства.
– Странный жучок, не правда ли? – вдруг раздался голос над головой.
Мальчик вздрогнул и подскочил: на валуне, скрестив ноги, сидело странное существо. Полупрозрачный, будто слепленный из слюды, человек с чертами лица взрослого мужчины, но ростом пятилетнего ребенка. Испуганный мальчик видел сквозь тело нежданного гостя небо и полоску горной гряды.
– Здравствуй, Мухаммед, – дружелюбно произнес Прозрачный: – Я – Гавриил.
– Знаете меня? – пролепетал ошарашенный пастушонок, не веря ни глазам своим, ни ушам.
– Хочу узнать, – ответил загадочный «Прозрачный», назвавшийся Гавриилом.
Видя, что собеседник не проявляет признаков агрессии, даже скорее почувствовав это, Мухаммед осознал, что находится в безопасности, и спросил у незнакомца: – А что не так с жуком?
– Направление, – Гавриил улыбнулся и повторил: – Направление.
Мальчик обернулся к скарабею, пригляделся и через секунду догадался: – Точно, он тащит шарик на восток, а не наоборот.
И сделал вывод: – Скарабей сошел с ума.
– Нет, – «Прозрачный» отрицательно покачал головой: – Его притянул камень, как и тебя, как и меня.
– Вообще-то меня притянула тень скалы, – возразил Мухаммед.
– Но к камню, – парировал «Прозрачный».
Мальчик разглядывал удивительного собеседника, как пытаются уловить границы горячих потоков воздуха в жаркий полдень, пляшущих перед взором плавными струящимися линиями: – Кто же ты, пришедший сюда вместе с жуком и человеком?
– Я ангел, – сказал «Прозрачный». – Ищущий пророка. Хочешь ли ты, Мухаммед, пасти не коз, но людей?
Мальчик рассмеялся: – Возможно ли такое?
На сей раз Гавриил покачал головой утвердительно: – Да, люди не овцы, но собрать их в отару несложно, они и сами не прочь, дабы не разбредаться на пути, несущем опасность.
– Почему я должен стать пастухом?
– Не почему, и не должен. Просто я сейчас встретил одинокого мальчика, и если он согласен, я приду через двенадцать лет со Знанием и ты станешь избранным, пока же – решай, – ангел поменял ноги, перебросив правую на левую.
Мухаммед задумался: – Я ничем не примечателен?
– Нет, я могу поискать другого.
– Ты знал, что я буду здесь?
– Да.
– А что еще ты знаешь?
– Я знаю, что ты согласишься.
Тень, обнимавшая валун, подползла к Гавриилу, но не посмела коснуться его стоп и искривленной улыбкой стала огибать фигуру ангела. Мальчик, нахмурившись, смотрел на начинавшего сиять внутренним светом собеседника.
– Допустим, ты знал, что встретишь меня, но жук-то здесь при чем?
Ангел, неторопливо раскачиваясь из стороны в сторону, ответил: – Он символ того, что тебе придется делать.
– Катать навозный шарик? – искренне удивился мальчик.
– Мухаммед, – строго произнес ангел, – этот навоз – питательная среда для новой жизни, дом для личинки. Пророку нового слова катить свою мудрость с востока на запад. Скарабей знает, что делает, а посему не останавливается, пока не скинет шарик в воду.
– Что за Знание хочешь передать людям ты, и зачем тащить его к воде? – Мухаммед, при всей своей младости, умел задавать вопросы.
– Слышал ли ты о Христе? – спросил ангел.
– Нет, – подумав, ответил мальчик.
– Он принес людям Знание о Смирении перед низшим, – Гавриил заметно воссиял при этих словах.
– Ты сообщил ему? – поинтересовался юный пастух, положив на ладонь скарабея вместе с шариком.
– Нет, – улыбнулся Гавриил, – не я, Бог, поэтому Знание это подвижно, как вода, и имя Христа – Рыба, он плавает в воде вокруг Шара Истины.
– А Знание, которое принесешь ты, похоже на навозный шарик? – зашелся в немом смехе Мухаммед.
– Знание, которое принесу я, будет Покорностью Высшему, а пророк, вышедший с ним к людям, получит имя Скарабей.
– Кто же даст его тебе? – удивленно воскликнул мальчик.
– Тот, кто дарует все в этом Мире, – Бог, – Гавриил снова воссиял, пульсируя всем прозрачным телом.
– Почему Знания разные?
– Бог, «катая» в руках один шарик, делал это вращением справа налево, а другой – в обратную сторону. Истина, оставаясь сама собой, сменила направление Пути ее достижения, – Гавриил сложил свои прозрачные ладони домиком и показал, как Всевышний лепит знания, становящиеся целыми религиозными учениями.
Мухаммед впервые в жизни разговаривал с ангелом, и манера поведения небесного существа при полном отсутствии крыльев, как и манера выражать свои мысли, приятно поражали мальчика. Посланник Всевышнего вел себя как равный, не громыхал раскатами, не искрил молниями, а вполне душевно светился, излучая располагающее к себе чувство спокойствия и теплоты.
– Кстати, Гавриил, – начал осмелевший пастушонок, – зачем людям Скарабей, если уже есть Рыба?
«Прозрачный» будто ждал этого вопроса: – «Скарабей» для тех, чей разум не холоден, но тороплив, не расчетлив, но импульсивен. «Горячие» души предпочтут Шар на песке.
Пусть Мухаммед не был избранным, но в сообразительности и тонкости ума мог поспорить со взрослым философом: – Знает ли Всевышний, куда приводит Скарабей?
«Прозрачный» удовлетворенно улыбнулся: – Да, миры, выбравшие путь Покорности, теряли эмоциональность, …но достигали высот в другом.
Мальчик задумался, в зажатом кулаке жук, толкая пальцы шариком, продолжал искать выход. Мухаммед ослабил «объятия» и опустил невольника на землю. Тот, по всей видимости быстро сверившись со своим внутренним компасом, развернулся на запад и торопливо покатил собственную вселенную обычной дорогой.
– Зачем Скарабею тащить свое Знание к Рыбе?
– Чья религия окажется сильнее и многочисленнее, тем путем и пойдет в конечном итоге общая эволюция посеянных на планете душ. Шар на песке может скатиться в воду, а Шар в воде – вывалиться на песок, – сказал ангел, подбирая слова, большая часть которых была все равно не знакома Мухаммеду, но смысл произнесенного совершенно неожиданно оказался ему ясен. Понял это, видимо, и Гавриил, который, бросив бесцветный взгляд на удаляющегося жука, спросил: – Ну, что решаешь?
– Ты же сказал, что я соглашусь, – лукаво ответил Мухаммед, ему нравился ангел, излучавший мягкую любовь.
Гавриил улыбнулся: – И твой выбор?
Мальчик оглянулся на скарабея, откатившего свое богатство уже на значительное расстояние. Жук явно устал, движения его лапок были не столь точны и быстры, но упертый скарабей продолжал делать свою работу, возложенную на него Матерью Природой и той искрой, что оживляет своим присутствием даже неподвижные предметы Божьего Мира.
– У меня ведь есть двенадцать лет, достаточно, чтобы хорошенько подумать, – сказал Мухаммед, вернувшись к ангелу.
– Двенадцать лет есть у меня, чтобы привести тебя к Знанию, встречаясь каждую ночь во сне, если, конечно, ты согласишься стать Пророком, но это нужно сделать Здесь и Сейчас, – Гавриил развел руками: – По-другому не получится.
– Почему? – удивился и расстроился Мухаммед.
– Если я дарую Знание целиком одномоментно, ты, да и любой на твоем месте, сгоришь.
Гавриил приподнял правую руку и повернул ладонь особым образом. Луч солнца, пройдя сквозь прозрачное тело, вышел из него яркой узкой полоской и упал на спину скарабея. Жук вспыхнул, и через секунду возле шарика на песке осталась маленькая горстка пепла.
– Зачем? – вскричал испуганный мальчик.
– Это акт его вознесения, – торжественно произнес ангел, – жертва, принесенная твоему сознанию.
Потрясенный Мухаммед неотрывно смотрел на одинокий обездвиженный шарик: – Он приполз к камню на свою погибель.
– Каждый когда-нибудь приходит к своей Голгофе, – тихо произнес Гавриил.
– Мне неведомо то, о чем ты говоришь, – на глазах мальчика навернулись слезы, – но скарабея мне жалко.
– Для чего люди, доверившие тебе своих овец, держат их? – ангел смотрел на Мухаммеда ласково, но вопрос был задан со строгими интонациями.
Мальчик непонимающе развел руками: – Шерсть и…
– Еда, – закончил за него Гавриил, – ты пасешь еду, животные будут умерщвлены, Мухаммед, пастух несет смерть пастве. Спрашиваю тебя, мальчик, последний раз: согласен ли ты стать Мухаммедом-Пророком, несущим пасомым своим Жизнь?
Будущий пророк вытер слезы с лица и ответил Гавриилу, сияющему над валуном, над скалой, над Миром: – Ты знал, я согласен.
– Тогда подними шарик с песка и отнеси его к ручью, там, в низине. Знаешь?
Мальчик кивнул головой.
Ангел поднял прозрачную руку для прощания: – Личинка скарабея жива и готова войти в мир. Встретимся через двенадцать лет.
После чего растворился в горячем нимбе древнего куска скалы, проделавшего долгий путь, дабы подпереть однажды усталую спину Пророка.
Черные одежды
1
Адам не был модником, но он был первым, по известным причинам, кто прикрыл часть своего Божественного тела иной материей (фиговым листком), при этом, как утверждают знатоки, ему не было холодно, ему было стыдно.
2
Читателю наверняка знакома ситуация, когда, задавшись неким вопросом и не получив сколь-нибудь удовлетворяющего ответа, начинаешь погружаться в мучительные ментальные скитания, переходящие в меланхолию, сопровождающуюся изнуряющей бессонницей, излишней потливостью и не к месту извергающимся желудком. Вот и я оказался в подобном положении, глядя на служителей церкви, в большинстве своем облаченных в черные одежды, вопрошая сам себя: – Иисус, представляющий собой Христианство, будучи символом Веры и Вознесения, синонимом Любви, не изображается в черном обличии, но люди, следующие Его Пути, упорно облачаются в этот цвет, подчеркивающий их противоположность, их «низость» по отношению к Сыну Божьему, который неоднократно говорил о равенстве всех душ перед Отцом Небесным.
– Где же тот «исток», то «первоначало», кто вручил портному нити цвета тьмы дабы он, применив свое искусство, пошил одежды для ищущих Христа? Ведь коли нора, из которой выполз Змий, черна, как глаз ворона, не таится ли Лукавый в складках монашеской рясы, не свернулся ли скользким клубком в темном кармане, не прикинулся ли шнурком капюшона, легко нашептывая искаженную истину, меняя буквы в Имени Бога, капая ядовитой слюной под ноги Идущего, обжигая стопы его и замедляя движение? Не презрен ли одетый иначе тому, кто носит особый крой и цвет, кто отмечает «своих» от «чужих» по оттенку, забывая напрочь о том, что различий нет никаких, ибо Искра Божия несет Свет и Любовь, а они неразделимы?
– Ну что привязался к одежде, так положено, – возразит читатель.
Открою секрет – я монах. Нет, конечно, не тот, что сидит в келье возле свечи и все время, денно и нощно, молится. Но, по сути, по сути, я монах. Посудите сами. Я одинок, люблю Бога и предпочитаю в одежде всем цветам черный. Все совпадает. Есть ли у меня келья? Да вся моя жизнь – келья. Бытие слишком походит на убогое жилище отшельника, я зажат стенами обстоятельств, а в пыльных углах с комфортом поселились многочисленные страхи. Одинокая свеча-солнце с трудом пробивается сквозь тучи обязательств, а среди множества лживых и пустых слов лежит в одиночестве на сердце скромным молитвословом обращение к Богу.
Как видите, присутствуют все признаки настоящего служителя, душа коего жаждет любви Всевышнего и ответов от Него же.
Мне объясняли (те, кто мог), что черный – цвет торжественности и авторитета (последнее смущает особо), но, думал я при этом, это же и цвет тьмы (вполне характерно для нашего дуального мира). Не надевают ли черное самые отъявленные разбойники и душегубы, для соития с ночью, а также имея в виду практичность подобной расцветки, скрывающей и грязь их помыслов, и кровь их жертв? И не смущает ли служителей церкви черное оперение крыл Падшего Ангела?
– Черный цвет монашества, – возражали мне, – символ умирания для мира, чистое поле для проявления Света, ибо изначально «была Тьма».
А нужна ли Богу «смерть» монаха, являющаяся, по сути, искусственным погружением в особое бытие, вынужденное, для поддержания собственной энергетики, предлагать, и при этом весьма настойчиво, узкие правила во всем, в том числе и в одежде?
И что чувствует душа, запертая в теле, обряженном в черный балахон, взывая к Богу через подобие средневековых фортификационных сооружений? Не слабы ли надежды узника, смотрящего на голубое небо сквозь узкое решетчатое окно, выдолбленное в толстенной каменной кладке тюремной стены, у основания которой еще и вырыт ров, заполненный темной водой, кишащей крокодилами?
Вот тут бы и обратиться к кому-нибудь компетентному, а кто в Мире Бога знает больше всех? Бог.
– Господи, – вскричал (а может, и прошептал мысленно) я, – подскажи ответ.
И Всевышний, любящий меня безусловно и безмерно, тут же ответил: – Эго.
3
– Монах монаху – рознь, – авторитетно заметил бородатый мужик, торговавший в рядах репой: – Вот, к примеру, овощ репа, с виду все головы одинаковые, – и он ловко выдернул из зеленовато-желтой горки два пузатых, увесистых плода, – а все же разные.
– В чем же отличие по-твоему, мил человек? – хитро прищурившись, спросил обряженный в протертое до неприличного размера дыр серое рубище старик, назвавшийся минутой ранее отшельником Никоном.
– Монах, стало быть, – проговорил тогда торговец, – разглядывая деревянный крест, болтающийся вокруг шеи покупателя на пеньковой бечевке. И пока старик выбирал товар, не трогая руками, а только «ощупывая» лучистыми, светло-голубыми глазами, завязался разговор.
– А отличие, старче Никон, – со знанием дела ответил бородач, – внутри. Снаружи-то корочка одинаково тонкая да желт бочок, что у одного, что у другого. Знать, надобно ножичком ковырнуть, и тогда различия прояснятся.
– Да тебе, господин хороший, не с корнеплодами столь ценными мыслями делиться и не с покупателями, вроде меня, неучами, а с семинаристами безусыми, но учеными, – рассмеялся старик, с интересом разглядывая продавца-философа.
– А я и не прочь, – с улыбкой отозвался тот, укладывая репу на место, – отсюда людей хорошо видать, даже и в кожуре. Взять тебя, хоть ты и отшельник, но не такой, как все церковные служки.
– С чего это ты взял, уж не по одежке ли? – удивился старик.
– Именно, – согласился торговец, – пошто не в черном, как положено уставом? А коли не как все одет, знать, не как все и думаешь.
Никон ухмыльнулся, отметив про себя неожиданные умозаключения собеседника, а бородач, словно опытный рыбак, почувствовал, что добыча проглотила наживку, и «подсек»: – Скажешь, отчего не в черном, выбирай товар, любую голову, что понравится, денег не возьму.
Никон, протянув правую руку к горке, «поиграл» пальцами и схватил самую крупную репу: – А зачем тебе?
Торгаш, увидев выбор отшельника, недовольно поморщился, но, взяв себя в руки, широко улыбнулся: – Вдруг поменяю расцветку фартука или фасон панталон, глядишь, и продажи пойдут бойчее.
– Ты и впрямь философ, – рассмеялся Никон и, вернув на место корнеплод, ткнул пальцем в самую маленькую репку: – Расскажу, но возьму эту.
– Почему сменил выбор? – удивился бородач.
– Потом поймешь, – ответил старик и, облокотившись на прилавок, начал: – Душа выбирает цвет во всем, не только в одежке. Думаешь, видишь мир в тех же расцветах, что и я? Ан нет, по-разному.
Старик кивнул на горку корнеплодов: – Как твоя репа на вкус.
Бородач недоверчиво посмотрел на отшельника и, стащив с головы картуз, сунул Никону под нос приколотый к нему цветок василька: – Какого цвета?
– Название у предмета одно, видим его мы по-разному, – отшельник помолчал. – Видим и чувствуем.
– Ну пусть так, – согласился торговец репой, – а одежка-то на что влияет? Вот твоя, к примеру?
Старик провел рукой по своему нищенскому одеянию: – Не могу носить белое – не дорос, но и черное противно мне, оттого-то и выбрал серое.
– Между, значит, – вставил бородач.
Никон кивнул.
– Ну а черный-то чем не угодил, вон, все носят, – торговец посмотрел по сторонам и остановил взгляд на своих кожаных нагуталиненных сапогах.
– Душа, как Свет Божий, не приемлет черноты. Голос души высок и тонок, голос же всего очерненного груб, низок и губителен. Свет души – лучистый и «раздается» во все стороны. Чернь, наоборот, поглощает, забирает и не возвращает, замыкая все на себя.
Старик поднял глаза к небу: – Спаситель носил светлые одежды и в черных сердцах обидчиков видел Божий Свет, потому и прощал гонителей.
– А если силком напялить на тебя черную робу, дорогую, в бархате и расшитую каменьями, неужто изменится мир твой? – лукаво спросил торговец и заулыбался, представляя тощего седовласого Никона в царском одеянии.
– Не сразу, но изменится, – серьезно ответил отшельник.
– Неужто вещь, пусть и не трехгрошовая, свернет с Пути? – загоготал на всю ярмарку бородач. – Так и знал!
– Не вещь, дыхание ее, – промолвил без обиды Никон.
– Загадками говоришь, – нахмурился торговец, уже пожалев о разговоре, который отпугивал покупателей от его прилавка, предпочитавших обходить стороной спорщиков.
– А в загадке и кроется ответ, мил человек, – радостно подхватил старик. – Чем темнее цвет, тем тяжелее дыхание, а у черного только вдох. Сможешь ли ты существовать, все время вдыхая, забирая, втягивая? Хватит ли гибкости тканям душевным вместить Вселенную, не разорвавшись? Ты тянешь, а Бог дает, он не противится твоему желанию, хочешь все, все и получишь, но вместишь ли?
Торговец почесал затылок и водрузил картуз на макушку: – Это все равно, что кушать репу и…
– Не избавляться от нее, – усмехнулся Никон. – Вот в какое положение становится душа, облаченная в черноту.
– Для чего же церковь одевает служителей своих в такую одежду? – искренне удивился бородач.
– Чтобы оставить душу в своих стенах, не дать ей вырваться на волю, – Никон вытер рукавом вспотевший лоб.
– Богохульствовать изволите? – совсем по-жандармски осведомился торговец, уже со страхом бросая осторожные взгляды по сторонам.
– Те, кто писал каноны, изволил делать это, – спокойно произнес старик и добавил: – Ну что, мил человек, заслужил я твоего товару?
Бородач поморщился: – Ничего такого не сказал ты мне, чтобы отдал я крупную репу, но слово торговца…
– Как раз и стоит той маленькой, что я выбрал, – рассмеялся Никон и положил в карман самый мелкий плод: – Вот тебе на прощание слово мое: подумай, что происходит со всяким овощем, а хоть бы и фруктом, когда он загнивает?
– Ясное дело, чернеет, – буркнул торговец и осекся.
– Так вот, – продолжил Никон, уже отходя от прилавка: – Чернеет от того, что сгнил, или гниет от того, что сорван был с ветки, отлучен от Истока, закупорен в черные одежды.
4
В начале было Слово. Имеется в виду в начале сотворения чего-либо, возможно, просто предложения, возможно, просто рассказа, возможно, просто Мира. Отвечая мне, Бог сказал: «Эго», – значит, это Слово было положено им в начало, думаю, изменения моего сознания в части восприятия черного цвета. Тогда стоит следовать уже имеющемуся перечню действий, но двигаясь параллельным Путем, да простят мне ревнители в черных балахонах столь вольной трактовки их святыни.
Итак, когда Господь произнес «Эго», в сознании моем свет отделился от тьмы, как в первый день сотворения, и суть, проявившаяся вослед Слову сказанному, осталась на темной стороне, ввиду соответствующих вибраций. И был День Первый.
Во второй же день создал Бог посреди тьмы (моего сознания) воронку, Черную Дыру, центр Эго, выделив темноту внутри темноты, сгустив ее за счет вращения, установив центростремительный тягой жгут самости. И был День Второй.
На третий день уплотнилось Эго до тверди Гордыни, покрылось водами безразличия и ощетинилось ростками гнева. И был День Третий.
На четвертый появились над твердью Гордыни антиподы светил небесных, черные поры страхов, всасывающие жизненные силы и выталкивающие зловонным дыханием судороги, спазмы и безволие. И был День Четвертый.







