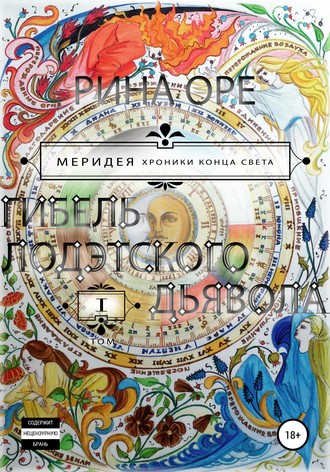
Рина Оре
Гибель Лодэтского Дьявола. Первый том
– Уйди! – пыталась освободиться девушка. – Пусти меня! Говорю, что не хочу!
Но Оливи крепко держал ее за запястья той же стальной хваткой, как у его матери. Он пытался ее поцеловать – она, избегая губ Оливи, отворачивала лицо и елозила головой по стене, из-за чего ее чепец неряшливо сполз набок.
– Да уйдиии же, – чуть не плача, простонала она. – Я закричу…
– Нет, не закричишь, – тяжело дышал Оливи. – Давно б закричала, да мою мать боишься.
Он плотно прижал ее своим телом к стене, и ему почти удалось ее поцеловать, как в коридоре показался Гиор, шедший к уборной. Он громко хмыкнул, отчего девушка сразу оказалась свободной, после пристально вгляделся в нее, следом в Оливи – и резко вышел из коридора, направляясь через гостиную в обеденную. Оливи грустно посмотрел на Маргариту.
– Ну вот что ты наделала? Надо было шуметь? Дуреха! – заключил он и тоже ушел, но вверх по лестнице, в свою спальню.
Маргарита, оставшись одна, не знала, что делать. Она поправила на голове чепец и тихо подступила к гостиной. Скоро ей стало понятно, что Себесро покидают дом без объяснений и навсегда. Девушка обхватила щеки руками, моля Небеса и Бога на них, чтобы тетка не прознала о причине расстройства помолвки. Пока одни уезжали, а другие старались их отговорить, она успела убежать в свою комнатку за лестницей и запереться там.
Небеса и Бог за что-то не любили Маргариту или же они ее испытывали: когда тетка Клементина вошла в кухню и увидела там шляпу сына, она всё сразу поняла. И, конечно, ринулась к спальне племянницы, стала орать и пытаться вломиться туда. Дверь едва не слетала с петель от рывков тонких, но сильных рук тетки. Еще Маргарита слышала голос дядюшки Жоля, безрезультатно пытавшегося урезонить разъяренную супругу. Потом голос дяди исчез. Через пару минут за дверью что-то негромко заговорил Оливи, которого привел дядя Жоль. Далее раздался плач Клементины Ботно, затем все голоса удалились.
Несчастная Маргарита сидела на кровати, в кромешной тьме, вжавшись в угол. Если бы в комнатке были окна, то от страха она убежала бы навсегда. Даже бродяжничество стало пугать ее меньше, чем расправа тетки. Девушка плакала и проклинала свою горемычную планиду.
Минут через восемнадцать из-за двери раздался голос дяди Жоля:
– Вот чего, дочка, поеду я к Себесро и постараюся всё сладить, – тяжело вздохнул он. – Верно, что заперлася. Сиди так всё ж таки до моего возврату, а то Клементина тебя взаправду изувечит. Ну… кх… мх… я пошел, – покряхтел он. – Ты-то как тама? Живая хоть? Отзовись.
– Возвращайся побыстрее, – взмолилась подошедшая к двери Маргарита. – Мне страаашно…
– Страаашно, – передразнил ее дядя Жоль. – Конечно, страшно. И верное, что страшно. Я такой Клементину отродясь не видал, хоть казалось, всякое уж былось. Мне тож страшно. Навытворяли вы с Оливи делов…
– Я не виновааатая… – простонала Маргарита.
– Может и невиноватая, но, – тяжело вздохнул он. – Так-то оно так… но вот только отчего ж с тобою… и впрямь стоко бедствий?
________________
Через час добряк дядя Жоль скандалил с боевой прислужницей, не желавшей впускать его в дом Себесро. В конце концов он попытался силой зайти внутрь, но не менее широкая, чем он, прислужница сама выпихнула его с крыльца и захлопнула дверь. Если бы это сделал мужчина, то Жоль Ботно бы плюнул, сел на телегу и гордо отправился домой, но, вспомнив недавние унизительные шлепки от своей супруги, пришел в такой гнев, что даже его колпак съехал со лба к затылку – и показался нелепо торчащий, будто тоже возмущенный распустившимся поведением женщин клок волос. Жоль Ботно принялся кричать под большим окном дома Гиора на всю оживленную и шумную Восточную дорогу, одну из трех главных улиц Элладанна:
– Гиор Себесро, поди сюдова! Будься мужчиной и не кройся за дурной бабой, что тебе служивает! Нельзя без разъяснениёв покинуть дом, где тебя обедували! Я так и буду тута орать! Не уйду, покудова с тобой всё не поясняю!
На забавного толстяка оглядывались с повозок. Торговки цветами и сластями толкали друг друга локтями, показывая на него пальцем. Прохаживавшиеся по широкой мостовой модники прыскали смешком, а их яркие спутницы улыбались. Звездочка и та отворачивала голову, будто испытывала за хозяина стыд. Но Жоль Ботно никуда не уходил, продолжая звать Гиора и угрожая, что будет так орать хоть до следующей медианы.
Шумная настойчивость Жоля Ботно возымела успех – спустя триаду часа он оказался в кабинете суконщика. Гиор Себесро усадил своего возможного отца по мужу сестры на скамью, а сам принялся ходить по комнате.
– Да не маячь ты, Гиор, – сказал дядя Жоль. – Я ж тебя еще малюткой помню. А ты? Как попал в беду, позабыл уж? Ты спал в моем дому, а я тебе сказки сказывал. Помяташь про сбежавший блинчак и как ты рёвом от этой сказки восплакал, а я тебя утешал?.. Охолодись давай… и прямо поговорим. Не делай Конца Свету из того, что былось, всё ж таки час Кротости еще не истек.
Гиор остановился. От гнева его острые скулы едва не прорезали кожу.
– М-моя сестрица д-орога мне, – срывающимся голосом выговорил он. – Нам не нужен ох… хотник за приданым.
– Да чего ты! Наверное, хотишь выдать сестру по любви? Кто не хотит? Да вот вряд ли таковский жених сыщется, сам знаешь, – увещевал суконщика дядя Жоль. – Оливи, хоть и дурень, но не дурак. Он знает, как себя весть и блюдёт приличья. Вот всё, что нас всех устраивает, разве не так?
– Он обнимал и целовал другую в то же время, как в соседней зале, почти за стенкой, мы… Мы – дураки, обсуждали венчание! Для меня, Жоль Ботно, это неприлично! Если для твоей семьи такое – это прилично, тогда нам точно не по пути!
– Конечно, и нам всё это неприличивувставаёт, – заверил суконщика дядя Жоль, снимая колпак и промокая рукавом лоб. – Оливи… Он так кается…
Гиор хмыкнул.
– Кается, – повторил дядя Жоль. – Он не виноватый.
Затем дядя Жоль, обиженный на весь женский род, сказал то, чего не смог простить себе даже после покаяния и отпущения священником этого греха:
– Эт она всё. Девушка эта… кх… м-да… – замялся он, подбирая слова, и затеребил округлую бородку. – Вертигузка она как бы… Нууу мы следить за ей будём, ты не боись. Околь Оливи она уж не повертится! Забудь про ею.
– Да, как же… – недовольно проворчал Гиор, немного утихая. – Она красивая… Может, это Оливи к ней бегает, а не наоборот?
– Да нет же – это она ему пути никак не даст: всё трогает его и целуваться лезет, а Оливи просто устоять не могёт. Она всё ж таки красивая – ты сам сказал. Сегодня он выпил спустеньку… кхм… Дааа… многова выпил… Не будется больше́е такого: ни до венчанья, ни опосля.
– Вы ей уже отказали от места?
Дядя Жоль снова замялся и закряхтел.
– Виделишь ли… кхм… Гиор, не могём мы… кххх… Племянница м-да… она нам… ро́дная. Скоко бед уж нам учинила, ох!
Гиор Себесро сузил глаза.
– Пле-мян-ни-ца? – повторил он по слогам. – Ты что издеваешься, Жоль Ботно?
Дядя Жоль развел руками, а Гиор снова заходил по комнате.
– Гиор… – начал новую речь дядя Жоль.
– Молчи, я думаю! – грубо перебил его суконщик, совершенно позабыв об обходительности.
Он сделал еще несколько кругов по кабинету, потом подошел к шкафу, достал крепкую анисовую настойку на куренном вине, налил две неполные чарки и поставил их на столик перед скамьей. Сам сел рядом с дядей Жолем.
– Я решил. Если бы не моя несчастная сестрица, которая сейчас наверху рыдает, так как хочет замуж и хочет чадо, то мы бы сейчас не разговаривали. Ты прав: не надо себя обманывать, – твой сын женится на ее деньгах, как сделает это и другой. Но вряд ли у того другого будут такие же красивые сужэнны, какие будут свободно посещать дом моей сестрицы, угощаться с ней за одним столом и унижать ее одним своим присутствием в доме. Сужэнна – это не просто содержанка. Она не исчезнет, если с ней прекратят связь. Возможно, даже мстить начнет. Ботно, я хочу, чтобы ты избавился от нее – чем скорее, тем лучше.
– Чего значит «избавился»? – тихо и изумленно спросил дядя Жоль.
– Мне всё равно. Отдай ее в монастырь, раз она распутна, или выдай замуж – пусть супруг за ней следит. За кого-нибудь не из нашего окружения, чтобы Оливи и эта твоя племянница пересекались как можно реже. Идеально, если бы она уехала из города, и подальше.
– Ну я как-то даже не знаю…
– И это надо сделать быстро. К празднеству Перерождения Воды, к этому благодаренью, ее уже не должно быть рядом с женихом моей сестрицы, рядом с твоим сыном. Если ты согласен, то пожмем руки, заключим сделку и выпьем.
Жоль Ботно встал.
– Нет, Гиор. Так вот я не могусь. Мне на нее не плевать – родная как-никак. Я ее второй отец, а она мне дочка сердешная… Мне хоть раздумать это надобно…
– Думай, – встал со скамьи и Гиор. – Времени у тебя: до благодаренья. Если надумаешь – жду приглашение на венчание твоей племянницы. Своими глазами хочу видеть, что ты меня не обманываешь.
________________
Ночью дядя Жоль снова ругался – на этот раз с женой. Та была неузнаваема: с красными веками от бесконечных рыданий, с заострившимся лицом, но с опухшей «луковицей» носа, она в свои сорок лет походила на старуху.
– Вот чего, слушай меня, Жоль Ботно, – сказала тетка Клементина супругу. – Я ее долго терпела, хотя она нам небось даже не родня. Не зря мне дали имя, значающее «милостивая». Я прикинула тут, во сколько она нам обошлася за все эти лета. Сам почитай: десять золотых монет, перцу кулек, моя зеленая ваза, прочие ее бесконечные пакостя… Часы твои, к примеру… Горшков не упомнить скольких набила, кувшин глазурный из-за нее с трещиной по дну! Питанье, траты ей на башмаки всякий год, на одежды и белье… Так вот – я навскидку сосчитала еще три альдриана! Если мы потеряем приданое на двадцать золотых – это будет тридцать три! Столько же дают за голову самого Лодэтского Дьявола! Она – вот кто истинный Дьявол для нас, для Ботно! Не знаю, от кого ее путаница-мать пригрела, но ручаюсь – не меньше́е чем от черту! Я уже не будуся ее терпеть, хватит! Я на нее уж глянуть не могу! Я, клянуся, удавлю ее, коли ты дозволишь ей остаться и ныне – будь что будет! А если ты против, то лучше́е тоже поди, Жоль Ботно, с этой вертигузкой!
– Клементина, душа м…
– Я всё сказала! Монастырь, улица или венчанье! И раз ты на самом деле желаешь ей счастия, Жоль, то сыщи для её такового супруга, какового хуже́е на всём свету нету! Лишь самый лютый муж и никакой другой сделает довольной эту белую волчицу! Вот поглянешь еще, что я былась правая. Всё! Иль она подёт прочь, иль и ты поди, если потерял совестя, поди с этой зелёноглазьей дрянью! Предавай, давай, меня и сына! Забудь нас!
Она снова принялась рыдать, уткнувшись лицом в подушку. Жоль Ботно, глядя на ее вздрагивающую спину, сдался:
– Полное, Клементина, ну не плачь… не рви мне души. Спробую выдать ее замуж.
________________
Маргарита тоже заливалась слезами в своей комнатке. Синоли тайком принес ей обед, маленькую глиняную лампу и масло для нее, после чего сообщил, что он и Беати помолвлены, что скоро обвенчаются и даже устроят пиршество, ведь Нинно «наиотменнюще» заработал на новобранцах. Синоли, пребывая в счастье, несильно переживал за сестру, уверенный, что через несколько дней, как уже случалось не раз, Маргариту простят и тетка успокоится.
После ухода брата, Маргарита, радуясь за него и за Беати, в то же время стала острее чувствовать свое горе, несправедливость к ней звезд, одиночество и ненужность никому. Она так желала исчезнуть из этого дома, где, сколько бы она ни старалась сделать добро, выходило наоборот.
– Боженька, ну пожайлста, молю, исполни, чтоб я былась от тетки и Оливи даль-далёко, – просила она, засыпая. – Я уйду куда угодно и с кем угодно, клянусь. Пожайлста… Или пускай я сгибну. Попросту започиваю, как матушка, – и всё! – и она начинала горше плакать от жалости к себе.
Глава IV
Шутник, ангел и праведник
Место в гильдии давало горожанину уйму преимуществ. Через гильдию можно было получить крупный заказ, ссуду в банке, льготы, помощь братьев по ремеслу в случае болезни или иного несчастья; можно было найти щедрых заказчиков, сбыть залежавшийся товар, отлично праздновать в торжества, даже отправиться в странствие по монастырям, торговую поездку или путешествие. Городские стражники расследовали преступления в своем квартале, патриции защищали свою гильдию законами, внутренний суд гильдии без проволочек разбирал споры и ссоры, нарушения устава, плутовство, мелкие кражи и карал за бесстыдство. Самые богатые гильдии имели свои храмы, лекарей, красивые дома на Главной площади для проведения собраний, заключали союзы с другими городами по всей Мередее. Мастера могли выбрать старейшиной, а там и патрицием… Но главное: старейшины гильдии отвечали за сбор всех налогов со своих мастеров и их подмастерьев, они же давали отсрочки и послабления, определяли размер торгового сбора и поручались за доход горожанина. Скупой златокузнец Леуно платил управе столько же налогов, как дядюшка Жоль, торговец различным товаром, – сто двенадцать серебряных регнов в год. Мамаша Агна отдавала в городскую казну аж тысячу триста девяносто два регна за себя, а за своего сына-отрока – еще четыреста тридцать два регна. Коваль в среднем платил податей и сборов на две золотые монеты. Если мужчина не владел ремеслом, не состоял на службе, не имел явного источника доходов, то с него могли взять всего тридцать два регна, как с обездоленного, но могли стребовать и три золотые монеты, как с торговца рыбой.
Дело в том, что подоходного налога не существовало, ведь доход невозможно было проверить. Вместо этого власти придумали поимущественную подать, мерила какой были весьма сложны – кроме заявленного дохода учитывались предметы роскоши, наследство, животные, слуги, ученики, иждивенцы, их одеяния – если говорить грубо, то оценщик от управы глядел с улицы на дом, мастерскую и их обитателей (внутрь дома чужаков не впускали), после чего «на глазок» решал: честно ли горожанин заявил свой доход или обманул власти. Если обманул, то гильдию ждало разбирательство, крупное взыскание, кое-кого и казнь. А ведь помимо поимущественной подати глава семьи платил еще подушные подати за себя и за зависимых от него домочадцев, поземельную подать и подомную подать, различные сборы и пошлины. Заносишь лесную ягоду в город – плати и за ягоду и за вход, выносишь из города что-то ценное – опять плати. Время от времени поднимали цену на соль и на дрова, вводили временные сборы или устанавливали новые. Словом, так никаких заработков не хватит.
Гильдии оттого ограничивали своих мастеров во многом тоже: в числе учеников, инструментов труда и станков, в закупке сырья и во времени работы. С каждым мастером старейшины оговаривали его налоги, помогали получить льготы и требовали выглядеть на заявленный доход, или беднее. Выгода проста – чем меньше получит управа, тем больше средств будет у гильдии и ее глав. И даже на личную жизнь гильдия оказывала влияние. У женатого мужчины должен был больший заявленный доход, чем у холостого, у мужчины с детьми – еще крупнее. За отроков уже приходилось платить подушные подати – мизерные за девочек и довольно солидные за мальчиков. Зато родители начинали копить на приданое дочке с ее рождения. За содержание вдов и сирот давались налоговые вычеты. На собрании гильдии, как в семье, обсуждали выгодные для братства супружества. Конечно, жениться или выйти замуж против воли не могли никого заставить, но полезного для гильдии мастера ждали лучшие заказы, иначе – самая неблагодарная работа.
Подмастерьям по ученическому договору вообще запрещалось жениться, да и они, как правило, мечтали обвенчаться с вдовой мастера или его дочкой, унаследовав место в гильдии. Мастера, в свою очередь, неохотно роднились с чужаками. Если дело процветало, то лучшая невеста – это сужэнна или племянница, если торговля идет не очень – хорошо бы объединиться с братом-мастером в семью и поделить подмастерьев, инструменты, заказы. На худой конец, женихи искали невест в родственных гильдиях – башмачники у сапожников, косторезы у пуговичников, кузнецы-проволочники у прочих кузнецов. Ну а в ученическом договоре прописывали, что любодеяние недопустимо в доме мастера.
После возраста Приобщения, девяти лет, законнорожденного мальчика могли взять на обучение ремеслу – первый ученический договор мастер заключал с его отцом, опекуном или матерью-вдовой. Мальчик жил в доме мастера, питался вместе с его семьей, взрослел, выполнял посильную работу, вернее, получал начальное образование. После возраста Послушания, тринадцати с половиной лет, юноша приобретал право на имя, и тогда мастер заключал второй договор – трехсторонний, с главой семьи ученика и с ним самим. Лет в шестнадцать-восемнадцать ученику полагалось дать звание подмастерья и жалование. Затем, заключив третий ученический договор, следующие восемь-десять лет подмастерье работал на своего учителя ради звания мастера и места в гильдии.
Это были восемь-десять лет изнурительного труда, жестких ограничений и унижений – чем дальше, тем больше брани от мастера. Уставы гильдий не дозволяли подмастерьям носить ценные украшения, одежду более чем из двух цветов и башмаки из трех видов кожи, гулять после заката и посещать питейные заведения. Кормили их отвратительно, условия проживания едва ли можно было назвать достойными, мастер наказывал за «негодный товар». В конце подмастерье должен был сдать экзамен как в университете, причем потратиться на материал и застолье из собственных средств, – так мастера вынуждали учеников первыми разорвать договор, дабы не вводить их в гильдию.
________________
Из-за таких устоев даже красота Маргариты, даже ее редкая для Лиисема внешность, не помогали ей стать женой кустаря, его сына или ученика. Тогда как Беати являлась для всех кузнецов желанной невестой, к племяннице торговца различным товаром еще ни разу никто не посватался, ведь союз с ней не мог принести выгод. Жолю Ботно оставалось искать Маргарите пару среди соседей или добрых друзей. За следующий день он сломал голову раздумьями, но, перебрав всех знакомых, всеми остался недоволен. Те, кто не могли обзавестись супругой, были то чрезвычайно уродливы или искалечены, то стары или нищи. Одни били своих подруг, другие ими приторговывали, третьи беспробудно пили. Только Нинно не вызывал у дядюшки Жоля отторжения.
«Невесты у него до сих пор нету, хоть всё при нем: значит, по́ сердцу себе де́вицу ищет, – рассуждал Жоль Ботно у себя в лавке. – Да и не гонится Нинно за монетою – эт все знают. Один, дурак, пашет. Нет да и всё ж таки взял бы ученика и изводил его, как прочие кузнецы, но ему совестли́вость не дозволяет… Порядочный… Ох, и хорошо вроде это, а вроде и не очень-то: не зря говорят, что честнай человек завсегда простак. Дааа, не бог весть жених – беднота, и ясно, что до смерти им станется, скоко б ни пахал, – весь в отца своего: всем славный малый былся старина Жон, да беднее кузнеца ищи сыщи в Элладанне… Ныне с Нинно аж, небось, золотых с трое стребуют в войный сбор! И спробуй не дай в срок! А если захворает иль вовсе работать не смогёт? Как тогда? Но с другой стороны: в гильдии он – в беде его не бросят. Дом имеет, землю под ним держит, господин как-никак… И пригож, и утвари жёниной в дому полным-полное, не пьянь опять же… А глядишь, жена образуется, то всё ж таки возьмет кой-кого подмастериём… Вот тока неясное: он-то венчаться с Грити хотит иль нет? Кольцо задарил… Ценное, хоть и сам сделал… Часы мои чинять сволок и ни медяка не взял… А чё тогда не свата́еся? Чего ждет? Попробую с ним сговориться всё ж таки… Пора ему уж супругою разживаться – двадцать четверо годов, а всё холостой. Запьет того гляди, как мой брат, с одиночеству – тот аж до двадцати восьми женитьбы чурался, – вот и окончался скверно!»
Дядя Жоль уж сложил убедительную речь для кузнеца, но тут Синоли сообщил о своей помолвке и стал намекать на то, что после свадьбы им, Беати и Синоли, было бы правильно отдать спальню Оливи, конечно, после того как тот съедет. Нинно сразу отпал, так как Маргарита по духовному закону становилась для кузнеца сестрой по мужу сестры и сходиться им уже не разрешалось.
Дядя Жоль весь день думал о щекотливом вопросе венчания, а еще о том, что Клементина осталась днем в постели, чего за двадцать семь лет их супружества с ней не случалось. Размышлял добряк и о том, что Маргарита тоже не выходила из своей комнатки, неизвестно что там делала и что мыслила, зато Оливи, спокойный и размеренный, отоспался и, как всегда, куда-то исчез из дома. От всех этих раздумий Жоль Ботно страдал и очень обрадовался, когда вечером нашел на сеновале живого да невредимого деда Гибиха – старика он не видел с Меркуриалия. Приятели раздавили по чарке зубного эликсира прямо в лавке, пока дядя Жоль жаловался деду на свои горести.
– Смёкашь… – задумчиво ответил дед Гибих, обхватывая белую бороду у подбородка и протягивая ее через кольцо ладони, – можат статься-то, и жених сыщеца. В шажочке отседова: у Агны красаве́ц одный берёт постою. Я с часка сего схлёбал с им хлебу, – сыто и довольно улыбнулся старик. – Супружничать тот парень хотит. Служилый пехотник он, новонабранец. Скореча́ ужо в Нонанданн ему. Ка́жет он мне: «Авось сгину, а пожиться-то не спел!» Желат последние деньки прове́сть в любвови, так каза́ть, – крякнул дед.
– Ну уж нет! – с ревностью ответил дядя Жоль. – За непонятно кого я сердешную дочку не выдам – всё равно что на улицу выставить.
– Да неее, родня у парнишки – о-го-го! Его ро́дная сестрица замужничает с управителем замка герцога найшего, с господарином Огю Шотно, дружком градначальника найшего, Свиннака, черт его дери. Второе сословье они!
Дядя Жоль, принадлежавший к третьему сословию среди мирян, впечатлено хмыкнул и стал в раздумье теребить свою бородку – неизвестный жених с такой родней сразу показался ему принцем Баро.
– То-то и то! – кивнул дед Гибих.
– Страшён, поди? – в поисках подвоха предположил дядя Жоль.
– Не, красава! Божусь! Прям как я в моло́дстве. Плечья́ – широки́! Лик – что Ангел Божий! Лютует к Лодэтскому Дьявулу пущее смертией. Зелён ешо больно, вота и не супружничал. Семнадцать годочков ему. Но така-то не дашь – оброс щетино́ю и грудья́ вся в волосья́х! Купчаю на дом подыправил и каза́л: «Девятнадцать скореча», – и в пехотники панцирные сгодил. Шость регно́в в дню! Сестрице свойной ни слова не каза́л покудова про сё. Они порознь жителя́ли. Он сам в дёрёвне ро́стился, ряяядом – осьмь деньков повозкою. Тама така и захорошел.
– Моя сердешная дочка, чего же, в деревню поедет? – расстроился дядя Жоль.
– Пущай и в дёрёвню! Де́вица – крепка́я, молодка: дёрёвня в раз для ею. Год минет – не зазнаешь: раздобреет тама на свойных хрюхах, буде ширше́е Агны, – смеялся дед Гибих. – А то тоща́я.
– Не знаю, не знаю, – мялся дядя Жоль. – Лодэтский Дьявул всё ж таки идет. Опасноё в деревне… Да надобно б хоть глянуть на жениха…
– Пшли к Агне! – обрадовался старик. – Нанагля́дишься тама.
Жоль Ботно в нерешительности теребил бородку: голос разума твердил ему, что выдать столь бедовую племянницу замуж будет верным решением, но совесть не позволяла отдать любимую сердешную дочку незнакомцу. Он уж было хотел отказаться, да поглядел в пустой угол, откуда посылала поцелуи принцесса. С болью вспомнив ту трагическую для него ночь, когда Маргарита нечаянно сломала часы, он решил, что в любом случае выпить кружечку пива ему не повредит. Жоль Ботно вышел из-за прилавка, надел свой синий колпак и поспешил на улицу.
________________
Спустя восемнадцать минут Жоль Ботно и дед Гибих сидели в полутемном трактире за одним столом с «женихом Маргариты», И́амом Махнга́фассом, и с его приятелем, Рао́лем Ронна́ком.
Иам оказался таким, каким описывал его дед: красавец-блондин с небесного цвета глазами. Густая щетина делала его старше на пару лет, а рослое тело убеждало, что он явно преодолел возраст Посвящения. Иам отличался легким нравом, любил побалагурить и повеселить приятелей шуткой. Он на самом деле недавно острил во хмелю, что женился бы не глядя на любой девице, которая за него пошла бы, потому он сам ничего не терял – или помер бы в бою, или вернулся с победой в нежные и, главное, бесплатные объятия жены да сберег бы заработанные средства.
Но когда этот шутник увидел сватов, то напрягся, протрезвел и ошалело вытаращился на двух бородатых толстяков перед собой. Его приятель, с которым он недавно сошелся, такой же панцирный пехотинец, в замешательстве приглаживал свои пышные, черные усы.
– Я как-то не готов, – развел руками Иам. – Я говорил, что хорошо было бы жениться, но это так… из-за выпивки с языка соскочило. Пошутил я… Шутить люблю, понимаете? И с девкой можно последние мирные деньки скоротать.
– С девкою! – недовольно передразнил его дед Гибих. – Девка буде тя с войны ждавать? Авось ночие буде не дрёмать? Молитяся, чтоб живёхонек стался? К девке будёшь воротаться? А коль загибнешь, то и дитяти опосля тебя не станется! Почитай: чё живал, чё – нет! Тока нажрал да нагадил.
Иам вздохнул: он остался последним мужчиной из своего рода, поэтому слова деда достигли цели.
– Ну хоть ничего-то невеста-то ваша? – начал сдаваться парень.
– Ничаго, – ответил дед Гибих. – Тока тоща́я. Но сё-то уж переправить можно́. Сиренгка она.
Раоль присвистнул, а вот Иам не обрадовался.
– Мне темненькие как-то больше по вкусу, – сказал он, почесывая стриженый затылок. – Смугленькие такие…
Дядя Жоль не выдержал:
– Я пошел отсюдова! Скажи, что нет, – и концу! Я своей раскрасавице мигом жениха сыщу!
– Погоди, – остановил его Иам. – Купи-ка нам хмельного для начала. И расскажи, что там за беда с нею. А потом пойдем на смотрины… Если дашь приданое, то, наверно, на красавице я женюсь.
– Сколько тебе надо? – устало вздохнул дядя Жоль.
– Двести регнов серебром! – выпалил Иам – для деревенского бедняка это были деньжищи, за какие можно было купить корову или ломовую лошадь.
Жоль Ботно, соглашаясь, махнул рукой.
Они выпили еще по четыре кружки пива. С каждой новой порцией хмеля мужчины нравились друг другу всё сильнее. Иам подтвердил, что его старшая сестра замужем за управителем замка, который его, Иама, терпеть не может, а он его. Но добавил, что попробует устроить свою будущую жену в замке на время, пока будет на войне, чтобы сестра следила за ее поведением, после чего они поедут на границу Лиисема и Мартинзы, в деревню Нола́ у Луве́анских гор.
Затем все четверо, пьяные и веселые, направились к дому Ботно и оказались во дворике.
– Тишь, не шумите тута, – прикладывая палец к губам, сказал пьяненький Жоль Ботно и поправил съехавший набок колпак. – Жена вся изнуреньем до немощи ослабла, м-да… А как пробудётся, визгу-то с ее будёт!
Компания захихикала, закивала. Жоль Ботно на цыпочках отправился в дом, к спаленке Маргариты.
– Дочка, – сказал он там племяннице и обнял ее. – Ты прости меня, но путёв иных нету.
При свете маленького огонька от глиняной лампы, Маргарита выглядела изможденной – она словно стала еще меньше всего за один день, проведенный взаперти, в страданиях и мыслях о смерти.
– Путёв у нас три, – сел он вместе с ней на кровать. – Либо монастырь… либо… кх… твое венчание… м-да… либо я прогоняю тебя… Дам деньжат с собою – и всё: ты уж не смогёшь воротиться. Прости, моя сердешная дочурка, моя Грити, но я притворюсь, что мы незнакомые. Клементина с розуму сошла с этой женитьбой Оливи, но ее можное понять. Мы ж с ею повенчалися, когда ей четырнадцать былось, а ребенку не былось аж до двадцати. Она к Идерданну за даром чадородия через двадцать с лишком монастырёв шла, и верит, что на святой дороге самого Божьего Сына совстречала… Когда вернулась, Бог послал нам Оливи… Он ее чудо, и она на всё готова ради его благополучия и счастия. Не о себе печется – токо о нем. Для себя лишь хотит, чтоб он рядом живал, в Элладанне, вот и… Напроживали мы с ней всякое, пойми… Я плохим ей мужем былся… Сженился рано, в шестнадцать, вот и… м-да… Когда-то она былась другою: не склочилась, как сейчас. Это я с ней наделал… Виноват я перед ею сильно. Мой долг ныне – упло́тить ей за ее терпеньё. И твой тоже, – погладил он Маргариту по голове. – Ведь всё ж таки ради тебя она ту чертову вазу своей чертовой бабки продала, а носилась с ею как со святынею. Любая она былась ей крайне – от родни всё ж таки…
– Дядюшка…
– Погодь, дочка, – прервал Маргариту дядя Жоль, – я досказать должён. Это непросто, – вздохнул он. – Жениха я тебе сыщал. Парень вроде что надо. Из хорошей семьи… Он на войну в календу уж пойдет – ты же с его сестрою в замку живать будёшься. Представь-то, в замку герцога Альдриана! – улыбнулся он, когда Маргарита удивленно посмотрела на него своими зелеными, полными слез глазами. – Да-да, в замку, на холму, за толстыми замко́выми стена́ми, где никакой Лодэтский Дьявул тебе не страшённый. Там, внутрях, парк цельный, говорют, и пруд с лебедя́ми, – и эт на холму-то пруд! Чё токо нету за этими замко́выми стена́ми… На аристократов будешься глазеть, даже на герцога нашего… м-да… кх… Тока умоляю, Грити, не навытворяй там ничто, как обычное, а то всю семью на эшафоту покладешь.
Маргарита печально шмыгнула носом.
– Всё, тирай слезы, – ласково сказал ей дядя. – Надень лавандо́вое платье и выходь. Чепчику не надо: косы хватит. Жених твой во дворике. Если глянитесь друг другу, то быться и свадебке. Я за дверью пожду.
Только Маргарита вышла из своей спальни к дядюшке, на лестнице появилась Клементина Ботно. Она была в ночной чалме, домашней тунике без рукавов, надетой поверх просторной сорочки, и куталась в платок. Немного спустившись, тетка перегнулась через перила – ее сжатое, напряженное лицо выражало сложную гамму чувств: от гнева на мужа, ненависти к племяннице и до тревоги из-за ночных посетителей. Она многозначительно сверлила блестящими глазами своего супруга, требуя объяснений. Маргарита еще сильнее захотела исчезнуть из этого дома – хоть куда-нибудь, лишь бы больше здесь не быть – и испуганно вжалась в мягкую дядину грудь.
– Клементина, – тихо и твердо сказал дядя Жоль, обнимая одной рукой племянницу за плечи. – Поди почивай. Всё в порядку. Эт там жених для Грити. Скоро уж все разойдутося, вот ток зазнакомляются.
Клементина Ботно, подозрительно оглядываясь, молча пошла наверх.
________________
Смотрины невесты сопровождало неловкое молчание. Маргарита стояла с высоко поднятой головой, зная, что тетка подглядывает в окно второго этажа из коридорчика между спальнями. В то же время девушка едва не теряла сознание, потому что в Раоле Роннаке она узнала очевидца своего многогранного позора. «Черноусый» не догадался, кто перед ним, но он так таращился на «невесту», что она ждала вот-вот услышать похабные стишки Блаженного.







