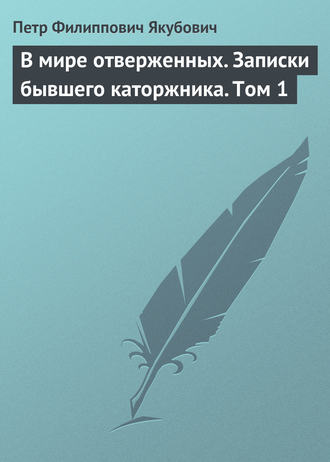
Петр Филиппович Якубович
В мире отверженных. Записки бывшего каторжника. Том 1
V. На дне шахты
С горы вернулись в половине третьего. У ворот нас опять обыскали так же тщательно, как и утром, пересчитали и только затем впустили в тюрьму. Пришлось есть подогретый обед. Парашник Яшка Тарбаган сообщил мне немедленно тюремные новости. Зимовье действительно строят для вольной команды, скоро выпускать будут. В тюрьму заглядывал Шестиглазый и обходил все камеры. Объявил старостам и парашникам, что каждый понедельник и пятницу они обязаны мыть полы в камерах и отхожих местах, а коридорщики – в коридорах.
– Наш Гандорин чуть не помер со страху!
– Что такое?
– У него нары не подняты были. Как только вы ушли на работу, надзиратель вскричал, чтобы старосты нары подымали, а наш старик не слыхал.
– Да я, – задребезжал жалобно Гандорин, – на куфне картошку чистил. А ты тоже неладно, Яша, сделал: коли уж сам не хотел за старика потрудиться, так должен был сказать мне… А то, вишь, в какую беду чуть было не вверзил!
– Ха-ха-ха! Так вас, старичков благословенных, и надо. Говорить, вишь, ему… Мне какая надобность? Мне сам начальник сказал: "твое, говорит, дело- свой стакан в исправности соблюдать, прочее все старосты касается".
– Что же случилось с Гандориным?
– Спросите его самого.
Но старик молчал и только вздыхал тяжело.
– В келью под елью чуть было не посадил Шестиглазый! Богу молиться… Оно бы и под стать ему, – продолжал Тарбаган. – Как раскричится на него: "Эт-то что? Ослушание, непокорство? В наручни, на цепь! На хлеб, на воду!" Смотрю я: у нашего Гандорина и коленки трясутся, и губы побелели… Бух в ноги!
– Небось бухнешь! Погоди – и сам еще бухнешь! Ведь я третий год в каторге-то, а ни разу еще в карец не попал. Неохота тоже безвинно-то страдать. Вот что!
Чтобы переменить разговор, я спросил, до какого часу должны работать негорные рабочие, и узнал, что в одиннадцать утра они обедали, после того два часа отдыхали и опять по звонку ушли на работу; что урока им не дали, и потому пришлось работать от звонка до звонка, то есть до пяти часов вечера. После этого, следуя благому примеру Семенова и Гончарова, я лег отдохнуть от трудов праведных.
– Слава богу! Один каторжный день прожит.
С первых чисел октября, так как день стал короче, число рабочих часов, согласно тюремным правилам, было уменьшено: будить стали часом позднее и на работу выгонять не в шесть уже, а в семь утра. Позже, в ноябре, уменьшили еще на один час: негорные работы стали заканчиваться в четыре часа, а вечернюю поверку начали делать в пять. Зато и послеобеденный отдых сократили наполовину. Всю первую половину октября стояла ясная, солнечная осень; снегу не было, но по утрам стояли изрядные морозцы. Печи стали топить только с первого октября, и то сначала довольно скупо и редко; поэтому в камерах было сыро и холодно. Хотя обещанные казенные матрацы, набитые соломой, и выдали, но покрываться приходилось тем же грязным халатом, который надевался во время работ. Никаких одеял и простынь не полагалось; иметь собственные постельные принадлежности, ради соблюдения казарменного единообразия во всем, даже в мелочах, было запрещено. Хорошо еще, если у вас был новый, недавно выданный халат, но за два года, которые полагалось носить его, он так обыкновенно изнашивался, так истирался о камни шахты и штольни, что сквозил буквально как решето и в качестве одеяла служил самой ненадежной защитой от ночного холода; многие арестанты покрывались поэтому еще куртками и даже штанами; некоторые спали и совсем не раздеваясь… Вообще осенью и весною, а иногда и в ненастное летнее время, когда тюрьма не отапливалась, приходилось порою ужасно страдать по ночам, от холода и часто простужаться. Зимой, когда в распоряжении арестантов имелись шубы, было гораздо лучше.
Не меньше двух недель ходил я на "шарманку" в верхнюю шахту, к которой был окончательно прикомандирован, но вода в ней все не убывала. Наконец Петр Петрович сообразил, в чем дело, и начал стращать нас тем, что станет отсылать с записками к Шестиглазому. Несколько раз, кроме того, он имел терпенье просидеть с нами несколько часов, лично наблюдая за ходом работы и ведя счет кибелям. В течение каких-нибудь четырех часов непрерывного труда мы выкачали пятьсот кибелей, и уровень воды в шахте сразу заметно понизился. Уличенные в наглом обмане, Ракитин, Семенов и другие ни мало не сконфузились, но работать стали с тех пор усерднее; слово "записка" имело магически устрашающее действие… А кроме того, Петр Петрович закинул удочку, будто уставщик собирался назначить "почтеление". Это тоже было волшебно действующее словцо. Меньше чем в неделю в верхней шахте выкачали воду до глубины пяти сажен. Дальше пошел сплошной лед.
Решили сойти на дно осмотреть шахту. Семенов и Ракитин один за другим спустились прямо по канату, охватив его руками и ногами и сделав это так быстро, что я едва успел опомниться… Первый надел по крайней мере рукавицы, а ветреный Ракитин и их даже не взял. Не дождавшись, пока Семенов достигнет дна, он голыми руками схватился за канат и, присвистывая и горланя какую-то песню, стрелой спустился вниз, так что сел товарищу прямо на шею. Слышно было, как Семенов заругался и обозвал его чертом… Я выразил опасение, не обжег ли себе Ракитин рук о канат, но ему ровно ничего не сделалось. На дне шахты он уже пел, плясал 'и паясничал. Остальные арестанты, а за ними Петр Петрович и я, полезли через так называемую "западню", деревянную крышку, приделанную в одном из боков шахты; с фонарем в руках мы стали спускаться по темной лестнице. Осторожность была нелишней, так как недавно еще шахта была доверху наполнена водой, и ступеньки лестницы, обледенелые и мокрые, скользили под ногами. Отвесная стена из толстого тесу отделяла эту часть шахты, похожую на ящик, от остальной для защиты лестниц и нарядчика от динамитных взрывов, как объяснил мне Петр Петрович.
– Только ненадежная это защита, – прибавил он, – все ведь на живую руку сколочено. Сколько раз случается, что и доски все эти к черту полетят и лестницы! Я стараюсь всегда вон из шахты выбежать, когда запалю патроны.
– Плохая же ваша должность; а велико жалованье?
– Каторжное! Двадцать рублей в месяц… Хуже всего эти шахты проклятые, где по лестницам надо лазить. В штольне куда способнее: отбежишь сажен десять, спрячешься за уступ или за стойку и стоишь себе как у Христа за пазухой.
Лестница в двенадцать ступенек кончилась, и мы очутились на деревянной площадке. Я удивился было, что уже конец спуску, но оказалось, таких лестниц с площадками впереди было еще четыре. Пятая, которую звали "пасынком" (простое бревно с насечками), находилась еще подо льдом. В шахте было сыро, холодно и темно для непривычного глаза; только вонь оказалась меньшей, чем я ожидал поначалу: гнилая вода была выкачана, а лед за первым грязным слоем, уже пробитым кайлами Семенова и Ракитина, был белый и чистый, как сахар. Я поглядел наверх. Широкий колодец шахты благодаря прикрывавшему его снаружи паку давал мало света; бревна были сплошь замочены водой, и над самыми нашими головами по углам шахты висели огромные ледяные сосульки, которые, упав, могли бы, пожалуй, убить насмерть… "Так вот она, шахта-то, какая!" – невольно подумал я, вздрагивая от холода и с тайной боязнью помышляя о том, что в этом погребе придется сидеть по пять-шесть чатов в день.
– Когда начали работать эту шахту? – продолжал я расспрашивать нарядчика.
– Тридцать лет назад. В три года выработали тогда девять сажен.
– И сруб этот и лестницы тогда же деланы?
– Зачем! Это все заново прошлым и позапрошлым летом сделано, когда рудник к открытию готовили. Вольная команда зерентуйская и алгачинская старалась.
– Значит, и вода, которую мы качали…
:– Недавно набежала. Осенью дожди сильные были.
Мы принялись долбить лед. Надолбив достаточное количество стали поднимать его, как и воду, в кибелях и выносить на носилках в канаву. Больше недели продолжался этот подъем льда. Местами вместо льда опять встречались прослойки воды, где попадались гнилые останки зайцев, крыс и бурундуков. Тогда приходилось затыкать нос от нестерпимого смрада… Наконец достигли на девятой сажени каменного дна шахты.
– Будет вам лодырничать! – сказал в одно прекрасное утро Петр Петрович, встречая нас в светлице. – Принимайтесь-ка теперь за буренку.
Это было уже в последних числах октября; выпал глубокий снег и установилась настоящая зима; морозы достигли уже 20®. Старик сторож вынул из баула около сотни круглых железных брусьев различных размеров (от четырех до шестнадцати вершков длины) и велел арестантам разобрать по тридцати штук на каждую шахту.
– Это что же такое? – любопытствовал я.
– А чем же бурить-то будешь? Это и есть буры.
Я поднял один из брусьев и увидал на конце лезвие, наподобие долота, с закругленными боками. Каждой шахте дали также по шести молотков и по три "чистки" – тонкие и длинные железные прутья с загнутой лопаточкой на конце: что именно будут чистить ими, оставалось для меня непонятным. Наконец, старик дал нам еще по тонкой сальной свечке на человека, каждая длиною в четыре вершка. По поводу этих свечек вышел с ним спор.
– Чего жалеешь, старый хрыч, казенного добра?
– Да, жалеешь! Меня самого на учете небось держат.
– По две свечки на брата полагается.
– Это ежели в разных местах робят, а вы все ведь в одной кучке… Велика ли шахта-то? Я знаю, сам робливал…
– Ишь, аспид старый! Я, говорит, тоже каторжный был… Да тебя задавить мало за то, что против своего же брата идешь!
– Да вы какие ж каторжные? Вот в наше время посмотрели бы, ребятушки, как бурили-то… Одну экую свечечку на двух человек давали, а урок чтобы полный сдаден был. Впотьмах, бывало, лупишь, все руки в кровь побьешь, а выбуришь! Потому, ежели урока не сдашь, тут же тебе, на отвале, и спину вспишут! А вы с нарядчиком-то теперь ровно со своим братом говорите и шапки не ломаете.
– Эвона, братцы, куда пошел! Ах ты, бесстыжие шары твои, дух проклятущий! Еще старик прозываешься… Да в старину-то что б сделала с тобой кобылка за такие подобные твои речи?
– А что? Я чего же такого… Я знаю, что с моих слов ничего худого не станется, вот и говорю… А то мне какое до вас дело? Хоть вы того лучше живете. Нате вот еще по одной свечке на шахту. При Разгильдееве пожили б!..
– Чего ты нас своим Разгильдеевым стращаешь? Пуганые вы все вороны были – вот он и казался вам страшным. А нонешняя кобылка живо б спесь-то ему сбила. Много бы не почирикал. Мы нынче ихнему брату не подражаем.
– Вишь какой храбрый выискался! Ну да не на того напал бы. Посмотрел бы ты, как он по Каре проезжал. Нас больше тыщи человек согнато было. Как, помню, гаркнет: "Запорю!" Так вся тыща и замерла. Как зачал поливать, братцы мои, как зачал поливать…
Сто человек подряд перепорол до полусмерти – и ускакал.
– За что ж это он, дедушка?
– Ну да вот показалось, вишь ты, что мало сробили… Бывало, два воза березовых прутьев так и лежат всегда возле работы.
– И неужели ж не находилось человека, который бы за себя постоял?
– Как не находилось, паря! Один татарин был, здоровенный такой татарин, Магометом Байдауловым звали. "Ну, говорит, братцы, я порешу Разгильдеева, на первый же раз, как увижу, порешу". Смотрим мы: ровно не пьяный, а глаза кровью налиты и из лица весь переменился. А раньше того смиренный был парень. Видим, твердо человек решился. А тут кобылка еще подзуживать: "Куды тебе, мол, увальню! И рука-то у тебя дрогнет, и гайка заслабит". – "Нет, не заслабит, говорит, – убью". Ну ладно. Вот работаем мы опять дня этак через два. Глядим – едет полковник, и прямехонько в нашу сторону. Байдаулка рядом со мной стоит. Надзиратель во все горло орет: "Шапки долой! Смирно!" Все шапки скидают, инструмент на землю бросают. Смотрю: Байдаулка в шапке, бледный весь и кайлу в руках держит… Я ни жив ни мертв, трясусь, не знаю, что будет. Соскакивает тут Разгильдеев с копя и прямим манером к оному подлетает: "Мерзавец!" Крепким таким словом загибает его… "Это что тебе в башку дурью влезло?" Лясь его в одно ухо! Лясь в другое! И что тут вышло промеж них, я и до сих пор не пойму. Вижу только: Байдаулка на земле валяется, а Разгильдеев ногами его топчет… "Убрать его, негодяя, на край света!" Вскочил на коня – и был таков. Байдаулку того же часу и увезли. Так никто и не узнал, что с ним сделали.
– Как же это он оплошал? Струсил?
– Не струсил, а так… Рокового, значит, своего не нашел еще Разгильдеев.
– Какого рокового? Человека… человека такого.
– Да ведь его и после не убили?
– Не убили – это верно, а только кончил он хуже, чем убивством.
– Как так?
– Сам государь услыхал об его злодействах, отрешил ото всех чинов и должностей и приказал явиться к себе в Питер. Только он не доехал – подох!.. Заживо сгнил – черви съели… А опосля того вскоре и нам, крестьянам, воля пришла.[30]
– Пора бы и всему вашему разгильдеевскому семени подохнуть! – решил Семенов, вдруг почему-то со злобой взглянув на старика. – Чужой только век заедаете! Самим было плохо, вы и другим того же хотите.
– Полно, однако, ботать-то зря, – вступился Петр Петрович, – ступайте лучше на работу.
Ракитин подошел тогда к Петру Петровичу и со сладкой улыбочкой и заискивающими глазами спросил:
– Кого же назначите вы у нас буроносом?
– Ваше дело. Кого захотите, того и назначайте. По очереди можно для отдыха ходить…
– Вы бы их вот, Петр Петрович, назначили, – продолжал неугомонный Ракитин, указывая на меня. – Они люди к работе непривычные, люди ученые, не то что мы, туесы простокишные.[31]
– Коли хочет, пущай. Мне что!
– Вот и распрекрасно. Иван Николаевич, вступите-с в исправление вашей должности.
– Какой такой должности? – сурово спросил я, чрезвычайно недовольный тем, что мной распоряжаются без моего согласия и желания.
– Вы буроносом у нас будете-с… Буры таскать… Как только мы затупим их, вы, значит, и понесете к кузнецу подвастривать. В этом и труд ваш состоять будет. Бурить-то ведь тяжелее, Иван Николаевич, в погребу этаком сидеть! С вас-то, положим, Петр Петрович не спросит, он тоже понимает обращение… Голова, сейчас видно!.. Ну, а все-таки…
– И сколько же раз ходить мне придется взад и вперед?
– Когда как случится. Три, пять, семь разиков… а то пофартит – и ни одного, ежели буры стоять будут.
Но от одной мысли подниматься на эту высокую гору три и даже семь раз я пришел в неописанный ужас.
– Нет, нет, ни за что! – закричал я. – Лучше двадцать вершков выбурить.
– Иван Николаевич! – умоляющим голосом убеждал меня Ракитин. – Голубчик, согласитесь.
– Да вам-то что? Вам от этого легче станет, что ли?
– Не легче, а жалко мне вас, вот что…
– Вот пристало осиновое ботало! – прикрикнул на него Семенов. – Говорит тебе человек – не хочу. Ну, стало быть, и дело его.
Ракитин тотчас же замолчал и, съежившись и печально вздыхая, начал взваливать себе вязанку буров, на плечи. Мы отправились на свою шахту, решив, что буроносами будут желающие или все по очереди. Вслед за нами явился и. нарядчик.
Мы спустили в кибеле буры, молотки и чистки и затем, захватив с собой свечи, по лестницам направились сами в глубину колодца.
– Кто из вас буривал? – спросил Петр Петрович. Вес молчали.
– Ты, Ракитин, ведь, уж наверное, бурил. Где ты был раньше?
В Зерентуе, Петр Петрович, только я… раза два всего бурил, и вышло у меня за два раза, в сложности, дна вершка без четверти. Потому у меня рука была сломанная в младенчестве и с тех пор размаху правильного 'не имеет.
– Ладно, брат, ладно! Тут не размах, а сноровка нужна. А ты, Семенов, бурил?
– Нет, – отвечал угрюмо Семенов, хотя арестанты много раз рассказывали про него как про лучшего бурильщика в Покровском.
– По глазам вижу, что врешь, умеешь. Вот ты, братец, и наблюдай мне за шахтой, чтобы у всех дырки, значит, правильно шли. А то другой поведет шпур сначала в левый бок, потом в правый… Глядишь – скривил его, бур и засял,[32] ни взад, ни вперед. И труд и время даром пропали. Сегодня для первого разу хоть по шести вершков выбурите, и то хорошо будет.
– Нет, уж я, как хотите, старшим не буду, – грубо проговорил Семенов, – это тот пускай будет, у кого язык длинный или кто хвостом ударять может, – а я не умею.
– Экой же ты, паря, какой! При чем тут язык али хвост? Я вижу только, что ты малый посурьезней и посмышленей других, вот и хотел., А то ведь подумай сам: кажное утро мне экую высь залезать для того только, чтоб вам урок задать. А уж если я ходить буду, значит, и проверять буду строже: сколько вершков вчера выбили, полный ли урок сдали?.. На веру-то и вам бы оно способней было. К тому ж я бы поощрение похлопотал вам…
– Вот это бы хорошо, Петр Петрович, ей-богу, хорошо! – говорил Ракитин. – Почтеление-то всего бы лучше. А то, знаете, сухая ложка рот дерет. Ух! Как развернусь я… Как заговорит во мне ретивое!.. Честной красотой моей клянусь вам, десять вершков отхватаю сегодня же! И зол же я на этот камень, у! как зол! Где прикажете садиться, Петр Петрович?
– Вот в этом, пожалуй, углу садись, паря. – Петр Петрович постукал молоточком по граниту. – Тут, кажись, не шибко твердо. Вот так задайся, на откос. Влево немного отнеси бур, чтобы вот эту кочку сорвало. А ты, Семенов, в правом углу садись. Тоже на откос держи бур, вот этак, даже пониже чуть опусти. Немного неловко бить будет, ну да как-нибудь пристроишься. Зато сорвет здорово.
Таким же точно образом указал Петр Петрович места для бурения и еще троим арестантам.
– А вы буроносом будете? – обратился он ко мне" в первый раз за все время говоря мне "вы". Очевидно, пропаганда Ракитина об моей учености и пр. возымела свое действие… Я отвечал отрицательно, объяснив, что страдаю одышкой и сердцебиением.
– Ну, так забуритесь, пожалуй, вот тут, – постучал он в правую стену шахты. – Тут и пристроиться удобно можно и помягче будет. – И Петр Петрович направился к выходу.
– Так, значит, – крикнул он с лестницы, – с шестерых сегодня тридцать вершков я должен получить. Один за буроноса сосчитается.
Арестанты закурили перед работой трубки.
– Ох, и подрадел же он мне камушек, – пригорюнясь, заговорил Ракитин, – уж вижу, что подрадел! Тверже стали!
– Захныкала баба. Ведь сам же ты сейчас похвалялся, честной красотой своей клялся, что живой рукой десять верхов отмахаешь?
– А что же, Петя, и впрямь? Чего нам унывать с тобой, этаким молодцам, кудряшам удалым?! Эх! пропадай моя телега, все четыре колеса! Ну-с, благословясь, за дело божие примемся.
– За чертово, скажи лучше.
Все взялись за молотки и буры. Я подошел к Семенову посмотреть, что и как он будет делать. Он взял самый короткий из буров, с широким острием.
– Это забурник называется, – объяснил он мне. – Длинным буром нельзя забуриваться, потому в руке держать неспособно – вихляться будет из стороны в сторону. А главное, у середних и длинных буров перья делаются уже. Сделаешь сначала узкую дырочку – широкие буры в нее уже и не полезут. Живо засадить можно бур. В буренке самое важное – за пером следить: перво-наперво короткими бурами забуриваться; с трех-четырех вершков глубины – средних размеров буры брать, и только уж под самый конец, с восьми вершков, за самые длинные приниматься.
Сказав это, Семенов ударил молотком по головке бура. Раз, и другой, и третий… Левой рукой он придерживал бур, стараясь все время слегка поворачивать его то в ту, то в другую сторону. Через каких-нибудь две минуты я увидел, что на том месте, где он держал бур, и камне образовалось небольшое трехугольное углубление.
– Уже забурились? – вскричал я с невольной радостью.
Семенов поглядел на "перо" своего бура и с сердцем бросил его на середину шахты.
– Вот сволочь! – сказал он. – Уж успел сясть. Полсотни ударов не выдержал, – И он взял новый забурник. Я с любопытством поднял и осмотрел брошенный им бур: стальное лезвие совсем превратилось в лепешку…
– Однако и вам, Иван Николаевич, забуриваться надо, – обратился ко мне Семенов, – позвольте-ка, я покажу вам.
– Нет, сидите, Семенов, я сам хочу научиться.
– Без учителя не учатся.
И, не обращая на меня внимания, он засветил новую свечку, прилепил ее к стене около назначенного мне нарядчиком места, уселся на голом камне и, не более как в пять минут, забурился довольно глубоко. Молоток его так и щелкал по. буру, левая рука не уставала крутить – и от всей фигуры Семенова веяло силой, мужеством и энергией.
– Довольно, довольно! – кричал я. – Вы этак мне ничего не оставите.
Семенов ухмыльнулся, взял железную палочку, которую называли чисткой, и опустил ее в сделанное круглое углубление. Вынув обратно, он поднес ее к моим глазам, и я увидал на лопатке целую кучу мелкого белого порошку.
– Вот муки-то сколько набилось, – сказал он, сбрасывая порошок на землю, – да это не все еще. Смотрите, еще сколько выволоку.
И Семенов еще несколько раз погрузил чистку в шпур и каждый раз вынимал обратно полную белой муки. Потом он перевернул ее и опустил в шпур другим концом. Вынув назад, он пристально посмотрел и объявил мне, что уже больше полуторых вершков готово: оказалось, что на чистке сделаны зубилом насечки, обозначавшие вершки. Семенов встал и, подавая мне бур и молоток, проговорил:
– У вас мягко… Тут я в один час берусь двенадцать вершков выбить. Вы только бур правильнее держите, к правому боку немного прижимайте. Снимите шубу, положите ее на этот камень и садитесь.
– Без шубы, пожалуй, простудиться можно…
– Во время работы-то? Что вы! Я вон вспотел аж, скоро и бушлат снимать придется. В шубе уж не работа!
Я послушался совета и, скинув шубу, подложил ее под сиденье. Между тем молотки щелкали уже по всей шахте гулко и дружно, в такт один другому. Выходила довольно гармоничная музыка. Ударил и я… Ударил – и остановился, так как показалось неудобным сидеть и понадобилось поправить под собой шубу. Долго не клеилась у меня работа. Я все усиливался, подражая Семенову, крутить бур левой рукой в то самое время, когда правая ударяла молотком, и никак не мог согласовать вместе оба движения. В то время как правая била, левая оставалась праздной и в рассеянности следила, казалось, за своей товаркой; когда же левая начинала крутить, молоток с высоты замаха точно любовался ею и никак не хотел опуститься.
Семенов заметил мое затруднение.
– Да вы не старайтесь так уж точка в точку, – утешил он меня, – сперва хоть как-нибудь. Раза два стукните – и поверните бур… Опять стукните, опять поверните.
После этого дело пошло на лад. Тик-так! Тик-так! – постукивал мой молоток, наподобие маятника, и мысль о том, что я работаю в руднике, доставляла мне тайное удовольствие… Насчитав сотню ударов, я с замиранием сердца взял чистку, погрузил ее в шпур, повертел там и вынул в надежде, что она окажется, как у Семенова, полною муки. Но каково же было мое огорчение, когда она вынулась почти пустая! В отчаянии я стал мерить, по вышли те же самые полтора вершка, которые были уже до моего бурения, и мне показалось даже, что и до полуторых-то немного не хватает…
– Семенов! – закричал я жалобно. – Что же это такое?
– А что?
– Да вот уж сто ударов я сделал, а хоть бы капелька муки набилась!.. И не прибавилось ничего!
Все засмеялись.
– Это потому, Иван Николаевич, – объяснил Ракитин, – что вы стукаете-то, ровно будто сахар колете. А тут надо эвона как токать, чтобы грудь трешшала! Я говорил ведь вам, что буроносом было бы много способнее…
Я чувствовал себя пристыженным и, не ответив ничего, попробовал усилить удар и увеличить размах молотка. Но почти тотчас же вскрикнул от страшной боли и, вскочив с места, забегал по шахте, махая левой рукой и корчась: я промахнулся и вместо бура изо всей силы хватил молотком по запястью руки… Я рассчитывал услышать слово сочувствия, но все только смеялись надо мной.
– Что, получил крещенье шелайское? – обратился ко мне молчаливый обыкновенно толстяк Ногайцев, сам служивший предметом постоянных шуток арестантов и не иначе называемый ими, как Топтыгин или Михайло Иваныч. Это взорвало меня окончательно.
– Что тут смешного, ну что смешного? – ощетинился я. – Ведь больно…
– Ха-ха-ха! Хо-хо-хо! – закатился Ногайцев и в такое пришел восхищение, что даже по земле начал кататься, и вся его жирная, водяночная туша так и колыхалась от смеха. Один только Ракитин и на этот раз посочувствовал мне.
– Дураком родился, дураком неотесанным и помрешь! – сказал он сентенциозно Ногайцеву.
– Да! ты умный… Плакать прикажешь, не то осердишься?
– Бросьте вы, Иван Николаевич, эту буренку проклятую, ей-богу, бросьте, – продолжал Ракитин, подходя ко мне. – Вылезайте-ка лучше наверх да чаек нам согрейте. В животе-то начинают уж телеги ездить… Право!.. У меня вот тоже скверное дело выходит. Все рученьки оббил, а и на вершок еще не подался!
Но я решил продолжать бурить. Не один раз ударил я себя в этот день по руке (хорошо еще, что рукавица защищала), но все-таки успел выбурить около двух вершков сверх полуторых, выбуренных Семеновым. Раньше всех отбурился сам Семенов, а вслед за ним Ногайцев. Последний подошел после этого ко мне и долго молча смотрел на мою работу. Он видел, что у меня уж и рука начинает неметь и удар становится все легковеснее и неправильнее.
– Дай-кось я побурю, – сказал он наконец грубовато, отстраняя меня прочь, но сказал это так просто и задушевно, что отказаться от предложенной услуги было невозможно. Тут только увидал я. всю разницу между его и своим ударом, мой был слабее по крайней мере вчетверо… Я насчитал, что Ногайцев без передышки, ни на минуту не останавливаясь, опустил молоток триста раз, да и тогда остановился потому только, что набилось слишком много муки и необходимо было чистить. В полчаса он выбурил мне четыре вершка.
– Ну и мякоть же у тебя, Миколаич, – сказал он; вставая, – кабы ты ушел, я бы тут с водицей живой рукой до двенадцати вершков догнал.
– Как с водицей? Разве легче с водой?
– Куда ж сравнить! Тогда грязь-то целыми возами выволакиваешь. Особливо, коли горячая вода. Не ко всякой только породе она идет: в твердой – что с водой, что без воды – одинаково бурится.
– А где же бы достать воды? Разве сверху принести?
– Уж мы бы достали, здесь бы достали… Тепленькой!
– Ну достаньте, я погляжу.
– Хо-хо-хо! При тебе нельзя…
– Это у нас секрет такой арестантский, – подтвердил Ракитин, хитро улыбаясь, – ушли бы вы, Иван Николаевич, а то забрызгаться можете.
Вдруг с той стороны, где бурил рыжий неприветливый арестант Кошкин, я услыхал чавканье воды в шпуре и, обернувшись, почувствовал залепленным грязью все лицо. Моментально я сообразил, откуда взялась эта вода…
– Нот мерзость! Вот безобразие! – закричал я, обтираясь и поспешно бросаясь к выходу из шахты.
– Хо-хо-хо! Ха-ха-ха! – залились вслед за мной Ногайцев и Кошкин.
Так познакомился я с тайнами бурильного искусства.
Зато всю ночь ломило у меня правую руку и чувствовалось в ней жжение. А проснувшись на другой день утром, я не мог ни сжать, ни разжать кулак. Арестанты в утешение мне говорили, впрочем, что всегда так бывает с непривычки, но что потом рука разомнется. Однако, выбурив во второй день три вершка, я почувствовал, что завтра совсем уже буду не в состоянии работать.
– Знаете что, Иван Николаевич, – шепнул мне Ракитин, – ударимте-ка мы с вами сегодня хвостом к фершалу! Всем этак плесом ударим; так и. так, мол, господин фершал, оставьте нас отдохнуть на денек или на два.
– Ага! – сказал Семенов. – И у тебя заслабила гайка-то? Два дня побурил, да уж и хвостом бить собираешься?
– Да что же, Петя, поделаешь! Сложения я, сам видишь, нежного….На роду мне написано было песенки попевать да разве торговым делом займоваться… А тут вдруг экая притча приключилася… Да пропадай она и каторга вся! Что я за дурак – из жил тянуться?
– Не дурак ты, а ботало осиновое! Все ботаешь, все ботаешь по-пустому! – Ракитин умолк и через минуту запел высоким, сладеньким тенором:
Скажи, моя красавица,
Как с другом ты прощалася?
Прощалась я с ним весело:
Он плакал – я смеялася…
А он ко мне, бедняжечка,
Склонил на грудь головушку:
Склонил свою головушку
На правую сторонушку,
На правую, на левую,
На грудь мою на белую…
И долго так лежал, молчал,
Смочил платок горючих слез…
А я, его неверная,
Слезам его не верила![33]
Зараженные примером Ракитина, все встрепенулись и хором запели другую приисковую песню:
На заре было, на зореньке,
На заре было на утренней —
Я коровушек, девица, доила,
Сквозь платочек молоко я цедила,
Процедивши, душу Ваню поила,
Напоивши, приговаривала:
Не женися, душа Ванюшка!
Если женишься, переменишься,
Потеряешь свою молодость
Промеж девушек-сиротушек,
Промеж вдовушек-молодушек…
– Гой, дубрава-мать, зеленая моя!
По тебе ли я гуляла, молода;
Я гуляла, не нагуливалась…
Жутко было слушать эти меланхолические напевы на дне каменного гроба. Все большая и большая ненависть к шахте охватывала с каждым днем мою душу… Начинались сильные морозы. Ударишь несколько раз молотком – и чувствуешь, что пальцы совсем закоченели от холода. Оглянешься кругом, чтоб не заметили и не посмеялись арестанты, и погреешь их над свечкой. Ноги также ужасно зябли, как ни закутывал я их шубой. Чем короче знакомился я с шахтой и ее тайнами, тем одушевленнее становился для меня этот гранитный мешок. Казалось, он с бессердечной насмешливостью глядел на всех нас и, вея ледяным дыханием, говорил: "Ага! попались, голубчики? Уж много вас, таких же, похоронил я здесь".
И как будто слыша этот гробовой голос, я с дрожью оглядывался вокруг. Во мраке тускло горели сальные свечи; там и сям, бросая от себя черные тени, сидели, скорчившись, арестанты и дули со всего плеча молотками. Некоторые издавали при этом звуки, подобные стонам или тяжелым вздохам, другие – рычанью дикого зверя.
– Ах! Ах! – выкрикивал толстяк Ногайцев при каждом ударе.
– Гу! Гу! – гневно выговаривал Семенов.
В тусклом освещении я плохо различал их лица и фигуры, и мне чудилось порой, что то не живые люди, а какие-то подземные гномы работают здесь, рядом со мною. Я взглядывал вверх, в надежде уловить там хоть один солнечный луч, который сказал бы мне слово утешения, уверил бы, что я не совсем еще мертвый человек, что придет время – и я опять буду жив, и волен, и счастлив. Но безжалостный колпак закрывал светлое солнце, и в отверстие шахты проходил лишь тусклый, скупой отблеск зимнего дня. Я видел там только два конца каната, спускавшиеся с вала, и две болтавшиеся над нашими головами бадьи, черневшие в вышине подобно двум висельникам. Неприглядно, темно и холодно… И больно, и сиротливо на сердце, и так самого себя жалко…
– Чего задумались, ребяты?! – вдруг вскрикивал неистово-радостно Ракитин, выходя из своей меланхолии и пускаясь по шахте в пляс.







