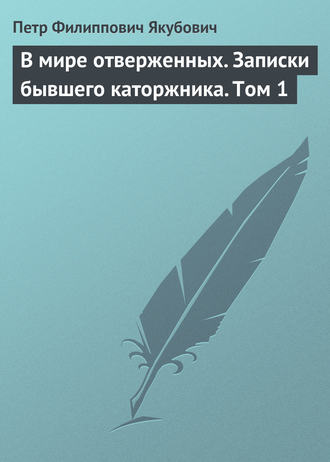
Петр Филиппович Якубович
В мире отверженных. Записки бывшего каторжника. Том 1
– Что ж вы сделали? В полицию представили?
– Знакомого-то? Что вы, Иван Николаевич! Я благородно поступил. Отвезли мы ее за кирпичные сараи и спустили там в помойную яму…:
– Хорошо благородство! Это уж третья душа, значит, на вашей совести?
– Что вы, Иван Николаевич! Да я-то при чем же тут? Мое дело совсем тут постороннее было.
– А много крови натекло к тебе в пролетку-то? – полюбопытствовал зачем-то Чирок.
– Ни одной капли. Только ключ в крове был.
– Ну вот и врешь, путаешь. Коли ключ в крове был, обвязательно вся пролетка была залита кровью.
Начался по этому поводу спор в камере. Эксперты по этой части были все опытные… Большинство поддерживало Чирка; но Луньков упорно стоял на своем, утверждая, что девушка была закутана шалью и кровь из-под шали не вышла наружу. С трудом убедил я спорщиков прекратить этот нелюбопытный для меня спор и вернуться к рассказу.
"Баловство" Лунькова все шло дальше и дальше: отец начал и его учить, как брата, и в один прекрасный день семнадцатилетним мальчишкой он бежал из родительского дома и попал в шайку некоего "Степана Ивановичa", знаменитого воронежского жулика, от которого Луньков и до сих пор был в восторге. Степан Иванович занимался главным образом "по духовной части". В первую же ночь, в которую Лунькова посвятили эту в часть, ему пришлось быть свидетелем убийства. Когда отпирали у церкви замок, одному из товарищей защемили в дверях руку, и он заорал не своим голосом; тогда Степан Иванович угомонил его навеки ломом по голове, а труп стащили в речку. Несколько дней спустя та же шайка совершила грабеж с убийством, догнав за городом двух проезжих купцов. Луньков был при этом кучером, а Степан Иванович с неким Федром и еще третьим товарищем стреляли из револьверов, и на этом основании Луньков отрицал свою виновность в этом убийстве:
– Что вы, Иван Николаевич, помилуйте! Какое же было мое преступление? Я не стрелял, кушаками я не давил… Я только лошадьми правил… Не донес я, конечно, это правда; так ведь это, по-нашему, не вина, а заслуга.
Когда Луньков говорил подобные вещи своим тоненьким певучим голоском серьезно и даже печально, то нельзя было решить, своего ли это рода наивность и легкомыслие или же верх развращенности и лицемерия.
Отобранный у одного из убитых паспорт Степан Иванович дал Лунькову, и по этому-то виду он и судился впоследствии. А настоящая его фамилия была будто не Луньков, а другая.
Утомительно было бы пересказывать все жульнические похождения, в которых Луньков участвовал в течении пяти месяцев своей свободной жизни. Своеобразный мир, своеобразные идеалы и понятия о чести и товариществе. В одном селе под Ельцом какая-то женщина "подвела" их шайку, состоявшую из Степана Ивановича, Федора и самого Лунькова, под богатого мужика, на которого имела зуб, сообщив им, что в одном из трех амбарчиков около его дома стоит сундучок с деньгами. Они действительно нашли в указанном месте три тысячи рублей и в одну ночь "отжарили" оттуда босиком сорок пять верст. Остановились у развалин какого-то погреба, за городом. Луньков с Федором остались отдыхать, а Степан Иванович отправился в город за покупками. Через некоторое время он вернулся пьяный с четырьмя новыми товарищами, из которых один был заведомый шпион. Все семеро отправились в притон разврата и там в несколько дней прокутили две тысячи. Затем начали думать, как бы отвязаться от шпиона. Хотели даже "пришить" его, но предпочли дать денег и отослать с какими-то поручениями. Шпион на время скрылся. Тогда хозяйка притона указала на церковь, в которой можно было поживиться. Ночью, посетили церковь, но в расчетах ошиблись, добыв всего сорок рублей денег и вещей на сотню. В то же утро нагрянула полиция. У Федора нашли при обыске церковный "воздух"{37} в кармане… Началась проверка документов. У всех оказались подлинные; только в документе Лунькова откопали четыре прежних подсудности, о которых он и не знал даже. Благодаря этим-то чужим грехам он и пошел будто бы на поселение, тогда как товарищи его отделались простой высидкой.
– А за что же ты, землячок, годом раньше сидел в тюрьме? – спросил вдруг Сокольцев, все время о чем-то думавший.
– Когда раньше? – вспыхнул Луньков.
– Да тогда. Ведь в это-то время, про которое ты сказываешь, меня уж не было в Воронеже. Я опять в каторгу шел.
– Как так? Ну, значит… ты и не видал меня в Воронежской тюрьме, обознался. Я раньше не сидел.
– Как не сидел! Еще отпираться станешь! Не обознался я. Да и ты же первый узнал меня?
– Го-го-го! Попался, голубчик! – закричала камера, радуясь тому, что Лунькова наконец уличили.
– Положим, я точно… сидел одно время… месяца с полтора… так это за пустяки, – завертелся Луньков.
– Ну, однако.
– Говори, болван! – зарычал Сохатый.
– Сказывай, землячок, сказывай. Сам же хвалился, что коли врать, так лучше и совсем ничего не говорить.
– Это я по делу брата сидел… То есть нет – по делу Карла Ивановича.
– Да ведь Карл Иванович за почту обвинялся, а брат твой за попа. Я хорошо ведь знаю.
– Да… тут… Только Карл Иванович оправдан был в этом деле.
Наконец общими усилиями Сокольцева, Чирка, Петина и моими Лунькова так приперли к стене, что он рассказал нам следующее. Он у отца еще жил, когда совершено было дерзкое покушение на грабеж почты с сорока пятью тысячами денег: два почтальона были убиты на месте, а ямщик успел скрыться с почтой. Подозрение пало на арестованных вскоре по другим делам "Карла Ивановича" и брата Лунькова с шайкой. Два года просидел под арестом и младший Луньков, наш знакомец. Ямщик показывал, что "маленький" сидел во время нападения и кричал: "Не вяжите их, бейте насмерть!" Прокуратура подозревала, что этот "маленький" – младший Луньков. Но во время следствия он держал себя как невинный ребенок; кроме того, товарищ прокурора сделал, по словам рассказчика, крупнейшую ошибку, назвав ямщику по фамилиям тех, кого подозревал в убийстве. Благодаря будто бы этому все обвинение рушилось, и дело было прекращено. Рассказывая это, Луньков не думал, однако, сознаваться, что "маленький" он сам, хотя Чирок и говорил прямо:
– Да, вестимо, он! Он, гад!
– Вы дурно жили, – сказал я однажды Лунькову.
– Чем же дурно, Иван Николаевич? – возразил он. – Вот, если бы я голодным ходил, оборванным, под окнами просил, тогда можно бы сказать: дурно! А то я жил слава богу!
Меня возмутило такое циничное оправдание.
– Еще и бога поминаете!
– Он простит, Иван Николаевич. В писании сказано ведь – вот я недавно читал: "Ежели бог захочет, ни один волос не упадет с головы человечецкой". Мне жестоко врезались эти слова в память. Какой же, следовательно, грех, что я убил? Значит, так господь хотел. Вы не серчайте на меня, Иван Николаевич. Я вижу, что вы серчаете. Что же! Я правду вам говорю… А другие лицемерят перед вами, скрывают, что они такое есть, и вы любите таких двуликих… А вот я об одном тужу, Иван Николаевич. Как жил я в Сибири перед убивством, мне одна бабочка предлог делала: "Увези меня, Коля! Возьмем у мужа пятьсот рублей и уедем". Увез бы я ее до Перми, сдал бы кому-нибудь с рук на руки и поехал бы себе дальше… Вот об этом я действительно тужу немного.
– А что бы вы стали делать, Луньков, если бы на волю вышли? Вернулись бы домой?
– Конечно, вернулся бы. У меня ведь чистое место. Прямо на свое родное имя мог бы заявиться.
– К отцу?
– Нет, раньше бы я… В Ельце к одному… в гости бы зашел.
– В хорошие, должно быть, гости!
– Да как же, Иван Николаевич! Совестно было бы к отцу без денег прийти, с пустыми руками. Где, скажет, шлялся столько лет? Нищим вернулся? Я теперь корми тебя!
Маленький резонер, нисколько не таясь, даже кичась еще своей откровенностью, говорил мне прямо, что за сто, за двести целковых не поколебался бы убить человека.
– А если б Миколаич пошел с тобой бродяжить, – спросил его однажды Чирок, – пришил бы ты его?
– Нет, зачем же! Подошел бы я к Ивану Николаевичу по вольной жизни, попросил бы у них деньжонок, они и так бы не отказали.
– Ну, а коли отказал бы?
– Конечно, не зарекаюсь… А только ежели они обучат меня грамоте, тогда за что же убивать?
Я смеялся вместе со всеми, слушая эти речи, но в душе ужасался и не знал, что думать об этом странном субъекте, почти еще мальчике и уж так бесконечно, так безнадежно испорченном и погибшем. Единственное, что в нем привлекало меня, это – неустрашимость, с которою он, маленький и слабый, воевал с тюремными геркулесами-иванами, режа им в глаза матку-правду. Если верить словам Лунькова, то в бытность на воле он страшно идеализировал арестантов.
– Я думал, Иван Николаевич, что коли религия у них одна, так и душа должна быть одна, что они твердо стоят друг за дружку в несчастии.
– То есть какая такая религия? Такая, что все ведь мошенники, по одному делу суждены… А на деле я увидал, что все они твари дешевые. Сегодня ты напоил его чаем – и ты первый у него друг; а завтра не напоил – и он тебя на чем свет клянет! Самый, Иван Николаевич, дешевый и продажный народ. Все их законы и уставы гроша медного не стоят. И решил я с этих пор не уважать им, во всем наперекор идти. Никакой жалости не имею к этим тварям бездушным. К тому только хорош я, кто ко мне хорош; того только пожалею, кто меня пожалеет. И не того боюсь я, Иван Николаевич, что с сердцем своим от начальства погибну, а того, что своему же брату когда-нибудь кишки выпущу или сам от его руки пропаду. Знаю, что и меня тоже ненавидят глоты и храпы эти разные; да я не боюсь их. Пущай убьют – не погонюсь за жизнью. Может, даже рад буду, коли меня кто насмерть полыснет. Пущай! Во зле пропадать не страшно… Вот от суда петлю заслужить – этого я не желал бы… Неохота с белым светом расставаться! Кабы петли-то я не боялся, разве стал бы терпеть? Давно б уж одного, а не то и двоих пришил.
– Значит, очень вам жить хочется, Луньков?
– Конечно, охота, Иван Николаевич. Много ль я и света-то еще божьего видел? Ну, а все же, если б знать наверное, что года через два мне помереть богом назначено, не стал бы тогда ждать… Не подорожил бы этими двумя годами… Такое б дельце одно сделал, что лет пятьдесят, а то и сто, пожалуй, помнили б меня! Имя бы громкое приобрел!
– Что ж бы вы такое сделали?
– Не стоит зря говорить, Иван Николаевич, Одно только скажу вам: не на той половине мое дело было бы (Луньков кивнул головой на дверную форточку), а на на этой, здесь вот (он загадочно постучал пальцем по столу). Потому ту половину я не так виню. Там я даже никакого зла не имею, а вот здесь… Здесь я больше вины нахожу!
Никогда не хотел Луньков объяснить мне всех причин ненависти к арестантской массе; я мог только догадываться по некоторым намекам, что в числе многих других обид он не мог забыть и простить несправедливого обвинения его кем-то из тюремных главарей в одном низком пороке, кладущем в глазах арестантов неизгладимое клеймо позора на каждого, уличенного нем. На свое несчастье, Луньков, как я говорил уже имел моложавое, женственно-смазливое личико, и обвинение это имело правдоподобность в глазах развращен ной шпанки. К жертвам этого омерзительного порока каторга не знает вообще ни пощады, ни сострадания и, напротив, к тем из своей братии, которые пользуются их слабостью, относится не только с снисходительностью но даже с уважением.
– В тюрьме я должен терпеть, Иван Николаевич, – говорил Луньков, – постараюсь все стерпеть; но когда вырвусь на волю – двоих, а не то и троих беспременно уговорю! Вот честное мое слово, уговорю! И даже нацежу сначала из него чашку крови и выпью, а потом уже прикончу стервину!
К отдельным лицам из тех же арестантов Луньков относился не только без злобы, но даже с какой-то сентиментальной нежностью. Несколько человек, стоявших, подобно ему, в стороне от общей тюремной жизни, особенно один больной старичок земляк, были даже закадычными его приятелями. Долгое время чрезвычайно странным и непонятным казалось мне: как мог Луньков при подобной вражде к тюремным законам и обычаям брать на себя роль самоотверженной сестры милосердия по отношению ко всем, сидящим в карцере? Никто с большей смелостью и неутомимостью не следил за тем, чтобы они решительно ни в чем не нуждались, и никто с большей ловкостью не передавал им все, что нужно, при самых зорких и хитрых надзирателях. Яшка Тарбаган лез, бывало, наудалую, а Луньков делал свое дело артистически, точно сам любуясь и играя своим искусством… Вскоре я заметил, впрочем, что и к этой деятельности его поощряло отчасти чувство той же ненависти и того же презрения к арестантским мнениям и решениям. Он заботился решительно обо всех, кого только садили в карцер, не делая никакого различия между теми, кого артель любила и кого ненавидела. Так, однажды посажен был в карцер вольнокомандец, которого все называли шпионом и которому решено было ничего не подавать. Луньков демонстративно ухаживал за ним даже больше и усерднее чем когда-либо и за кем-либо.
– Потому, Иван Николаевич, я это делаю, – объяснил он мне свое поведение, – что ничего не знаю: правильно или ложно говорит об нем кобылка. Для меня они все равны. Много я насмотрелся в тюрьмах, как совершенно безвинных людей бог знает в чем обвиняли и убивали даже! Его начальство наказывает; зачем же еще и я, такой же, как он, несчастный, стану его мучить? При всех противоречиях и путанице мыслей, которые поражали в рассуждениях и взглядах Лунькова, в нем таилось зерно как будто чего-то хорошего, честного, самостоятельного, зерно, быть может, едва заметное под той скорлупою испорченности и невежества, но припавшее ему все-таки симпатичный облик, делавшее его отрадным исключением среди действительно дешевой и безнадежно развращенной шпанки. Большинство арестантов страшно ненавидело и бранило Шелайский рудник; Луньков, напротив, был один из немногих, которые хвалили его. Он выражал довольство именно тем, чем Петины, Сокольцевы и Семеновы возмущались: тем, что в этом руднике было строго, что каждый член артели имел равный со всеми голос и потому воровства общего имущества не происходило и пища была лучше, чем в других тюрьмах. Карт он также не любил и предпочитал им книжку.
Таков был второй из моих любимых учеников. Пошло ли ему впрок ученье? И чем он кончит? Ставлю знаки вопроса, на которые сам я не в силах дать определенный ответ.
V. Сахалинские треволнения
С приближением весны пошли по каторжным тюрьмам темные слухи о предстоящей выборке на остров Сахалин. Арестанты глухо волновались. Одни страшились, как смертной казни, одного имени этого ужасного острова; для других, напротив, оно являлось символом тайной надежды на воскресение… Говорили, будто высылке на этот раз подлежали все бродяги, не помнящие родства, все судившиеся во второй раз, все бегавшие с каторги, наконец, все провинившиеся в чем-нибудь в тюрьме. Категории эти обнимали огромную часть тюремного населения, и понятно, что все с трепетом ожидали решения своей участи, О том, что такое, собственно, Сахалин, этот знаменитый Соколиный остров, – никто положительностью ничего не знал. Одни утверждали, что это – живой гроб, из которого нет возврата назад, о каторжных работах в каменноугольных копях, где приходится ползать на коленях по горло в воде, передавались ужасы… Другие, наоборот, смеялись над подобными страхами, рисуя Сахалин чем-то вроде земного Эльдорадо:{38} там, по их словам, самых долгосрочных немедленно отпускали на волю, на все четыре стороны, казенных работ почти не было; арестантам давались орудия труда, скот и даже деньги на обзаведение хозяйством; этого мало: каждому предоставлялось выбрать качестве жены любую из выстроенного шеренгой десяток каторжанок… Для тех же, кому и всех этих благ кaзaлось мало, всегда будто бы была возможность побега! Назывались в подтверждение десятки фамилий зерентуйских, алгачинских и карийских арестантов, бегавших якобы с Сахалина и очень его одобрявших. Никто не знал в конце концов, кому и чему верить. Малосрочные каторжане, а также забайкальские уроженцы, мечтавшие вернуться по окончании срока на родину, само собой разумеется, больше всех трусили Сахалина, впадая в уныние при каждом возобновлении слухов о скорой выборке. Безнадежно долгосрочные, напротив, мечтали попасть в список высылаемых: они готовы были отправиться хотя бы даже за Сахалин, на самый край света, лишь бы только вырваться из стен Шелайской тюрьмы, которая большинству из них казалась хуже самой смерти. "Переменить участь", переменить ценою чего бы то ни было и каким бы ни было образом – было их первой и самой заветной мечтою, не дававшей ни сна, ни покоя. Об отдаленном будущем никто из этих мечтателей но любил и не умел задумываться. Сахалин, если бы даже он оказался и ужасной вещью, представлялся чуть ли но столь же далеким, как и существование за гробом, а между тем на пути туда рисовалась воображению раздольная этапная жизнь с майданами и картежной игрою, с массой новых тюрем, через которые надо проходить, со множеством нового народа, встречами со старыми знакомцами и товарищами и – кто знает? – быть может, счастливыми случайностями, которые опять вынесут мертвого человека на свет божий… Особенно разгорались мечты долгосрочных, имевших при себе жен. Среди арестантов вообще господствовало мнение, не знаю – верное или неверное, будто не только на Сахалине, но и в большинстве других каторжных пунктов семейных не держат в тюрьме даже и в течение испытуемого срока, почти немедленно выпускают в вольную команду ввиду того, что семейные очень редко бегают. В Шелайском руднике такого обычая, во всяком случае, не было. Шестиглазый относился к женатым так же строго, как к холостым. Свидание с женами давалось им один раз в неделю, под строгим наблюдением надзирателей; ничего съестного передавать с воли не позволялось (кроме того, что можно было съесть во время свидания), и никто не имел надежды выйти на свободу раньше окончания испытуемого и исправляющего срока.
– И не мечтайте об этом, – грозно заявил однажды штабс-капитан Лучезаров во время вечерней поверки, – для меня вы все равны, и никого раньше законного срока я не выпущу. А если я не выпущу, то и сам бог не поможет вам выйти за эти стены!
Между тем испытуемые сроки у большинства шелайскиx семейных были безнадежно большие, и понятно, все они должны были рваться вон из когтей Шестиглазого, если питали уверенность, что другие тюремные начальства относятся к женатым арестантам мягче. Положение некоторых действительно внушало невольное сострадание. Молодой поляк Мусял пришел на двадцать лет за убийство вотчима своей жены, который вывел его из терпения рядом многолетних несправедливостей, обманов и придирок. Мусял был простой польский мужик, умственной своей первобытностью и нравственной неиспорченностью сильно напоминавший русского Шемелина. Если верить рассказу Мусяла (а не верить не было причин – так рассказ этот был прост и похож на действительность), то большинство русских арестантов без колебаний немедленно сделало бы то, что он сделал лишь после нескольких лет самого ослиного терпения: до того были возмутительны поступки тестя. Сама Юзефа, жена Мусяла, побуждала мужа отомстить обидчику. Когда Яна осудили за убийство, она отправилась и в каторгу, оставив маленьких детей у родных. В дороге уже родилась у них еще одна дочь, хорошенькая, которую я видал иногда во время свиданий. Такому человеку, как Мусял, нравственно вполне еще уцелевшему, действительно, глубоко привязанному к семье и жене и отчасти из любви к ним и совершившему свое преступление, можно было от души пожелать скорейшего выхода на волю. Он много страдал, и на глазах моих в его отношениях с женою совершалась ужасная драма. Ян был недалек и ревнив, а красивая и здоровая Юзефа представляла такой лакомый кусок не только для арестантов-вольнокомандцев, но и для казаков и для самих надзирателей, что против счастья молодой четы неизбежно должен был начаться целый ряд самых темных интриг и подвохов. Десятки соблазнительных предложений преследовали Юзефу, и только крестьянская неиспорченность и католическая набожность спасли ее; редкая бы русская женщина выдержала такой искус, какой выпал ей на долю… Один грязный слух за другим зарождался за стенами тюрьмы и через уста злобной кобылки, всегда жадной до чужих страданий, доходил до ушей мужа. Долгое время он только смеялся, веря в свою жену, как в святую. Клеветники и сплетники всячески изощряли свое воображение и остроумие: то говорили, что Юзефа живет с урядником, то с одним из надзирателей, то указывали на какого-то богатого вольнокомандца. Передавались самые реальные подробности, выдумывались самые правдоподобные сцены и подслушанные якобы разговоры… Подозрение начало наконец свивать гнездо в сердце Яна… В довершение беды на одном из свиданий надзиратель, давно уже точивший зубы на отвергшую его ухаживания Юзефу, перехватил у нее какую-то незначащую записку, будто бы переданную мужем, и Шестиглавый в наказание лишил их на пять месяцев свидания. Того только и нужно было врагам. Клевета сделалась еще беззастенчивее и дерзче, а несчастный Ян лишен был даже возможности проверять ее, и с этих пор ревность охватила его пожаром. Напрасно многие доброжелатели пытались его успокаивать и убеждать не верить арестантским слухам и выдумкам; он сам превратился теперь в обвинителя и открыто и громко поносил жену такими слогами, за которые прежде разбил бы голову всякому, от кого бы их услышал. Встречаясь иногда с нею за тюрьмой, он метал на нее свирепые взгляды и из-под конвоя осыпал грубой бранью. Ни в чем не повинная, Юзефа долгое время недоумевала и лишь горько плакала в ответ на незаслуженные оскорбления; но вскоре тоже озлилась и на брань стала отвечать бранью. Кобылка, присутствуя при таких супружеских сценах, радостно хохотала, торжествуя свою победу. Кончилось тем, что по истечении пяти месяцев, когда прошел наложенный срок наказания, Юзефа сама не стала ходить к мужу на свидания. Семейный мир и счастье, казалось, навсегда были разрушены, Юзефа собиралась уже ехать с маленькой Касей в Россию…
Простая случайность предупредила это несчастье.
Шелайский рудник посетил заведующий Нерчинской каторгой, и совершенно для всех неожиданно Мусял обратился к нему с описанием своего горестного положения. Несмотря на комизм этой полурусской речи, она прозвучала так сильно и трогательно, что заведующий, справившись тут же у Лучезарова о поведении арестанта и узнав, что через какой-нибудь месяц кончается его испытуемый срок, приказал немедленно выпустить его из тюрьмы. Кобылка проводила Мусяла на волю насмешками и зловещими пророчествами о прибыли, которая его ожидает…
Но все пророчества эти, к счастью, оказались вздором; недоразумения разъяснялись при личном свидании к обоюдному удовольствию, и молодая чета стала жить в прежнем мире и согласии.
Портной Буланов, имевший многочисленную семью на руках, меньше всех женатых внушал к себе сожаление. Это была поистине гнусная личность, лицемерная, себялюбивая, с ушками всегда на макушке, с хитрыми бегающими глазками и сладенькой улыбочкой на губах. Жил он у себя дома вполне безбедно, ни в чем не нуждаясь, и все-таки пришел в каторгу за убийство трех человек с целью грабежа. С ужасающим цинизмом рассказывал он подробности этого злодейства, не говоря, впрочем, прямо, что в нем участвовал; но это видно было по хитрой усмешке, по холодному блеску острых глазок.
– Я без вины попал в работу, – пел в таких случаях лукавый мордвин, – я ведь в несознании осужден навечно.
Искусный портной, он обшивал все местное начальство, включая и самого Лучезарова, и заработок имел изрядный; жена его была, по-видимому, практичная и тоже умела добывать деньжонки. Тем не менее Буланов всеми силами души рвался вон из Шелайского рудника и постоянно мечтал о "переводке": он пробыл в каторге всего лишь два года, и впереди ему оставалось еще девять лет одного тюремного срока.
Но никто из семейных не вел своей линии так упорно и последовательно, как некто Дюдин, имевший на шее пятнадцать лет одного испытуемого срока (в качестве рецидивиста-вечника). Это был странный человек, которого природа наделила способностью работать языком до собственного умопомрачения. Несчастный был тот, кто обнаруживал хоть малейшую охоту поговорить с ним: тогда уж рассказов его невозможно было переслушать! Говорил он при этом всегда со странными вывертами и оборотами речи, в которых видна была претензия, блеснуть образованностью и европейским лоском. Так, по его словам, он "покушал однажды свою жизнь на австрийского подданного барона Розенвальда"; все господа, у которых он жил в России и за границей, всегда были с ним "в симпатичных отношениях"; если кто из арестантов в споре начинал говорить явно несообразные вещи, Дюдин заявлял ему: "Ну, братец, ты уж до апогеевых столбов нелепицы дошел!" Именами баронов, князей и графов, с которыми он был знаком, он так и сыпал, как бисером, в глаза своим собеседникам. Понятно, что арестанты страшно его не любили, и редкий день не выходило у Дюдина с кем-нибудь брани, ссоры и даже драки.
– Дюдин опять нашел приключение! – говорила кобылка, заслышав где-нибудь заведенный им шум.
Тогда как другие семейные всячески лебезили перед начальством и "ударяли к нему язычком", Дюдин, который тоже, разумеется, не прочь был от этого, вскоре умудрился вооружить против себя и всех надзирателей своей неугомонной вздорностью, неумолкаемой болтовней и страстью к "волынкам". Вечно он попадался в каком-нибудь "приключении": то незаконно проносил в тюрьму со свиданий колоба и шаньги во время дежурства "хорошего" подворотного надзирателя и вслед за тем попадался с ними на глаза внутреннему "нехорошему" дежурному, подводя тем под беду первого; то заводил спор и даже мордобой с кухонниками или прачками; то, наконец, распускал сплетню про надзирательских жен, доходившую до сведения последних и производившую суматоху за стенами тюрьмы… Никакие взыскания, ни даже лишения свиданий с женой не могли исправить этого вздорного человека. Решительно на каждой вечерней поверке он заводил с самим Шестиглазым бесконечные прения, обращаясь то с просьбой, то с жалобой, а то и просто с какой-нибудь чепухой. Даже великолепие бравого штабс-капитана не было для него достаточным пугалом, и тот стал наконец отмахиваться руками и ногами, еще издали только завидев Дюдина, не успевшего даже разинуть рот, чтобы начать свои словоизвержения… Кончилось тем, что Лучезаров сам стал хлопотать о переводе Дюдина в другую тюрьму.
В совершенно ином положении находились малосрочные: для этих был полный расчет отбыть свое наказание хотя и в строгой Шелайской тюрьме, лишь бы после нее быть поселенными в Забайкальской области, а не на страшном Сахалине. Из бродяг, не помнящих родства, был у нас один забайкальский крестьянин, беглый солдатик, осужденный без "качества" за одно лишь скрытие "родословия"; срок его четырехлетней каторги кончался этим же летом, и его могли тем не менее отправить на Сахалин. Понятно, как трепетал он в ожидании, чем разрешатся слухи о выборке. Говорили, что с Кары, с Зерентуйского, Алгачинского и других больших рудников "замели" решительно все здоровое население, оставив на месте только калек да богодулов; что отправляли на Сахалин даже тех, кому кончился уже срок каторги, и не успело только прийти назначение волости.
Но был в Шелайском руднике один человек, который больше всех трусил; он побледнел, осунулся, весь съежился и скорчился, словно надеясь, что в таком виде его не заметят и оставят в покое. Это был не кто иной, как наш старый знакомец и приятель Кузьма Чирок. Он крепко помнил свою историю с бараном-собакой, хотя утверждал, что побег его не был внесен в статейный список, как простая отлучка, но в глубине души не был в этом уверен… Бедный Чирок лишился даже сна и аппетита. А злые шутники, подметив вскоре его тревогу, воспользовались ею и начали без конца и на все лады донимать его.
– Угодишь теперь к своей Лукейке, беспременно угодишь! – жужжали ему день и ночь.
– Чего печалишься, дружок? Там сестрица тебя и зятек богоданный ждут.
– Пошел ко всем дьяволам, творенье паршивое, гад!
– Да чего же ты лаешься, Кузьма Александрыч? Аль в счастье свое не веришь? Так это дело наверняка можно оборудовать. У нас грамотные есть. Никишка, сочини прошение, что вот, мол, Кузьма Чирок, находясь восемь лет в тяжкой разлуке с единокровной сестрицей своей Лукерьей Александровной, просит нижающе ваше превосходительство, или как там… соединить вновь. А потому желает отправиться на остров Сахалин, где она пребыванье имеет с супругом своим Семеном Пелевиным и детками. Садись, брат, я дихтовку живой рукой сорудую.
– Да! Никишке и написать… Нашел грамотея! – пренебрежительно ворчал Чирок, с беспокойством следя, однако, за тем, как полуграмотный Буренков важно усаживался за стол, раскладывал перед собой бумагу и завастривал крошечный обломок карандаша…
– Да вот и напишу! – подзадоривал его Никифор, бойко начиная выводить какие-то удивительные иероглифы. – Прошение. А тому следует пунхты. Сестра Лукерья. Остров Соколиный. Подписался Кузьма Чирок. Готово!
И он начинал торжественно складывать мнимое прошение. Тут Чирок не выдерживал.
– О, гады! – вскрикивал он. – Они еще и в сам-деле подведут под плети!
Он соскакивал с места и кидался к Никифору отнимать бумагу. Но тот успевал вырваться и, пробежав по нарам, через головы и ноги лежавших на них арестантов, бросался за дверь и выбегал на двор, преследуемый по пятам Чирком. Несколько раз обегали они вокруг тюрьмы. Легконогий Никишка, бывший к тому же босиком и в одном белье, невзирая на лежавший еще на дворе снег, летел как ветер; но и неуклюжий на вид Чирок, одетый в тяжелые сапоги с кандалами и бушлат, оказывался тоже замечательным бегуном. Раза два или три он почти настигал Никифора, но тот ухитрялся каждый раз увернуться в сторону и наконец совсем убегал и прятался от запыхавшегося и сопевшего, как паровик, Чирка. Минуты через две Буренков сам к нему подходил.
– Куда дел прошение, гад? Давай! – приставал к нему все еще тяжело дышавший Чирок, кашляя, бранясь и отплевываясь.
– Под ворота бросил, – отвечал Никишка, – пущай надзиратели подымут.
– Врешь?! – вскрикивал Чирок не то шутливо, не то и в самом деле испуганно и начинал на чем свет стоит бранить и даже тузить помирающего со смеху Никифора.
Шутки эти и забавный страх Чирка перед Сахалином стали известны вскоре и надзирателям, и один из них вошел раз в нашу камеру и с серьезным видом прочел только что полученный будто бы список арестантов, назначенных к отправке на Сахалин; в том числе был и Кузьма Чирок. Последний побледнел весь и задрожал как лист… Шутка заходила уж слишком далеко, и кто-то, сжалившись, поспешил объяснить Чирку, что против него составлен заговор. Негодованию его не было пределов, а вместе с тем и новым восторгам кобылки.







