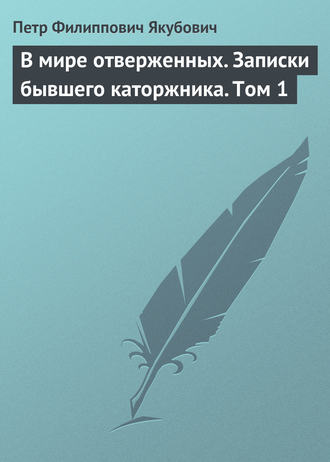
Петр Филиппович Якубович
В мире отверженных. Записки бывшего каторжника. Том 1
XV. Великие поэты перед судом каторги
В этот первый вечер почти по всем номерам чтение продолжалось до двенадцати часов ночи, так что надзиратель несколько раз подходил к дверям и приглашал публику ложиться спать. Я серьезно опасался, что это обстоятельство дойдет до Лучезарова и он отнимет книги. К счастью, период был либеральный; надзиратели давно уже не отличались первоначальной неукоснительной пунктуальностью, и доноса не последовало., Весь вечер читал я своим сожителям Пушкина, до того, что охрип. Из всей камеры уснул вскоре один только Гончаров, практический ум которого страдал полной неспособностью внимания. Значительно позже уснули Никифор и Тарбаган. Все остальные слушали с поглощающим интересом и готовы были вконец замучить меня. Чирок волновался и был необыкновенно комичен в своем любопытстве. Весь вечер сидел он подле меня, сосредоточенно-внимательный, с чрезвычайно лукавым выражением серых глаз и с глубокомысленно наморщенным лбом. От избытка чувств он то и дело ерзал на. нарах и чесал себе брюхо… Малахов слушал важно и солидно, по тоже не мог скрыть восторга, хлопал себя рукой но бедру, заливался детским душевным смехом и чаще других вставлял замечания. Внимательно, но молчаливо слушали: Гандорин, Семенов, Владимиров л Михаила Буренков. Заспанный Тарбаган глядел во псе глаза и то и дело подавал свою обычную реплику: "Так и лучше!" – нередко совсем невпопад. Ученики слушали в этот первый раз внимательно, но впоследствии между ними и камерой завязалась вражда: ученики эгоистично предпочитали учиться, камеры же слушать чтение. Много происходило из-за этого смешных, и подчас и тяжелых эпизодов.
Пушкин понравился и был понят почти весь, без исключения. Наибольшим, однако, триумфом увенчались: "Борис Годунов", "Капитанская дочка" и "Дубровский". Между прочим, известная сцена в корчме вызвала такое неудержимое веселье и хохот, что многие в судорогах катались по нарам. Яшка Тарбаган при этом чуть не помер, и Малахов принужден был каждую минуту совать ему в глотку кулак для того, чтобы чтение могло продолжаться. Личность Годунова настолько была понята всеми, что именем его прозвали впоследствии одного арестанта и оно вообще сделалось в Шелайской тюрьме синонимом всякого лицемерия и политиканства. Но наряду с хорошими впечатлениями от чтения этих произведений Пушкина у меня остались и мрачные, тяжелые воспоминания. Страшная сцена убийства Федора и Ксении в "Борисе Годунове" в некоторых из слушателей вызвала сочувствие и радость.
– А, гады, закричали!.. – сказал Чирок и был поддержан Тарбаганом, который стал хохотать неизвестно над чем. Таких случаев я помню множество, когда какое-нибудь трагическое, захватывающее дух место вызывало в арестантах внезапный взрыв веселости и цинизма… Это обстоятельство вначале приводило меня в отчаяние, и я вспоминал насмешливую улыбку Лучезарова, отдававшего мне книги:
– Книжечками этими вы их не проймете!
По прочтении "Капитанской дочки", "Дубровского" и даже того же "Бориса Годунова" некоторые говорили с искренним сожалением:
– Вот времечко-то было!.. Вот кабы при нас такая каша заварилась… Мы б тоже, Чирок, руки с тобой погрели.
– Долговолосым-то, долговолосым надо б гривы порасчесать! – подтверждал Чирок тоном глубокого убеждения.
Вообще в подобных разговорах особенно ярко проявлялась ненависть арестантов к духовенству. Последнее пользовалось почему-то одинаковой непопулярностью среди всех, поголовно всех обитателей каторги, и причин этой преимущественной ненависти я никогда не мог хорошенько проследить. Однажды я прочел моим сожителям наизусть, что помнил, из той главы "Кому на Руси жить хорошо", которая посвящена защите священника. Большинство камеры, казалось, согласилось с мыслью поэта; но прошло некоторое время – и возобновились прежние разговоры и прежние нелестные отзывы о духовенстве… Один из бывалых арестантов (тот самый, который носил прозвище Годунова) выказывал особенную злобу. и ожесточение против попов, а между тем при подробнейшем ознакомлении с его личным прошлым я не нашел ни одного случая какого-либо столкновения его с этим сословием. Это какая-то традиционная, передающаяся от одной генерации арестантов к другой вражда, в параллель которой можно поставить разве еще неприязнь к фельдшерам и врачам.
Но да не подумает кто-нибудь из читателей, что лучшие произведения Пушкина производили на всех арестантов деморализующее влияние. Я разумею только некоторые личности; да и про тех нужно сказать, что отдельные, вырывавшиеся у них при чтении циничные замечания были скорее делом привычки и легкомыслия: не по тому, так по другому поводу, при чтении и без чтения, замечания эти все равно были бы высказаны, как результат привычной несдержанности на язык. В сущности, они ровно ничего не показывали. Тот же самый Чирок в другие вечера говорил совершенно противоположное, выражал негодование против убийц Федора и Ксении и вообще даже чаще других являлся защитником строгой нравственности и гуманности. И что бы он ни утверждал, все у него, как у ребенка, было в высшей степени искренно. Что касается неуместного смеха или шуток во время самых патетических мест чтения, шуток, которые, естественно, возмущали и коробили меня, то они показывали одно только – неразвитость художественного вкуса; делать на основании их какие-либо общие неблагоприятные выводы о плодотворности чтения было бы несправедливо. Встречались, правда, отдельные, безнадежно испорченные субъекты, везде и всюду ухитрявшиеся найти то, чем сами были переполнены, – жестокость, грязь и цинизм; такие слушатели портили часто впечатление самых безукоризненных произведений и примером своим заражали неиспорченную часть аудитории; но большинство – я прямо утверждаю это – отдавалось всегда именно тому настроению, которое преследовал автор, и получало те же впечатления, какие получают все нормальные читатели и слушатели.
Немало помню и таких случаев, когда безнадежные циники и негодяи заражались, в свою очередь, благодушным настроением большинства и рассуждали вполне здраво и человечно. Не могу позабыть того сердечного трепета, с каким приступил я к чтению "Короля Лира" и "Отелло", единственных произведений Шекспира, которые у меня были. Мне думалось, что великан-поэт должен будет потерпеть в этой среде полное поражение, что если он и не покажется смертельно-скучным, то единственно благодаря некоторому мелодраматизму фабулы, а отнюдь не глубине психологического анализа и всему тому, чем пленяет Шекспир образованное человечество. Но каково же было мое удивление, когда обе трагедии произвели небывалый, невиданный мною фурор и поняты были приблизительно так, как их и следует понимать! При чтении двух первых действий "Отелло" настроение публики было, правда, сдержанное, даже холодное; в душу мою начинало уже закрадываться отчаяние: кое-где слышались посторонние разговоры, и, против обыкновения, большинство не пыталось их останавливать. Один только Семенов поразил меня удивительно тонким замечанием относительно Яго, которого он раскусил после первой же сцены:
– Ну, этот их всех окрутит!
Но с начала третьего действия настроение внезапно переменилось; точно электрический ток пробежал по камере.
– Начало разбирать, – сказал Чирок, подбирая под себя ноги.
И вскоре многие повскакали с нар и с горящими глазами обступили меня кругом. Впечатление от драмы вышло потрясающее. По окончании чтения все сразу зашумели и заговорили… Жалели Дездемону (имя которой, к сожалению, никак не могли выговорить правильно), жалели и Отелло; "Ягу" ругали единогласно и строили догадки, какую пытку выдумает для него Кассио. Одним словом, при чтении Шекспира с наибольшей яркостью обнаружилась сила и мощь истинно великих произведений искусства. "Король Лир" произвел почти такое же сильное впечатление, и с тех пор эти две драмы чаще всего остального имели спрос на чтение.
Одно только обстоятельство, каждый раз до глубины души меня огорчало. Проходило каких-нибудь полчаса (и это еще много) после чтения – и впечатление в большинстве случаев совершенно улетучивалось, и разговор переходил к чему-нибудь постороннему, мелкожитейскому, чему прочитанное служило иногда чисто внешним, ничтожным поводом. Через полчаса, случалось, говорили уже совершенно противное тому, что вырывалось в первом порыве впечатления. Так, почти все пожалели (я хорошо помню это) Дездемону, говоря, что Отелло без вины задушил ее, а через час уже ругали женщин вообще и жен в частности, утверждая, что лаже и без всякой вины их следует душить, как собак. После попов и докторов арестанты больше всего ругали женщин, и если бы принимать на веру каждое их слово, то можно б было подумать, что мир не создавал более страстных женоненавистников! Особенно возмущался ими Парамон Малахов, который всю жизнь свою, но собственным его словам, погубил за женщин. По поводу Отелло, помню, узнал я и историю его двойного убийства, за которое он пришел в каторгу.[47]
В течение трех лет жил он с лишением прав в Иркутской губернии, занимаясь, как и теперь, бондарным ремеслом. Там он слюбился с одной девушкой, приемышем местного крестьянина. Ходили темные слухи, будто крестьянин живет с своей приемной дочерью, но Парамон пренебрег этими слухами и взял только с невесты слово, что если и было что в прошлом между нею и отцом, то впредь ничего этого не будет и она будет ему мерной женой. Свадьба обошлась Парамону, по его словам, в семьдесят пять рублей, и обстоятельству этому он придавал огромное значение. Первые три месяца молодые супруги жили дружно и любовно, но потом опять стали ходить слухи об отношениях Катерины с отцом. Парамон побил ее раз, побил и другой, уговаривая не дурить. И вот в один не прекрасный день она совсем сбежала к отцу… Соседи начали смеяться над Парамоном. К чувству обиды примешивалось сожаление и о потраченных напрасно деньгах.
– В первое ж воскресенье, – рассказывал Парамон, – оделся я в праздничную одежу и пошел к тестю окончательно переговорить о своем деле. Что-нибудь одно хотелось узнать: или что Катерина одумается и бросит свое распутство, или совсем от меня откажется, и тогда они должны были вернуть мне мои деньги. Что касается убивства, то это я еще надвое держал в уме и так только, про случай, заложил за голяшку нож. Обоих их я на улице встретил, перед самым домом: из церкви от обедни шли. Я подхожу. Так и так, мол, говорю, потолковать с тобой, Степан, пришел. "Знаю, говорит, о чем ты толковать хочешь. Только мое тут дело – сторона. Если не хочет она жить с тобой – что я могу поделать?" – "Поди-ка, говорю, сюда, Катерина, мне сказать тебе нужно". Говорю это тихо так и спокойно, к сторонке ее маню. Вот, ей-богу, не вру, никакой, то-ись, дурной мысли в голове еще не держу! А она, стерва… она хватает за руку своего любовника и тащит домой. "Нет, говорит, не хочу, не об чем нам говорить". Тут взыграло во мне сердце, горючей кровью облилось. Я тоже хватаю ее за руку и тяну к себе. Так и стоим мы середь улицы – ну вот, честное слово, правда! – я за одну ее руку держу, он за другую. Поворачивается она тогда лицом ко мне и говорит: "Уйди, подлец, не то закричу, в рожу плевать стану".
– А! так я подлец?! – Нагибаюсь, выхватываю из-за голенища нож и – раз! раз! – в грудь ей по самый черешок два раза нож запустил. Он, любовник ее, хотел было кинуться на меня… Я размахнулся – и его ножом в живот. Он тут же и сковырнулся на землю – и дух вон. А Катерина… Та, шкура, настолько живуща была, что еще до дверей избы добежать успела. Тут я догнал ее и еще раз в спину полоснул: не живи, змея подколодная!..
Слушатели, все без исключения, были в полном восторге от такого поступка Парамона и высказывали ему горячее одобрение: так ей и надо, суке. Не умела жить честно – ешь землю. Лежи с своим любовником, целуйся с им!
Никому и в голову не приходило задаться вопросом о том, какая внутренняя драма могла происходить в душе Катерины, какие причины толкнули ее на разрыв с законным мужем, Ни у кого не являлось и тени сомнения в том, что брак ее с Парамоном имел одну цель – отвод глаз, что она все время его обманывала – и в те полгода, которые он был женихом, и те пять месяцев, которые был мужем.
– Она на другой день поутру померла, – продолжал свой рассказ Малахов. – Вся деревня, вся до одною человека, за меня стояла, арестовать даже не хотели. "Ты и так, говорят, не убежишь, не такой человек". Я уж сам настоял, чтоб арестовали. Катерина, оказалось, на сносях была, уж не знаю от кого – от его или от меня, и я за тройное убивство судился: за нее, за любовника и за младенца. На суде я все обсказал правильно, все, как было, ничего не утаил, и даже судьи сожаление мне выражали… И хоть приговорили меня к шести годам, но я это за то же оправдание считаю. Шесть лет за три души – это оправдание! Потому что я праведно поступил – за свою обиду, за свой позор и за свои деньги убил! Я честно поступил!
Пытался я вставить несколько слов в осуждение убийства вообще, но этим только окончательно озлил Парамона, и он, не желая меня слушать, восклицал патетически:
– Я правильно поступил! И всякий должен сказать: Молодец Парамон! Артист Парамон! Герой Парамон!"
– Возможно, что и так, – отвечал я. – Я ведь не думаю винить вас. Я говорю только, что все-таки лучше б было не убивать.
– Нет, надо было убивать! – кричал весь раскрасневшийся Парамон, энергично потрясая своей огромной черной бородой и ударяя себя кулаком в грудь. – Надо было убивать, и весь мир скажет: "Хорошо сделал Парамон! Орел Парамон! Отелла Парамон!"
Я перестал спорить, и Малахов сиял полным блеском торжества и победы. Арестанты решительно все были на его стороне. Гончаров не преминул по этому поводу рассказать какое-то событие из собственной жизни, тоже свидетельствовавшее о необыкновенной глупости и подлости женщин. Кто-то другой, вызвав в камере общий смех и веселость, рассказал затем, как по-зверски расправился он однажды со своей любовницей.
– Я ее в боковину, под ребра, под микитки, в брюхо, опять в боковину..
Чтобы не слушать, я заткнул уши. Через некоторое время я задал, однако, вопрос Семенову, как, по его мнению, должен относиться муж к жене и что делать в случае ее неверности?
Семенов удивился.
– А неужели ж прощать ей? Чтоб она, подлюха, смеялась надо мной? Да лучше ж я сейчас отрублю ей, шкуре, голову, как только подозрение явится.
– А вы, Владимиров, как думаете? – обратился я к нашему поэту, который все время молчал и, казалось, сонливо лежал на нарах, бог знает о чем думая и где витая. Медвежье Ушко, по обыкновению, долго отмалчивался и отнекивался, говоря, что ничего не знает и не думает, но потом вдруг поднялся с места, замотал головою и забасил так, что у меня явилось опасение за свою барабанную перепонку:
– А, конечно, убить ее надо!.. Жена повиноваться должна… Не мужу ж бояться жены!
Разговор окончился вполне комическим образом, когда услышали внезапно заявление Тарбагана, что и он, когда воротится домой, тоже "беспременно" убьет свою жену, если она окажется ему неверной.
При одном взгляде на грязную, опухшую от сна и жира фигурку этого животного, которое тоже мечтало разыграть из себя Отелло, все разразились смехом и принялись острить на его счет.
– Да была ль у тебя жена-то? Не во сне ль приснилась?
– Ты не на той ли колоде женат-то был, что у нашего кабака лежала?
– Нет, братцы, он на пестренькой сучке женат, что по-за тюрьмой бегает. Она за им и в каторгу пришла.
Тарбаган сердился и, как мог, отгрызался. Он не умел парировать шутки шутками.
До сих пор остается для меня непонятным тот факт, что Лермонтов пользовался в Шелаевской тюрьме несомненно большей популярностью, нежели Пушкин. Если бы меня спросили раньше собственных моих наблюдений, которого из этих двух поэтов арестанты способны больше оценить и полюбить, я, конечно, не колеблясь назвал бы Пушкина. К удивлению моему, Лермонтов не только никого не заставлял скучать, но нравился даже и мелкими своими лирическими стихотворениями, чего нельзя сказать про Пушкина. Разумеется, другой совершенно вопрос, насколько верно их понимали, но факт тот, что Лермонтова перечитывали чаще Пушкина и охотнее о нем говорили. "Демона" в первый раз прослушали, правда, очень холодно, очевидно ровно ничего не поняв; но спустя несколько дней произошло что-то совсем для меня непонятное: "Демоном" почему-то вдруг страшно увлеклись, так что готовы были хоть каждый вечер его слушать… Особенно один полуобрусевший татарин Равилов восхищался этой поэмой; отдельные места ее заучивались им и многими другими наизусть. Очаровательная ли музыка лермонтовского стиха или титанический образ героя поэмы оказали такое влияние – не могу сказать. "Боярин Орша" и "Мцыри" пользовались почему-то меньшей любовью; зато "Песня о купце Калашникове" смело могла соперничать с "Демоном". Некоторые арестанты по выходе на поселение собирались выписывать книги, и когда, справляясь у меня о ценах, узнавали, что Лермонтов и Пушкин стоят приблизительно в одной цене, вскрикивали с восторгом, что в первую же голову купят Лермонтова… Возможно, что слова эти в действительности никогда не приводились в исполнение (до Лермонтова ль и Пушкина на воле!), но важен самый факт отношения к обоим поэтам. Пушкина тоже любили, понимали но, несомненно, даже больше, а предпочитали все-таки Лермонтова. Большим успехом пользовалась, между прочим, юношеская его мелодрама "Испанцы" – потому, быть может, что она отвечала общей неприязни арестантов к духовенству, о которой я уже рассказывал. Как известно, у драмы этой нет окончания, так как заключительный листок лермонтовской рукописи был утерян ее владельцем. Слушатели мои никак не могли и, в толк смысла этой "утери" и не раз приставали ко мне с просьбой "поискать хорошенько" конца "Испанцев"… Больше всего удивляло меня, что популярность создали Лермонтову в Шелайской тюрьме именно его стихи, а не проза. К "Герою нашего времени" относились как-то равнодушно, несравненно больше увлекаясь "Дубровским" и "Капитанской дочкой". Что касается поэта Владимирова, то он совсем низко ценил Пушкина.
– Что в нем такого? – басил он, идиотски смеясь. – Ничего в нем такого нет, ничего особенного…
И по целым дням и ночам читал и перечитывал Лермонтова.
Но кто был несомненным кумиром шелайских каторжных, писателем, пользовавшимся наибольшей любовью и успехом, так это Гоголь. К сожалению, у нас имелись не все его сочинения. Было следующее: "Мертвые души", "Тарас Бульба", "Вечера на хуторе", "Невский проспект", "Записки сумасшедшего", "Старосветские помещики" и "Шинель". Из них одна только "Шинель" принята была совсем холодно и никогда впоследствии не перечитывалась; все же остальное чуть не наизусть заучивалось. Герои Гоголя стали в нашей тюрьме нарицательными именами – лучший признак огромных размеров успеха. "Вечера на хуторе близ Диканьки" слушались всегда с напряженнейшим вниманием и то и дело сопровождались самым искренним хохотом. Кто-то назвал однажды Кузьму Чирка – Черевиком (из "Сорочинской ярмарки"), и надолго с тех пор укоренилось за ним это прозвище. Черт, ведьма, кузнец Вакула и Чуб, зашипевший от боли, когда ему закручивали в мешке волосы, стали всеобщими любимцами; хорошо запомнился даже пьяный Каленик, мимолетно лишь появляющийся в "Майской ночи". Но наибольший фурор произвели, конечно, "Мертвые души" и "Тарас Бульба". Впечатление от того и другого произведения было различное, но почти одинаково громадное. Один только Владимиров высказывал, по обыкновению, оригинальное мнение относительно "Тараса Бульбы".
– Это что такое? Чепуха, прямая чепуха. Ничего тут особенного нет… Так просто сплетено.
Общий староста Юхорев до того восхитился личностью Ноздрева при первом же его появлении на сцену, что не удержался от восклицания:
– Да это я!.. Ей-богу, я, братцы!..
И только позже, когда личность Ноздрева лучше выяснилась, он хотел было отказаться от этого тождества, но уже было поздно. С тех пор тюремные шутники не давали ему проходу и постоянно дразнили Ноздревым, а также и "херсонским помещиком". Шелайский Ноздрев-геркулес, забывая всю свою представительность и звание старосты, с яростью гонялся по тюремному двору за обидчиками, и тому, кого он ловил в свои железные лапы, приходилось плохо. Он без пощады мял носы, рвал усы и бороды, коверкал руки и ноги. Но Ракитин, Никифор, Тарбаган и им подобные не унимались и после этой науки. Слух дошел наконец до самого Шестиглазого, и он, благодушно смеясь, осведомлялся у Юхорева, за что прозвали его Ноздревым…
Коробочка, Плюшкин, Манилов, Собакевич, Петух, генерал Бетрищев и сам Чичиков также были для всех живыми лицами, общими знакомцами и любимцами. Замечательно, что даже юмористические отступления Гоголя не оставлялись без внимания. То место, где Гоголь говорит о чиновнике, который перед начальником отделения являлся куропаткой, а перед своими подчиненными Прометеем, чрезвычайно нравилось. Запомнилось почему-то даже непонятное слово Прометей, и долгое время после того называли этим именем самого Лучезарова.
– Прометей, настоящий Прометей! – говорили про него, когда он показывался на вечерних поверках в сопровождении целой свиты надзирателей.
Курьезно, с другой стороны, то, что Собакевич был принят не за отрицательный, а за положительный тип, и Малахов ужасно неистовствовал по этому поводу.
– Вот это я понимаю! Это настоящий господин, а по пустая какая-нибудь мельница. Это… Парамон Малахов! Да! Собакевич – это я сам.
К сожалению, в числе слушателей всегда были и до мозга костей испорченные люди, задававшие обыкновенно тон остальным, представлявшие нередко самый даровитый и остроумный элемент каторги. Эти люди давали иногда весьма нежелательное освещение прочитанному. Так, бродяга Дорожкин изо всех сил старался возвести в перл создания главного героя "Мертвых душ" – Чичикова; он восторгался его ловкой затеей, превозносил до небес его мошеннические таланты и кричал:
– Так им и надо, туисам простокишным! Чтоб губ не разевали… Эх, кабы меня теперь на волю пустили, я б не такую еще пулю отмочил, я б такого им Чичикова разыграл, – что не только губернатор – сам бы генерал-губернатор за меня дочку отдал!
Конечно, это было пустое хвастовство, и Гоголь настолько мало научил Дорожкина искусству мошенничать, что, выпущенный вскоре в вольную команду, он почти на другой же день возвращен был в тюрьму, уличенный в краже шали у жены одного надзирателя; тем не менее подобному толкованию "Мертвых душ" мне приходилось противопоставлять свою пропаганду и делать необходимые разъяснения. Впрочем, думаю, что в конце концов поэма эта и без моей помощи была бы понята должным образом и что большинство, даже соглашаясь на словах с Дорожкиным, в глубине души не считало Чичикова положительным типом, достойным подражания, а хорошо понимало, что это – сатира. Я всегда страшно жалел, что у нас не было ни "Ревизора", ни "Женитьбы", ни "Ссоры Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем", ни "Носа", ни "Вия", ни "Портрета", каких бы размеров тогда достигла популярность Гоголя? Во всяком случае, не подлежит сомнению, что это истинно народный поэт, единственный из всех русских писателей, который теперь же может быть понят и оценен массой народа, и, следовательно, от души следует пожелать, чтоб скорее настало время, когда сочинения Гоголя появятся в дешевом народном издании.[48]
С сочинениями других русских классиков: Тургенева, Толстого, Достоевского, Островского, Некрасова мне не пришлось познакомить своих сожителей, и я могу лишь гадательно судить о том, какое впечатление произвел бы на них тот или иной из этих писателей, то или другое из их сочинений.
Между прочим, особенное любопытство возбуждал во мне вопрос, что сказали бы они о "Записках из Мертвого Дома" Достоевского, и я был ужасно обрадован, когда в старой хрестоматии Филонова отыскал несколько глав из этого произведения, посвященных острожному театру. Я рассчитывал, что столь близкий и родственный сюжет вызовет в моей публике взрыв восторгов и возбудит живейший интерес, и был сильно удивлен, когда она отнеслась к прочитанному отрывку довольно-таки равнодушно, чуть не холодно. Неудача эта огорчила и, признаюсь, почти раздражила меня; я стал объяснять Чирку, Малахову и другим, что не то было бы, если б я прочел им "Записки из Мертвого Дома" в целом виде.
– А что там описывается? – спросил старик Гончаров.
– Описывается, как жили арестанты в остроге сорок лет назад, – отвечал я, – как работали, страдали, как начальство их притесняло – словом, все тюремные порядки.
– Да ведь мы и так их знаем, Иван Миколаевич! Чего ж тут читать еще?.. Вот кабы там разбои разные да похождения описывались – например, вот об атамане Рощине и его есауле Буре, ну тогда б другое дело.
– Задавить бы его надо, а не читать – сказал вдруг Семенов, поднимаясь с нар и зажигая свою трубку. Ноздри его гневно расширились, а глаза глядели недобрым и вместе презрительным взглядом.
– Кого это? – спросил я удивленно.
– Да того, который писал эти записки, – Достоевский, что ль, его… Я читал эту книжку.
– Читали? И говорите, что надо бы задавить?! Да вы, должно быть, другое что-нибудь читали.
– Не другое, а то самое. За то его задавить надо, что он все арестантские тайны начальству выдал, за то, что благодаря ему нашему брату еще хуже жить стало!
Я стал горячиться, доказывать, что Достоевский своим сочинением оказал, напротив, обитателям каторги великую услугу, выяснив тому же начальству, что арестанты такие же, как все, люди и что обращаться с ними следует по-человечески; но с Семеновым спорить было невозможно. Высказав, точно топором отрубив, свое пение, он с выражением все той же ненависти и презрения на лице, улегся опять на свое место и замолчал, мысль его подхватили уже другие, Гончаров и Малахов, и начался галдеж, в котором мой голос затерялся, тюрьме нашлись потом и еще арестанты, читавшие "Записки из Мертвого Дома", и все они единодушно порицали автора за разоблачение арестантских секретов и разных интимных сторон их жизни, утверждая, что, попадись он в свое время кобылке в руки, ему несдобровать бы… Дело в том, что по наивности большинство арестантов думает, будто начальству и до сих пор ничего неизвестно об их способе прятать деньги в так называемых "сусликах", о разных приемах и формах сменки, разбивания кандалов и т. п.
Из иностранных произведений имелся у нас, кроме Шекспира, еще "Последний день приговоренного к смерти" Виктора Гюго. Я ожидал, что книжка эта также произведет на моих сожителей потрясающее впечатление; однако и тут, как с Достоевским, ошибся… Массу публики чтение скоро утомило, а под конец и совсем усыпило: глубокий психологический анализ при отсутствии внешнего действия и завлекающей фабулы оказался ей не по силам. Что же касается отдельных лиц из наиболее страстных любителей чтения, то они, правда, выслушали рассказ до конца с большим, по-видимому, вниманием, но в полном безмолвии, как бы что-то тая про себя, и я чувствовал, что впечатление, полученное ими, было тяжелое, до того неприятное, что мне самому стало не по себе. Близкий к их собственной жизни реализм сюжета, очевидно, подавлял их душу и делал ее не столь восприимчивою к художественной стороне произведения, как в других случаях. Быть может, слушатели мои чувствовали, что с каждым из них могла или может еще в будущем случиться подобная же история, а о таких вещах, как виселица, арестанты, естественно, не любят говорить и думать. Когда в доме недавно был или ожидается в скором времени покойник, тогда всякие разговоры о смерти, а тем более пространные и картинные, неуместны…
Библиотека моя была не обширна, а времени, в течение которого она находилась в тюрьме, недостаточно было для полного ознакомления арестантов даже с нею. Поэтому я уклоняюсь от каких-либо окончательных и решительных выводов на основании сделанных мною наблюдений. Скажу только, что эти вечера, проведенные за чтением вслух, составляют лучшую и благороднейшую часть моих воспоминаний о Шелайской тюрьме, и, несмотря на все частные разочарования, сопровождавшие мои мечты о гуманитарном влиянии художественной беллетристики на обитателей каторги, лично я и до сих пор остаюсь при своем мнении. Будучи поставлены на правильную почву, чтения эти, так же как и учебные занятия, могли бы, я думаю, сыграть огромную роль в деле исправления преступников, медленно и незаметно для них самих расширяя их умственные горизонты и пересоздавая нравственные понятия. Если бы даже оказалось на практике, что это химера, поэтическая фантазия – не больше, то и тогда я горячо стоял бы не только за разрешение, но и за устройство самим начальством в каторжных тюрьмах библиотечек из классиков иностранной и русской литературы и лучших произведений второстепенных беллетристов. Библиотека могла бы быть небольшая, но хорошо подобранная. Романы кроваво-уголовного характера и рискованно-романтического содержания, конечно, безусловно следовало бы исключить из нее. Мне лично всегда казалось, что из писателей всего мира наиболее подходящим к подобной библиотеке был бы Диккенс (романов которого у меня самого, к сожалению, не было) с его полными нежной теплоты и прелести образами и картинами, с его глубокой любовью к страдающему человечеству, к детям, беднякам, ко всем обездоленным, униженным и обиженным. Романы Диккенса хороши были бы и своим большим объемом. Я вообще замечал, что наибольшим успехом и наибольшим влиянием среди арестантов пользовались именно большие по объему вещи, чтение которых продолжалось из вечера в вечер, натягивая внимание слушателей в самые сокровенные и детальные глубины повседневной жизни и психологии, по только пробуждая мысль, но и давая ей время прочно настроиться па известный лад и тон. Небольшие же по размерам повести и рассказы нередко только раздражали моих сожителей: едва успевал неразвитый ум напрячь внимание и войти в известное настроение, как рассказ уже оканчивался. Слишком мелкие рассказцы и повести, по моему мнению, совсем непригодны в большинстве случаев для арестантской библиотеки, так как арестантам нужны прочные и глубокие, а не мимолетные впечатления. Но и они также являются отвечающими своей цели, когда малограмотные арестанты сами читают их в течение очень долгого времени; тогда у каждого из таких читателей является какой-нибудь свой любимый рассказик, с которым он носится, как курица с яйцом, и помимо которого долгое время не желает признавать никаких других книг. Среди моих книг громадным успехом такого рода пользовались: "Сократ, учитель жизни", "Христофор Колумб", "Александр Македонский, называемый Великим". Кроме романов Диккенса для чтения вслух арестантам я рекомендовал бы также исторические романы Вальтера Скотта и Купера, а также и лучшие произведения Майн-Рида (вроде, например, "Охотника за растениями"). Не говорю уже о таких знаменитых детских романах, как "Робинзон Крузо" и "Хижина дяди Тома". "Дон-Кихот" Сервантеса также, я думаю, мог бы стоять в числе первых книг этой избранной библиотеки. Но зато я решительно высказываюсь против всяких сокращений и переделок для детей и юношества.







