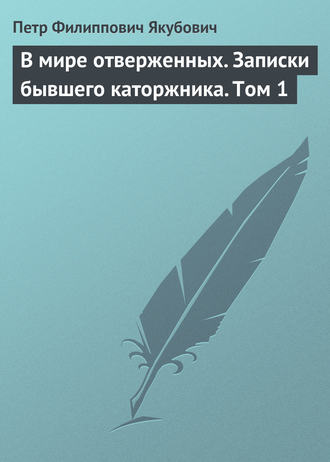
Петр Филиппович Якубович
В мире отверженных. Записки бывшего каторжника. Том 1
– А жаль, Ракитин, что ты до смерти не загрыз своей жены, очень жаль. Я убедился, что она дурная женщина: она ведь водкой торгует! Тебе известно это?
Ракитин так ошеломлен был этими словами грозного начальника, посадившего его в тюрьму за варварское обращение с женой, что не нашелся, что ответить.
– Хорошо, – отвечал между тем Лучезаров на свой вопрос, – я выпущу тебя, но под условием, что ты дашь мне слово немедленно прекратить эту торговлю.
Обрадованное ботало начало клясться и божиться, что свято выполнит это условие, что не только торговать, даже и пить никогда не станет проклятого зелья.
– Ну смотри же! – погрозил ему пальцем Шестиглазый. – Собирай сейчас же вещи и выходи вон.
Ракитин вылетел из камеры как бомба, позабыв даже попрощаться с товарищами.
IX. Избиение младенцев и жен
Шестиглазый продолжал свирепствовать. Выпуск Ракитина в вольную команду был какой-то счастливой случайностью, шедшей вразрез со всей его политиков этого злополучного лета. Арестанты, надзиратели, даже казаки, которые не были ему прямо подначальным, все находились каждый день в невообразимом страхе. Любивший вещать и пророчествовать Жебреек, к удивлению моему, не торжествовал и не резонировал, а ходил все время печальный и молчаливый. Раз мне вздумалось заговорить с этим сумасшедшим о недобрых временах, наступивших в тюрьме. В ответ Жебреек только грустно поглядел на меня, мотнул красной, как огонь козлиной бородкой и, пробурчав: "Того ли еще дождемся!" – величественно пошел прочь неровными, мелким шажками…
Однажды по нездоровью я не ходил на работу Вдруг вбегает в камеру запыхавшийся Чирок и объявляет, что один из самых нелюбимых арестантами надзирателей, Змеиная Голова по прозванию, разоряет гнезда; щурков под крышею тюрьмы. Щурками, или стрижами зовется в Сибири порода ласточек с большими неуклюжими головами и звуком голоса, похожим на трещание стрекоз. Эти безвредные и милые создания, лепящими свои гнезда под окнами домов и каждую весну возвращающиеся на грустный, холодный север, доставляют большое утешение тюремным обитателям своей хлопотливой заботливостью, неумолкаемой веселой болтовней и чириканьем. Все арестанты очень любили этих птичек и покровительствовали им. Если случалось раздобыть клочок ваты, его разрывали на мелкие кусочки и, разбросав по двору, с живейшим любопытством следили за тем, как щурки подхватывали их и уносили в свои жилища. Завернув иногда в вату камешек, забавлялись тем, как щурку не хватало сил утащить желанную добычу, как, поднявшись на воздух, он ронял ее на землю и снова пытался поднять… Если глупые птенцы с неокрепшими еще крыльями выпархивали преждевременно из гнезд, их бережно подбирали и старались пристроить к подходящей чужой семье, так как родную узнать было трудно. Ласточки, случалось, отказывались от подкидышей и выталкивали их вон. Тогда из среды арестантов всегда отыскивалась сердобольная душа, бравшая на себя материнские заботы и выкармливавшая покинутых сирот тараканами и мухами.
Понятно после этого, как взволновалась тюрьма, услыхав о несчастии, постигшем любимых птичек. Вместе с другими и я вышел на тюремный двор. С длинным шестом в руках Змеиная Голова действительно расхаживал около зданий и разбивал им гнезда злополучных щурков. Из одних валились на землю невысиженные еще яички, из других – голые птенчики; падая, они немедленно разбивались, и множество их корчилось уже в предсмертных судорогах. В редких только гнездах были оперившиеся малютки, да и те не умели еще летать. Сострадательные из арестантов ловили их на лету в шапки и уносили прочь, надеясь как-нибудь выкормить и воспитать. Другие, посмелее, обращались к надзирателю с вопросом, зачем он производит свое избиение.
– Начальник приказал, – отвечал Змеиная Голова, замахиваясь палкой на новое гнездо, – заметил сор на фундаментах и сказал, чтоб этого больше не было.
– Против сора можно бы принять другие меры, – вмешался и я, – велеть, например, парашникам обметать ежедневно фундаменты.
– Не мое это дело, – отвечал Змеиная Голова, – я то исполняю, что мне приказывают.
– А если б вам приказали об стенку головой биться, – заметил староста Юхорев, – или нас убивать – вы и это стали б исполнять? Во всем нужно, Василий Андреич, рассуждение иметь.
– За такие неподобные слова я б тебя наказать, Юхорев, мог, если бы захотел. Начальник не может дать мне такого приказания. Он – человек.
– А это приказание человечно? – спросил я. – Птички разве не живые существа? Вон сколько вы побили их! А около всей тюрьмы таких гнезд наберется, пожалуй, несколько сот, с целой тысячей птенчиков…
Кобылка поддержала мои слова громким ропотом. Надзиратель смутился.
– Что же мне делать? – жалобно заговорил он. – Разве мне приятность какую составляет это занятие? С меня самого взыскивают.
– Доложите начальнику, что через две недели птенцы оперятся, и тогда, если нужно, можно будет разорить гнезда.
– Нет, уж благодарим покорно – долеживать. Нас-то он еще больше арестантов прохватывает.
– Так вот я с обеденной пробой пойду сейчас и доложу, – вызвался Юхорев.
– Ну и распрекрасное дело, – смягчился Змеиная Голова. – До одиннадцати часов я могу повременить. Мне что! Я даже еще рад.
Юхорев, отправившись к Шестиглавому с пробой, действительно имел с ним любопытную беседу по поводу щурков. Этот умный и представительный разбойник умел говорить весьма патетически… Лучезаров спокойно выслушал его и сказал с насмешкой:
– Ага! Поздненько надумались. В каторге жалости начали набираться? На воле семьи вырезывали, маленьких детей живьем жгли: среди вас есть один такой артист… Да ты и сам, помнится, не одного человека покрошил?.. А тут птичек пожалели!.. Вздор, вздор, лицемерие. Изволь сказать надзирателю, что я приказываю все гнезда разорить к вечеру. На поверку я сам приду посмотреть.
Юхорев принужден был замолчать, и с обеда возобновилось иродово избиение младенцев. Кобылка ограничивалась тем, что в присутствии Змеиной Головы злобно обсуждала ответ Шестиглазого.
– Это точно, что я был варвар, – говорил Сокольцев, принявший на свой счет сделанный Лучезаровым намек, – такой варвар, каких и на свете мало. Но все же и я до такого варварства не доходил, как вы и ваш начальник. Без крайней нужды я мухи не убивал, не только что пташки. Потому что, по моему понятию, меньше греха вредного человека убить, чем невинное божье творенье – ласточку. Из ребенка может образоваться со временем первейший варвар, а ласточка никому никакого вреда причинить не может.
Эта философия Сокольцева с большим сочувствием выслушивалась собравшимися на дворе арестантами, на все лады развивалась и иллюстрировалась примерами; но ласточкам оттого не было легче: гнезда так и валились под неистовыми ударами Змеиной Головы. Взрослые щурки с жалобным писком вились целыми десятками вокруг своих дорогих пепелищ, но поделать ничего не могли. Только часа два спустя в тюрьму полюбопытствовал заглянуть сам Лучезаров и, увидав собственными глазами работу Змеиной Головы, приказал остановить кровавое побоище. Уцелело, таким образом, около сотни гнезд; но главное дело было уже сделано. Множество маленьких трупиков долгое еще время валялось по всему двору, вызывая тяжелые воспоминания… Приблизительно в эту же пору произошло другое неприятное событие. Вернувшись раз из рудника, я чрезвычайно был удивлен, узнавши, что наша камера № 1 подвергнута на целый месяц тяжкому наказанию: заперта на замок, закована в наручни, лишена табаку, собственного чаю, свиданий и переписки с родственниками; камерный староста посажен, кроме того, на неделю в темный карцер. В числе прочих и я должен был подвергнуться назначенному для всего номера режиму. Оказалось, что утром этого дня приходил в тюрьму с обыском сам Шестиглазый и заметил, что дверной пробой в нашей камере несколько шатается. Немедленно же велел он одному из арестантов притащить лом и вытаскивать им пробой. Несколько арестантов, один за другим, пытались сделать это и не могли.
– Не так вы делаете, – вызвался тогда один из надзирателей и, взяв лом в руки, начал крутить им пробой наподобие винта. Этим способом действительно удалось его вынуть. Приказавши отнести пробой в кузницу и перековать по-новому, а камеру арестовать, Лучезаров в гневе удалился. Все недоумевали. Дело объяснилось только на вечерней поверке: старший надзиратель перед строем арестантов прочел приказ по Шелайской тюрьме, в котором значилось, что при обыске, произведенном самим начальником, дверной пробой в камере № 1 оказался "вынутым", что несомненно будто бы свидетельствовало о подготовлявшемся побеге. Все разинули рты, выслушав этот приказ, – так он был неожидан и удивителен! Посудив и погалдев втихомолку, кобылка, как водится, покорилась своей участи, и не подумав даже протестовать против причиненной ей явной несправедливости; но я, признаться, волновался… Мне было тем обиднее и больнее, что одна из наложенных кар (лишение переписки) относилась прямо ко мне, и только ко мне, так как большинство остальных арестантов писало письма не чаще одного раза в год… Осмотрев тщательно то место двери изнутри камеры, где выходил наружу конец старого пробоя, я заметил, что оно так же гладко покрыто краской, как и вся остальная дверь: ясное доказательство того, что загнутого конца пробоя никогда не существовало и что никакой умышленной порчи его не могло быть. Кроме того, и арестантам и надзирателям отлично было известно (и это всегда легко было проверить), что дверные пробои и во многих других камерах точно так же шатались, как у нас, и, очевидно, при самой постройке тюрьмы были непрочно вколочены. Не говорю уже о том, что приготовление к побегу через дверь камеры, выходившую в запертый со всех сторон коридор, где постоянно присутствовал надзиратель, было бы явным безумием, и предположить такое безумие могло только намеренно-злостное желание создать первый попавшийся предлог для новых придирок и притеснений. Но и предлог-то был крайне неудачно и нехитро выбран… Подобные размышления страшно волновали меня и злили. В первый же воскресный день я потребовал себе жалобную книгу и вписал в нее заявление об оказанной мне и всей камере несправедливости. Ближайшим результатом этого заявления было то, что дня через три наш староста, наиболее ответственное по закону лицо прямо из темного карцера был выпущен в вольную команду… Этим как бы еще рельефнее подчеркивалось бессмыслие нашего ареста. Шестиглазый как будто говорил нам: "Я сам знаю, что обвинение мое вздорно и несправедливо; но помните денно и нощно, что я – что хочу, то и делаю".
Ровно через полгода после этой истории, уже почти забытой всеми, на вечерней поверке торжественно было объявлено, что моя жалоба на незаконное якобы наказание за вынутый арестантами дверной пробой оставлена заведующим Нерчинской каторгой без последствий.
Камера наша сидела еще под арестом, когда из управления пришли приговоры Лунькову и Ногайцеву за отказ от работы и обругание надзирателя: первый, как более виновный, лишался скидок "за поведение" (что равнялось надбавке одного года каторги) и подвергался ста ударам розог, а второй присуждался к месяцу заключения в темном карцере и пятидесяти розгам (из управления приходят обыкновенно те самые решения, какие предлагают в своих докладах смотрителя тюрем). Лунькова действительно тотчас же высекли в одном из карцерных двориков, а Ногайцев отделался карцером; когда он вышел оттуда, гроза уже пронеслась – Лучезаров был снова в гуманном настроении, и розги были забыты.
В эти же дни бравый штабс-капитан вел упорную войну с каторжными женщинами, находившимися в вольной команде. Женской тюрьмы при Шелайском руднике не существовало, но для исполнения некоторых чисто женских работ и в нем постоянно имелось несколько каторжанок, нередко бессрочных, которые, за отсутствием тюрьмы, жили на воле. В дорожных воспоминаниях я рассказывал о том, что уголовная каторжанка в большинстве случаев и продажная вместе с тем женщина. Скопление огромного количества, мужчин, арестантов и казаков, при полном почти отсутствии женского элемента, делало то, что в Шелайской вольной команде эти пять-шесть каторжанок были в буквальном смысле коммунальными женами… Разврат достигал ужасающих размеров. Бесстыдство некоторых из этих мегер, всегда почти пьяных и не боявшихся никаких наказаний, доходило до какого-то кретинизма. Уничтожить внешние безобразные проявления разврата можно было только двояким путем: или увеличением числа женщин, или же высылкой из шелайских пределов и тех, какие были налицо. Лучезарову хотелось найти третий путь: он верил в целебную силу репрессий и строгих изысканий. В это роковое лето он особенно неусыпно стоял на страже арестантской нравственности и каждый день целыми толпами присылал в тюремный карцер вольнокомандцев и самих женщин. В последнем случае, несмотря на крики и угрозы надзирателей, под окнами секреток с утра до вечера бродила и шныряла кобылка; шли приятные разговоры с обменом комплиментов, почерпнутых, уж конечно, не из "Хорошего тона" Гоппе{40}836-1885) – издатель. Выпущенная им книга "Хороший тон, сборник правил и советов на все случаи жизни общественной и семейной" выдержала с 1881 по 1910 год пять изданий.} тайно передавались в карцера мясо, чай, сахар и табак. Но чисто платоническая любовь, понятно, не могла удовлетворить тюремных ловеласов, или "любителей", как называются они на арестантском жаргоне, и вскоре были пущены в ход вся арестантская хитрость, ловкость и дерзость: ведь в случае поимки на месте преступления грозила не пустая какая-нибудь кара, и требовалась действительно дерзкая отвага и решимость…
Среди каторжных Лаис была одна, до тех пор менее других развращенная и бесстыдная, но теперь преимущественно обрушившая на себя громы и молнии лучезаровского гнева. Лучезаров недоумевал, почему кроткая и тихая прежде Еленка превратилась внезапно в нахальную грубиянку, которую не могло сделать покорнее и нравственнее даже ежедневное почти сиденье в темном карцере. Ему и в голову не приходило, что в то самое время, когда вокруг полновластно царил, казалось, ужас, наведенный на арестантов его строгостями, карцерами, наручнями, розгами, лишением скидок и пр. – в эти самые дни тюрьма, его образцовая тюрьма, сделалась притоном разврата, и что собственные его мероприятия способствовали этому! Что почувствовал бы бравый штабс-капитан, что он сказал бы, если бы хоть во сне увидал однажды, как ненавистные ему "артисты", расставив на дворе стрёму, перелезают через забор карцерного дворика, проникают в "секретный" коридор и идут на тайное свидание к Еленке Зоновой через искусно разбирающуюся деревянную стенку карцера?[59] Вероятно, он сошел бы с ума или умер от апоплексического удара…
За время пребывания своего в карцерах эта каторжная сильфида успела приобрести и вынести на волю несколько десятков рублей! Дерзость "любителей" достигла наконец того, что даже из одних карцеров в другие были проделаны тайные ходы, так что сговорчивая Еленка и днем и ночью находила себе работу, а для арестантов попасть в карцер стало не только не страшным, но даже прямо желательным делом. Когда впоследствии надзиратели открыли эти потаенные ходы, то пришли в ужас и, не решившись донести о них Шестиглазому, при ближайшем ремонте карцерных помещений собственной властью заставили арестантов заделать их. Я сам узнал только много позже об этих романических похождениях своих сожителей и долгое время недоумевал, что означали все эти перешептывания, таинственная беготня, загадочные остроты над Чирком, и пр., и пр., – так невероятно было то, что я рассказываю. Лучезаров, еще меньше моего подозревавший истину и полагавший, что гроза его гнева единственно могучее средство исправления арестантских нравов и обуздания страстей, продолжал между тем свой негодующий поход против женщин.
В один прекрасный день разнесся по тюрьме слух, что Шестиглазый отдал Зонову и вольнокомандца Калинкина под суд за непристойное поведение на глазах у маленьких детей одного из надзирателей. Один ребенок был двух лет, другой трех. Кроме них свидетелей не было, и, должно быть, маленькие доносчики получили хорошее воспитание, если могли понимать подобные вещи… Из управления получился приказ: Калинкина посадить до срока в тюрьму, а Зонову подвергнуть ста ударам розог. Лучезаров долго не объявлял этого приказа и, посадив Калинкина в тюрьму, относительно Зоновой, сидевшей по-прежнему в карцере, не принимал никаких мер. Срок ее каторги между тем кончился; уже пришел конвой, который должен был отвести ее на поселение, и можно было надеяться, что жестокий приказ не будет приведен в исполнение. Однако надежда и на этот раз обманула… Рано утром Зонову вывели из карцера и за воротами тюрьмы, недалеко от нее, свирепа наказали. Палачами были татары-арестанты, как говорят, имевшие злобу против своей жертвы; а присутствовавший при экзекуции старший надзиратель, прикапывая им сечь сильнее, отпускал по адресу истязуемой шуточки, которые невозможно передать в печати.
Я хорошо знал, что женщина эта стояла на низшей ступени нравственного падения и что в обыкновенное время в ней было, быть может, не больше стыдливости, чем в последнем из арестантов; знал это – и, однако, не мог отделаться от мысли, что высекли женщину, надругались в лице ее над тем, что делает человека человеком, а не скотом. Да и кто поручится, что в страшную минуту истязания даже и в этой падшей душе не шевельнулось чувство, до тех пор подавленное невежеством и развратом, – чувство опозоренной женщины?
Об этом именно подумал я, когда узнал, что тотчас же после наказания каторжные подруги Еленки, такие же, как она, погибшие и несчастные создания, собрались вокруг нее и долго молча плакали..[60]
X. Любопытная беседа
Недели две спустя после этого события совершенно неожиданно я вызван был в тюремную контору. За широким письменным столом сидел, сияя во все лицо, Лучезаров, плотный, румяный, видимо довольный в это утро собой и всем на свете. Я безмолвно поклонился.
– Тут опять получилась на ваше имя посылочка, – любезно проговорил бравый штабс-капитан, – потрудитесь сами раскупорить и принять во всей целости и невредимости. Да, кстати, я хотел спросить вас… лично спросить: как ваше здоровье?
Я сухо спросил, какая может быть причина подобного внимания?
– Видите ли, – отвечал Лучезаров несколько смущенно, – одно лицо в Петербурге осведомляется у меня об этом…
– В Петербурге? – удивился я еще больше. – В Петербурге одна только мать может интересоваться моей судьбой, но я веду с ней сам переписку.
– Нет, есть, значит, и другие лица… По крайней мере одна особа – и заметьте: сановная особа! – просит меня телеграфировать ему о вашем здоровье.
– Ничего не понимаю. Объяснитесь, пожалуйста. Лучезаров после мгновенного колебания подал мне телеграмму. Я прочитал: "Телеграфируйте здоровье N. Родные тревожатся". Следовала небезызвестная подпись. В сильном беспокойстве я бросил на Лучезарова пытливый взгляд.
– Почему же мои родные тревожатся? Почему они лично мне не телеграфировали, а обратились к постороннему человеку?
Мучительное подозрение мелькнуло у меня в голове. Я вспомнил, что три недели назад был день моего рождения, – день, который на воле торжественно праздновался, бывало, в нашей семье; вспомнил, что я поджидал в этот день даже поздравительной телеграммы. Потом, в чаду быстро сменявшихся тяжелых впечатлений, я позабыл об этом; но теперь подозрение мое превратилось тотчас же в уверенность.
– Вы, должно быть, задержали телеграмму моей матери? – спросил я Лучезарова взволнованным голосом.
– Да, я должен в этом сознаться… Действительно… – торопливо заговорил он. – Но… видите ли. Вы не вините меня. Я по долгу службы (конечно, как я ее понимаю) не мог передать вам той телеграммы.
– Почему?
– Потому что… она показалась мне подозрительной.
– Подозрительной? Телеграмма матери?
– Да. Теперь-то я вижу, разумеется, что ошибался, но тогда…
– Бога, ради, в чем заключалась телеграмма?
– Спрашивалось о здоровье и посылалось поздравление.
– И только? Но поздравление было с днем рождения… Что могли вы тут заподозрить?
– Да! Но почему же не было упомянуто, с чем именно вас поздравляли? Лишних каких-нибудь два слова…двадцать копеек… и ничего бы этого не случилось!
– Телеграмма была с уплоченным ответом?
– Да.
– И вы ничего не ответили хоть сами?
– Нет!
– Но вы могли по крайней-мере сообщить мне, что случилась телеграмма, которая не может быть выдана! право, не знаю, как назвать ваш поступок. Что подумает моя мать, не получив ответа? Представляю себе, сколько начальств она обошла, прежде чем наткнулась наконец на сострадательную душу.
– Да, это верно, верно. Горькая правда. Я не подумал в то время; я действительно был виноват. Мы поспешим исправить ошибку. Я телеграфирую сановному лицу, которое спрашивает… Скажите: что именно я должен написать?
Я с сердцем отвечал, что мне нет ни малейшего дела до сановного лица, что оно не ко мне обращается, и он может отвечать ему что хочет.
– Но все-таки… Написать: здоров, бодр?
– Повторяю: пишите, что вам угодно. Я пошлю телеграмму самой матери!
– Прекрасно, прекрасно. Вот бумага, садитесь и пишите сейчас же. Вот и бланки для телеграмм. У меня они всегда есть. Пишите, пожалуйста, я немедленно отошлю на станцию. Вижу, что доставил вам сильное огорчение. В нынешние времена подобная привязанность к родителям редкость, и она сильно меня трогает.
Эти развязные слова, от которых веяло бессердечным самодовольством, опять взорвали меня. Я снова разразился горькими упреками.
– Преследуйте меня, оскорбляйте, мучьте, – сказал я с нервной дрожью и слезами в голосе, – я человек со связанными руками… Но по какому же праву и за что мучите вы не повинных ни в чем людей – мою мать, моих родных?
Лучезаров на минуту, казалось, растерялся и, покраснев как пион, не знал, что делать, что говорить.
– Я, кажется, не мучил вас, не оскорблял, – лепетал он, – совсем даже напротив…
– И вы говорите это не против совести? – продолжал я свое нападение. – Вы не унижали меня в истории с пробоем? Во всех несправедливых прижимках и придирках, которые делали арестантам, в том числе и мне? Вы полагали, что я равнодушно смотрю на то, что в тюрьме проливается кровь и совершается надругание над женщиной?
– Я вижу, что вы сильно взволнованы и не знаете, что говорите, – отвечал Лучезаров, понижая голос почти до конфиденциального шепота. – Выйди, братец, за дверь! – обратился он громко к стоявшему тут же с ружьем часовому. Тот немедленно повиновался.
– Совершенно напрасно вините вы меня за отношение к арестантам, – начал он свое оправдание. – Что касается вас лично, то как могу я выделять вас из общей массы? У меня нет даже права на это. В истории с пробоем, например, я упустил даже из виду первоначально, что вы находились в этой самой камере.
– Но неужели вы до сих пор искренно убеждены, что были правы в этой истории?
– Видите ли что, вы судите как частное лицо и отчасти несколько заинтересованное… Можно сказать, пострадавшее… Вы не в состоянии вникнуть в положение лица, начальствующего над таким… таким сложным учреждением, как каторжная тюрьма. Я сомневаюсь даже, чтобы вы успели хорошо узнать, что за артисты господа арестанты. Вы слишком для этого неопытны в жизни и… слишком неиспорченны! Для того чтобы держать их в узде, нужно уметь быть страшным, нужно употреблять время от времени грозные меры!
– Но все-таки справедливые меры…
– Конечно, конечно. По возможности… Знаете ли вы, например, что весной нынешнего года я получил сведения о подготовлявшемся побеге и о том, что один из этих артистов находится именно в вашей камере?
Я вспомнил о пилках Сокольцева и, внутренно улыбнувшись, промолчал. Лучезаров продолжал, устремляя на меня торжествующий взгляд:
– Не так-то легко решаются вопросы, как вам кажется. Острастка была необходима. Я хорошо знаю каторжный мир, я десять уже лет имею несчастье вести знакомство с этими артистами. Но признаюсь вам: начальство над Шелаевским рудником я принял с самыми радужными мечтаниями, с верой в человека, даже и заклейменного позором, с надеждой, что для исправления и обуздания его достаточно одних угроз и обычных мер наказания… Поверьте: я серьезно и с полным убеждением говорил… перед строем говорил… что не хочу прибегать к телесному наказанию. И не прибег бы!
– Но, однако, прибегли? Вы сделали то, о чем вспомнить нельзя без краски стыда, – наказали женщину!..
– К чему так сильно чувствовать?.. Знаете ли вы, что это была за женщина?
– Все равно. Важно не то, какая она, а то, что она женщина.
– Но что ж было делать? Я видел, как все другие средства, предоставленные мне законом, бессильны, как распущенность и наглость этой твари доходит до невозможного, и значение власти так или иначе следует поддержать.
– И розгами, вы думаете, поддержали его? В чьих это глазах? Известно ли вам, что любой арестант предпочтет небольшую порцию розог месяцу тяжкого заключения в карцере?.. Или, быть может, в глазах образованного мира? Однако скажите, желали ль бы вы, чтобы печать русская и заграничная называла ваше имя в связи с таким фактом, как поругание женщины? Наверное, нет? Вы достигли одного, что замарали свое имя!
– Довольно, довольно. Прекратим этот разговор. Хотел бы я посмотреть на того, кто осмелится замарать мое имя!
– Я имел в виду не оскорбить вас, а только открыть вам глаза на настоящее положение вещей. Телесными наказаниями можно, по моему мнению, и неиспорченных людей испортить, окончательно принизив в них чувство человеческого достоинства, заставив утратить последнюю искру стыда.{41}
– Возможно, конечно, что вы правы. Я действовал в порыве отчаяния. Все мои добрые намерения терпели одно за другим крушение, я видел кругом одну черную неблагодарность и низость. Сам господь бог вышел бы на моем месте из терпения! Во всяком случае, я поступал на основании закона. Из пределов законности я не выходил. Что делать, если и законы наши еще не совершенны! Больше всего, впрочем, огорчает меня, что я причинил такие неприятности вашей матушке. Не могу ли я чем-нибудь загладить свою вину перед нею?
Я молча пожал плечами.
– Однако? Подумайте… Не послать ли мне ей от себя телеграмму?
– Это лишнее. Будьте добры – отошлите сегодня же вот эту мою телеграмму. Этого будет достаточно. Что сделано, того не вернуть. Пожелаем только, чтобы впредь не случалось подобных… недоразумений.
– Да, именно недоразумений! Вот настоящее слово…. Весьма печальное недоразумение!
Забрав свою посылку, я раскланялся и поспешил в тюрьму, полный горестных чувств и мыслей о матери, о том, что должна была выстрадать за эти ужасные три недели моя бедная старушка. Впоследствии я получил от нее письмо, в котором были описаны все ее муки, письмо, растерзавшее мне сердце… Не знаю, чувствовал ли какие-нибудь угрызения совести бравый штабс-капитан, но после описанной беседы дышать в тюрьме стало опять легче: прекратились на время свист розог, сажания в карцер, лишения скидок.







