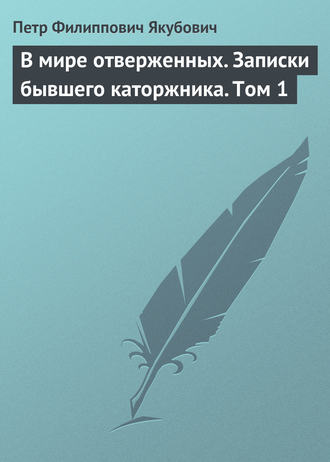
Петр Филиппович Якубович
В мире отверженных. Записки бывшего каторжника. Том 1
XVI. Шах-Ламас
Шел месяц за месяцем, а в вольную команду всё никого не выпускали. То говорили, что постройка зимовья не окончена, то – что в управлении задержана почему-то "представка", сделанная Шестиглазым. Слухи об этой представке почти уже замолкли, и кандидаты на выход в вольную команду повесили носы, как вдруг в тюрьме началось опять оживление и шушуканье. Тюремные "вестники" – Гнус, Тарбаган, сапожник Звонаренко и другие – то и дело шмыгали из камеры в камеру и передавали, что теперь головой уже готовы поручиться за верность известия: получилась представка на тридцать пять человек; сообщали об этом по секрету самые надежные люди; один из лучших надзирателей, писарь из конторы, и, наконец, Марьюшка, любимая горничная Шестиглазого… Волнение было написано на всех лицах. Волновались даже те, кто сам отнюдь не мог рассчитывать на освобождение из тюрьмы, – вечники и тридцатилетники.
В этом обстоятельстве ярче всего сказывался невыносимый гнет тюремных стен и шелайского режима. Одна мысль о том, что целых тридцать пять человек, живущих здесь же, этою самою жизнью, страдающих от тех же причин и условий, через каких-нибудь несколько дней станут почти вольными людьми, не будут видеть за своей спиной "духа" со штыком и слышать ежеминутно грозных окликов надзирателя, одна эта мысль зажигала сердца всех радостью, вчуже заставляя предвкушать восторги свободы…
А гнет действительно был немал, несмотря на мелкие послабления, о которых было рассказано выше. Как ни чуждо большинству каторжных сознание своего человеческого достоинства, но и им было, несомненно, больно, когда на каждом шагу попиралась их личность, ежесекундно давалось им чувствовать, что они, в сущности, не люди, а какая-то особая порода животных, называемая каторжными. Не без горечи рассказывали однажды в тюрьме взявшийся откуда-то слух о том, будто Лучезаров, ругая провинившегося в чем-то слугу-вольнокомандца, кричал:
– Ты – каторжный! Ты – раб и ничего больше! Ни божеских, ни человеческих прав у тебя нет, вон как у тех быков, что возят мне воду! И ты должен так же беспрекословно повиноваться, как они!
Скептически относилось поэтому большинство и к высказанному им перед строем взгляду на телесное наказание.
– Вот помяните мое слово, братцы, – говорил, расхаживая по камере, огневолосый, до комизма крошечный старичок, Жебрейчик по прозванию,[49] всегда озлобленный против всего на свете и самого себя, по выражению арестантов, любивший только один раз в году, – помяните мое слово, братцы, первого же, кого он выпорет, мертвого на рогожке вынесут!
Уж он напьется нашей крови, любит он человечецкую кровь. А что до сих пор не заглядывает он нам под рубахи, так это потому, что он – змей шестиголовый и шестиглазый. Посмотрите на его брюхо: не иначе как перед самым нашим приходом живого человека слопал – вот пока и сыт… И чувствую я, сердечушко мое чует, в ухо так вот и шопчет кто-то, так и шопчет, что и мне несдобровать от его руки… Или мне от него, или ему от меня погибнуть. Чему-нибудь быть да уж быть!..
И, глубокомысленно вперив глаза куда-то вдаль и смехотворно расставив маленькие ножки, полусумасшедший Жебрейчик величественно останавливался посередине камеры. Велико же было его злорадство, когда тюрьме разнесся раз слух, будто бравый штабс-капитан собственноручно избил двух каторжанок, живших у него в услужении, одной разбивши в кровь нос, другой растрепав косы. Трудно было, конечно, проверить, живя под замком, справедливость арестантских сплетен, но Жебреек и не подумал подвергать их сомнению:
– Скоро, скоро теперь и до нас доберется! – пророчески вещал он, поднимая кверху указательный перст и так грустно качая головой, точно готовился к какому-то великому подвигу.
К счастью, пророчество пока что не исполнялось. Тюремных арестантов бравый штабс-капитан не только не тронул никогда пальцем, но и не обругал нехорошим словом. Тем не менее все боялись его как огня. Личность Лучезарова невольно как-то давила и пригнетала к земле; каждый чувствовал себя в его присутствии как собака при виде поднятого над нею кнута… Полное презрение к человеческой личности ощущалось в каждом его взгляде, слове, поступке. Все было в нем как-то бездушно-законно и бесчеловечно-справедливо. Лучезаров гордился своей неподкупной честностью, и действительно, арестанты все единогласно признавали, что нигде не доходило до них так своевременно и сполна все, что полагается по закону, как в Шелайском руднике; ни в какой другой тюрьме не заботились так о чистоте и гигиене. Но для каждого ясны были, с другой стороны, и мотивы этой беспримерной справедливости и заботливости; вытекали они не из живой любви к живым людей, а из жажды славы и отличия перед высшим начальством, и самое большее – из любви к самому принципу законности и справедливости, к искусству ради искусства. Самих арестантов Лучезаров третировал в глаза и за глаза как животных, не подозревая, конечно, того, что животные эти ловили каждое его слово и умели иногда являться остроумными и беспощадными критиками. Так, они никогда не могли забыть его заявления, сделанного в первый же день знакомства, что одному надзирателю он поверит больше, чем семистам арестантов. В другой раз он заявил где-то (и это также передавалось из уст в уста), что расстояние между каторжным и надзирателем такое же, как между ним, штабс-капитаном Лучезаровым, и… самим богом! Вообще он направлял, видимо, все усилия к тому, чтобы возможно большей помпой обставить свое величие и авторитет исполнителей своей воли. У него было мудрое правило, несомненно преследовавшее ту же цель: никогда не отменять слишком быстро ни одного своего распоряжения, хотя бы оказавшегося тотчас же явно нелепым и несправедливым. Очевидно, он был большой политик, мечтавший пойти далеко… Впрочем, однажды и сам Лучезаров приведен был в смущение, когда среди торжественной церемониальности вечерней поверки общий староста Юхорев заявил неожиданно из строя громогласную жалобу, от лица всей артели, на одного из стоявших тут же надзирателей, который позволял себе толкать арестантов в грудь и обзывать самыми скверными словами. Лучезаров на этот раз, казалось, опешил от неожиданности; молча стоял он некоторое время, откашливаясь и хмыкая, как бы не зная, что делать. Но потом, кратко пробурчав: "Я разберу! – величественнее чем когда-либо приказал надзирателям разводить арестантов по камерам. Само собой разумеется, что так никто и не узнал никогда, в чем состояло обещанное разбирательство… Нелюбимый надзиратель остался по-прежнему надзирателем и хотя перестал толкать арестантов в грудь, но сделался еще грубее и нахальнее. Этот надзиратель, Безымённых по фамилии, был правой рукой Лучезарова, и его ненавидели за это не только арестанты, но и товарищи по службе. Будучи доносчиком по призванию, он не вступал ни в какие соглашения с кобылкой и был гак же формалистичен и бездушно-законен, как и его патрон; но он вносил в это дело страсть и огонь, и, быть может, справедливо выражался о нем Лучезаров, говоря, что из всех надзирателей один Безымённых относится к своей деятельности с "религиозной" преданностью… Целый день шнырял он по тюрьме, то подкрадываясь как кошка и настораживая уши, то налетая как вихрь и накрывая виновных; целый день кричал, бранился, придирался и грозил арестом и жалобами. И его дежурство всегда несколько человек попадало в карцер. Вся тщедушная фигурка Безымённых с красным лицом, сплошь покрытым угрями, внушала даже и мне, с которым он был по-своему вежлив, отвращение. Он требовал, чтобы арестанты за малейшим пустякам обращались к нему не иначе, как со словами "господин надзиратель", чтобы при встречах с ним, хотя бы сто раз в день, неукоснительно снималась шапка, и делая раз выговор кому-то из ослушников, кричал на весь коридор:
– Начальник заставит вас и перед женами нашими скидавать шапку!
Последнее особенно возмутило кобылку.
– Как! Чтоб мы перед бабой, перед всякой шкурой, стали шапку ломать? – либеральничали повсюду, тут же оглядываясь, впрочем, на дверь. – Да лучше пущай в карец сажают, заморят там!
Не столько строгостью и формализмом вооружил против себя Безымённых тюрьму, сколько именно презрением к человеку, который стал каторжным, презрением, сквозившим в каждом его слове и жесте, даже в интонации голоса.
Надзиратель этот мнил себя, между прочим, образованным и начитанным человеком, и действительно, никто из его товарищей не читал охотнее и больше его. В дни дежурства при нем постоянно находился какой-нибудь переводный французский роман с раздирательно-кровавым заглавием. У него была, кроме того, тетрадь, в которую он записывал татарские слова с переводом на русский язык, и, полюбопытствовав однажды заглянуть в нее, я узнал, что это был словарь всевозможных ругательств и гадких слов.
– Зачем это вам? – спросил я.
– А как же, – отвечал он, самодовольно осклабляясь, – другой раз проходишь мимо этого зверья, и не знаешь, что они там за спиной твоей лопочут… Быть может, тебя же ругают! И нельзя даже в карцер посадить!
Этого, однако, мало. Безымённых был также и поэтом, сочинял злые сатиры на арестантов и на товарищей-надзирателей, писал доносы в стихах, которые и представлял иногда благоволившему к нему Лучезарову. Однажды у него вышла по этому поводу целая баталия с надзирателем Петушковым. Безымённых написал на него сатиру, получившую в шелайском мире широкую популярность и заключавшую в себе следующий куплет:
Как шкелет, сухой, ледащий,
Он поет, поет без слов,
И прозванье подходяще,
Лаконично: Петушков!
Этот убийственный куплет и особенно почему-то непонятное слово "лаконично" показались Петушкову кровным оскорблением, которое невозможно было стерпеть. Он нарядился в парадную форму и отправился к правому штабс-капитану с ультиматумом: или он, Петушков, или Безымённых, тот или другой должен выйти и отставку… Но Лучезаров сумел придать делу шуточный оборот и уклониться от представленного ему ультиматума. Он был чрезвычайно высокого мнения о Безымённых.
– Грубоват он, это правда, – отвечал он обыкновенно на все обвинения против своего любимца, – но что, в сущности, не мешает. Такой мягкий по натуре начальник, как я, обязательно должен иметь палача-исполнителя!
Вот почему все подкопы и подвохи арестантов и самих надзирателей под Безымённых были долгое время напрасны. Он держался прочно и погиб тогда только, когда бог лишил его разума и, соблазнившись даром стихоплетства, он сочинил сатиру на самого своего покровителя. Враги поспешили представить ее по адресу, и злополучный поэт чуть не в двадцать четыре часа был удален от должности…
Другой из нелюбимых арестантами надзирателей, Воронков,{33} был совсем еще мальчик, с едва пробивавшимся пушком на губах, хорошенький, как красная девушка, но нахальный и развращенный, как самый последний из каторжных. Власть, видимо, опьяняла его. При обысках у тюремных ворот, во время ежедневных выходов на работу, он бывал особенно дерзок и циничен. Остерегаясь много "чирикать", по арестантскому выражению, со мною и желая в то же время мне доставить неприятность, он ограничивал свой обыск по отношению ко мне тем, что, проходя мимо, как-то особенно нагло хлопал меня ладонью по шапке; сделать этого он никогда не забывал. Впрочем, Воронков был страшный трус и если встречал со стороны арестанта сколько-нибудь серьезный отпор, то немедленно поджимал, как заяц, хвост и сносил порою такие резкие ответы и даже прямые ругательства, какие потерпел бы не всякий из шпанки.
Сознание бесправности и каторжной бессудности чувствовалось в Шелайской тюрьме на каждом шагу, во всех мелочах жизни. Лучезарову не нравилось, например, чтобы во вверенной его управлению тюрьме числилось чересчур много больных, и пьяница фельдшер, приходивший в тюрьму за тем только, чтобы выпить или взять с собою из аптеки бутылку спирта, в точности исполнял его желание: у него никогда не было занято в лазарете более половины коек, и если оказывалось невозможным не принять кого-либо из вновь захворавших арестантов, то из старых обязательно один должен был выписываться, как бы ни чувствовал себя слабым. Кроме того, бравому штабс-капитану не нравилось, чтобы в Шелайской тюрьме были "богодулы", то есть слабые арестанты, неспособные к тяжелым физическим работам.
– Моя тюрьма – рабочая тюрьма, – заявлял он, – а не богадельня. Я не виноват в том, что ко мне присылают стариков, больных и увечных. Никаких богодулов я не желаю поэтому признавать. Все без исключения должны числиться на работе, раз не лежат в лазарете!
И действительно, он ухитрялся даже рассыпавшимся от дряхлости старичкам подыскивать какое-нибудь занятие, изобретать рабочую должность. У него было при этом предвзятое и часто совершенно неверное мнение, будто работы камерных старост, парашников и прочих "уборщиков" – самые легкие работы, наиболее подходящие для богодулов, и потому назначал на них стариков и слабосильных. Между тем должности эти были одни из самых тяжелых и хлопотливых. Два раза в неделю парашники и старосты обязаны были мыть столы, скамьи, нары и полы, ползая при этом с тряпкой в руках на коленках, так как швабры почему-то' строго запрещались. Камеры должны были блестеть как стекло. Старосты же обязывались ежедневно чистить в кухне картошку, а когда в тюрьме уменьшалось число арестантов, возить также дрова и воду. Летом их же функция была – садить и поливать капусту на огородах. При назначении камерных старост никогда не наводилось у фельдшера справок о здоровье кандидатов на эти должности, и нередко поэтому случалось, что заведомые сифилитики и чахоточные мыли нам посуду, делили наше мясо и хлеб. В парашники назначались первоначально добровольцы, но затем Лучезаров перестал справляться с желанием или нежеланием арестантов идти на эту должность и отказывавшихся от нее начал сажать в карцер. Вскоре он пришел почему-то к убеждению, что работа эта будто нарочно создана для татар, к которым он, подобно кобылке, безразлично причислял и настоящих татар, и кавказцев, и сартов. Этого обстоятельство и послужило поводом к одной истории, которая окончилась трагическим образом для одного из арестантов и явилась для всей тюрьмы началом новой, еще более мрачной эры.
Был в Шелайском руднике один странный лезгин с сильно серебрившейся уже головой, не раз бегавший из каторги и не раз за это изувеченный и израненный пулями и штыками, человек несомненно болезненный и слабосильный. Только глаза Шах-Ламаса, большие и черные, гордо глядевшие с высоты красивого орлиного носа, говорили еще о несокрушимой внутренней энергии и пламенной ненависти к врагам-урусам. К физической работе он был мало годен, и на нем-то остановился Лучезаров, когда, обходя однажды камеры на вечерней поверке, узнал, что один из прежних парашников захворал и помещен в лазарет.
– Так вот этого старика назначить, – решил он, указывая надзирателям на Шах-Ламаса, – это самая татарская работа.
И с этими словами величественно выплыл из камеры. Шах-Ламас, услыхав от товарищей, в чем дело, онемел сначала от изумления и гнева, потом громко стал кричать:
– Мой – парашник? Татарска лаборт? Моя показал бы тебе Кавказ татарска лаборт! Сичас секим-башка!
Насилу его успокоили и уговорили, не затевая истории, сказаться наутро больным. Этим путем действительно удалось на время отделаться от неприятной работы; но прошел день – и надзиратели, помня приказание начальника, опять назначили злополучного лезгина парашником. Тогда Шах-Ламас наотрез отказался повиноваться. Целую неделю его продержали за это в темном карцере и, выпустив, опять велели таскать парашки.
Уходя в этот день в рудник, я был уверен, что Шах-Ламас снова откажется, и, признаюсь, с некоторым любопытством ожидал развязки этой борьбы начальства с упрямым кавказцем. Возвратившись с работы, я еще под воротами догадался, что в тюрьме произошло что-то необычайное. Нас обыскали с давно забытой уже тщательностью и грубостью; котелки и мешки у всех были немедленно отобраны.
– Из чего же мы чай будем пить? – жалобно вопрошала кобылка.
– Для казенного чаю казенная посуда есть, – отвечал дежурный надзиратель, – а свой чай запрещен.
– Как так запрещен? Когда? За что?
– А вот там узнаете.
Как горох. посыпались арестанты по тюремному двору, торопясь скорее в камеры, чтобы узнать о случившемся. Вбежав в коридор, мы увидали, как и в самом начале пребывания в Шелайской тюрьме, что все двери опять заперты на замок. В дверную форточку моего номера выглядывало пухлое лицо Тарбагана, видимо горевшего нетерпением поведать вновь пришедшим великие новости; за ним шевелились рыжие усы Гнуса. Только что надзиратель впустил горных рабочих в камеру, как оба они излились в потоках слов.
– Да стойте вы, черти, толком сказывайте, что случилось!
– Шестиглазого чуть не убили! – выпалил Яшка.
– Не убили, а попотчевали, – поправил Гнус.
– Ну?!
– А вот те и гну!
– Сказывайте путно, не томите. А то тянут, тянут, ровно мертвого за нос. Сказывай ты, Тарбаган!
– Шах-Ламас опять от парашек отказался. Доложили Шестиглазому… Вот он и заявляется сам в тюрьму: "Эт-то, говорит, что? Ослушание воле начальства? А знаешь ли ты, что бывает за отказ от работы?"" Тот, черкес-то, резал в это время хлеб на нарах, закусить собирался. "Моя, говорит, вот что знает!" Да как развернется!.. Ну только тут кобылка путает, потому в камере-то о ту пору никого больше не было… Одни говорят, ножом хватил он Шестиглазого, а другие – ковригой хлеба. Ножом – вернее.
– Ковригой!! – прошипел Гнус, прерывая Тарбагана и от необычайного волнения совсем теряя голос. – Ножом не успел, потому надзиратели за руки схватили.
– Вот будет еще спорить, гнусина проклятая! – рассердился Тарбаган. – Звонаренке же лучше знать.
Он в мастерской был, когда Шестиглазый назад уходил, он своими глазами видел, как у него пола отрезанная, от шинели болталась…
– Не голова ль еще, скажете, болталась? Пропадите вы и с Звонаренкой вместе. Мне сам Прокопий Филиппыч сказывал – кому ж лучше знать? Он первый и схватил черкеса. Озверел, говорит, вовсе, насилу удержали; ругался тоже шибко и в глаза плевался. Ну, да за то ж и надзиратели намяли ему бока, уж так намяли – не рыдай, моя мамонька! А сам Шестиглазый, братцы мои, выхватил, говорят, левольверт из кармана и кричит: "Убью и отвечать не буду".
Обиженный Тарбаган отошел на время в сторону, и л рекой общего внимания всецело завладел Гнус.
– И кузнецов всех четверых, братцы мои, посадили, – шипел он.
– Как кузнецов? Их-то за что?
– А ножик-то? Нож-то откуда у его взялся? Надзиратели тотчас же сказали, что ихней чьей-нибудь работы. Им тоже, пожалуй, здорово теперь влетит.
– Да, всем теперь влетит, – мрачно заметил Никифор Буренков, – уж коли котлы отобрали…
– Вот баба! – прикрикнул на него Семенов. – О том бы плакал, что Шестиглазому брюха не распороли, а он об котлах. Да ты кто? Арестант? Ты в каторгу разве чай шел пить? Не тот ли, что в обозах срезал? Вот они, честные, черт бы их чесал… Котел отобрали – испугался!..
Это резко выраженное Семеновым мнение сразу дало тон нашей камере, определило, как следовало глядеть остальным на поступок Шах-Ламаса. Все выражали ему на первых порах сочувствие и жалели о неудаче его попытки. Тарбаган между тем снова овладел общим вниманием и начал повествовать о том, чему сам был свидетелем.
– Сейчас же, как отвели черкеса в карец, камеры все на замок заперли. Я на куфне был – меня оттуда дежурный в шею вытолкал. Заперли и того ж часу с обыском заявились. Всё до ниточки перебрали и перешарили. Котлы, чашки у кого были камфоровые – вce, все забрали. Тряпочка где лишняя нашлась, иголки, нитки – все как метлой замели. Ножичишек несколько штук тоже нашли, взяли. Книжки Ивана Николаевича, и Чичикова и Собакевича – всех уволокли!..
– Как! И книги тоже? – вскричал я, глубоко опечаленный тем, что так недолго продолжались наши блаженные вечера, полные такой поэзии и оживления.
– Все до одной. Библию только не тронули. Слышно, еще в кандалы всю тюрьму заковывать станут.
– Н-ну?!
– Нет, за нос тяну.
Все невольно повесили головы.
– Ах ты, распостылый Шелай! – заговорил опять Никифор. – Махонький карандашичек в щели у меня был, и тот вытащили. Помешал вишь им!
– Боятся, что Шестиглазому глаз выколешь, – сострил кто-то.
– Нет, что на тот свет родителям записку напишешь.
Мы принялись осматривать и разбирать свои подстилки и вещи, беспорядочно сваленные в одну кучу, спеша узнать, что у кого пропало и что уцелело. Увы! разорение было полное… Малахов, вернувшийся к вечеру из мастерской, принес новую неутешительную весть: камеры думают разбивать по-новому!.. Действительно, страшно неприятно было, сжившись в течение нескольких месяцев не только с людьми, но даже и с нарами, вдруг очутиться в новом месте, рядом с новыми, часто почти незнакомыми соседями, с которыми надо еще сходиться и свыкаться.
– Ну, да и вольная команда теперь улыбнулась, – подбавил Парамон масла в огонь, в раздумье выколачивая о нары свою трубку.
Он сам ожидал скорого выхода на волю, ив голосе его слышалась некоторая досада. Досаду эту, несомненно, испытывали и многие другие арестанты (вольной команды ждали также Гандорин, Тарбаган и Пестров), и, наверное, она прорвалась бы наружу, если бы не страх перед Семеновым; все хорошо видели его горячий, полный насмешки и злости взгляд, устремленный на них с нар, и молчали. Только Гандорин тяжело вздыхал и шептал какую-то молитву.
На вечернюю поверку вышли в этот день с невольным содроганием и ознобом во всем теле. Были уверены, что прибавятся новые неприятности. Ожидали самого Лучезарова… И вот он действительно появился, окруженный обычной помпой и величием. Но торжественнее чем когда-либо развевалась на его плечах шинель и возвышалась на голове белая папаха. Лицо было багрово-красно, и грозно свешивались длинные рыжие усы. Шапок он не разрешил надеть, и когда после молитвы все затаили дыхание и водворилась мертвая тишина, он долго стоял молча, медлительно осматривая бритый строй арестантских голов.
– Вот что! – обычными вступительными словами началась наконец речь, и сердца у всех дрогнули. – Одним из таких же артистов, как вы, сегодня произведено было на меня дерзкое нападение. Артист этот не знал, очевидно, что я не из трусов, что я хожу постоянно вооруженный, готовый застрелить всякого, кто попытается меня оскорбить. Он понесет, конечно, заслуженную кару, но и вы все… да, все!.. все являетесь в моих глазах ответственными за его поступок. И прежде всего ответственен староста той камеры, где он жил. Ему не могло не быть известным, что в камере находится запрещенный законом нож, а также и то, что этот артист способен отваживаться на то… на что он отважился. За то же самое отвечает и вся камера номер семь. Поэтому объявляю эту камеру арестованной на один месяц, то есть лишенной на это время табаку, чаю и прогулок, а также закованной в ножные и ручные кандалы; старосту же подвергаю, кроме того, заключению в темном карцере на неделю. Это относительно камеры номер семь. Но виновна и вся тюрьма. Во время последовавшего сегодня, по моему приказанию, обыска во всех камерах нашлись недозволенные мною ножи. Кто их изготовлял, тот понесет особое наказание. Но завтра же прикажу всех вас заковать в кандалы и камеры строго жать отныне на запоре. Не умели пользоваться моей ротой – побрякайте теперь браслетами. Отбираю же и книжки, которые… которые я дал было вам, сходя к просьбе… образованного человека, мечтавшего этими книжками научить вас уму-разуму. Я слышал, что они много вас увеселяли и забавляли, но такие артисты, как вы, не стоят никаких забот о себе и никакого снисхождения. В заключение еще вот что! Многим из вас вышли уже сроки выхода в вольную команду, но знайте: никто не будет выпущен до тех пор, пока я не увижу искреннего раскаяния и полного исправления. Обязанности камерных старост особенно велики и важны: их дело не только держать камеры в чистоте и порядке, но также следить за благонравием живущих с ними товарищей. За всякую новую историю, подобную сегодняшней, я буду прежде всего с них взыскивать. Дежурный, читайте наряд на работы, за исключением арестованного седьмого номера.
При разводе арестантов по камерам последовало затем нововведение: камеры немедленно были заперты на замок, и, при обходе их Лучезаровым, каждая снова отмыкалась. При этом прежде всего кидались в камеру надзиратели, тесным кольцом окружая робко жавшуюся шпанку. Бравый штабс-капитан доходил до середины помещения, грозно окидывал его безмолвным взором и в том же подавляющем безмолвии удалялся.
Этот роковой вечер все мы провели мрачно и молчаливо. Ученики, угнетенные и озлобленные, тотчас же легли спать; Гандорин не рассказывал Тарбагану своих сказок и очень долго молился, стоя на коленях и громко стукаясь лбом об пол; да и самому Тарбагану было не до сказок. Малахов пытался, правда, показать, что ему все на свете трын-трава и запел было приторно-пьяным голосом, наклоняясь к Чирку и задирая его:
Уж я сяду под оконце,
Погляжу на красно солнце, —
но Чирок, очевидно не расположенный к шуткам, ограничился только тем, что дал "чернопазому дьяволу" хорошего леща в спину, обругал его пьяной рожей и велел ложиться спать. Даже Гончаров не резонировал в этот вечер и очень скоро заснул…







