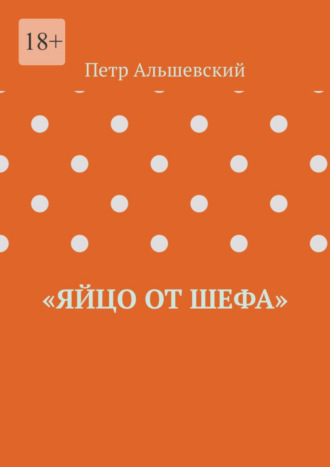
Петр Альшевский
«Яйцо от шефа»
© Петр Альшевский, 2021
ISBN 978-5-0055-0692-4
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
«Нарисуй мне пистолет»
Действие первое.
Промерзая у своих, выставленных на улице картин, воронежские художники Гурышев и Устинов принимают на себя все минусы холодной зимы.
У остролицего Устинова три неброских пейзажа. Произведение пучеглазого Гурышева замысловато – на пьедестале Чебурашка, космонавт и богатырь, под ними сваленные в кучу символы не устоявшего зарубежья: Эйфелева башня, Биг Бен и т. д.
Устинов. Лицо что ли замотать.
Гурышев. Подумают, что физиономии мы скрываем.
Устинов. Никто не подумает. С морозами кто как может борется. Рыбаки поддатыми у проруби сидят.
Гурышев. Мы – художники. Хочешь, чтобы и от нас перегаром разило? Людям должно казаться, что мы какими-нибудь ангелами в эмпиреях витаем, а мы водку жрем. Полбокала виски, наверное, допустимо, но на виски у нас нет. Твои картины дороже, чем бутылка виски хорошего?
Устинов. Безусловно.
Гурышев. Надо снижать.
Устинов. Ты давно о снижении долбишь… послушайся я тебя, я бы «Ранние маки» за копейки продал.
Гурышев. Этими маками ты мне вечно, думаю, тыкать будешь. Ну повезло тебе с клиентом, выручил за них что-то…
Устинов. Целый месяц стояния здесь окупил!
Гурышев. Что значит, окупил? Для перевода времени в деньги у тебя особенный курс имеется?
Устинов. Я на зарплату среднего офисного служащего ориентируюсь. За маки мне где-то месячную заплатили. Тебе за картину такая сумма когда-нибудь падала?
Гурышев. Случалось, мне неплохо платили. В кафе у памятника Никитина чаю бы в долг урвать.
Устинов. А они что, в долг могут?
Гурышев. Мне наливали. Они знают, кто я. Деньги за прежний чай еще требуют, но неровен час придут… расплатиться с ними жене первым делом скажу.
Устинов. Чего-то сегодня ты без супруги. Обычно вместе торговлю ведете. но сегодня из-за холодрыги ты ее, видимо, пожалел. Чем она сейчас дома занимается? Живописью?
Гурышев. Я оставил ее у холста. В тяжких мыслях сидящей. Ладно бы творческий кризис, но ее лакокрасочный материал – масляные краски в тягостность раздумий ввели. Некоторые заканчиваются, а цены на них…
Устинов. Увы нам, увы. Хоть танцорами диско становись.
Гурышев. Мне переучиваться в падлу.
Устинов. А ты в теме, о чем я тебе говорю?
Гурышев. Да видел я, видел… кто умеем определенным образом танцевать, милости просим. На ночном клубе вывесили. Заманчиво, конечно.
Устинов. Без половых и возрастных ограничений.
Гурышев. Танцоры им, вероятно, и для потехи нужны.
Устинов. Днем я бы полотнами занимался, а по ночам танцевал. Пластика у меня еще с юности осталась. Вполне пластично я двигаюсь.
Гурышев. А я из-за холода ничем пошевелить не в состоянии.
Устинов. Но мозгами ты шевелишь.
Гурышев. Ничего потрясающего. Ты о мозгах, чтобы услышать, к чему я ими пришел? Что о твоем танцевальном будущем они мне сказали?
Устинов. Ты будешь меня высмеивать.
Гурышев. Бог с тобой, зачем мне. Ступай к ним пожалуйста, иди – иди и проверься.
Устинов. Проверься?
Гурышев. Себя проверь. Поскольку они разбираются, они, возможно, тебя обнимут и скажут, что как раз к этому ты и предназначен – горячее диско ночи напролет выдавать. Ой, ощущаю, шапка у меня натянулась – уже не уменьшается у меня в голове навязываемый ей бред. С Буйняковским ты созванивался?
Устинов. Он подойдет.
Гурышев. Опять возле нас расположится?
Устинов. Ну в десяти метрах от нас…
Гурышев. Попрошу в двадцати!
Устинов. И что, ему там стоять и с нами перекрикиваться? Поговорить с коллегами ему непременно захочется.
Гурышев. С коллегами бы ему о Густаве Климте пристало поговорить.
Устинов. О нем молчок.
Гурышев. О дороговизне растворителей тоже приемлемо. О чем-нибудь, с живописью сколько-нибудь связанном! А он нам о своем смертельно больном брате, по которому всей вафельной промышленности рыдать не перерыдать.
Устинов. Да он не о брате…
Гурышев. О ниссане!
Устинов. Ниссан же к нему перейдет. Он и делится, что у него с планами на использование. Дальние поездки. Романтические знакомства.
Гурышев. Буксировка в ремонт!
Устинов. Он говорит, что ремонт его не разорит.
Гурышев. А для подстраховки у умирающего брата денег попросит. Сбережения он не ему, а сестре, но из доли сестры ты давай мне выдели… гнусно!
Устинов. Довольно справедливо. Ниссан в его нынешнем состоянии чистая обуза, и если ты его завещаешь, ты и ценность ему придай. Иначе что это за наследство?
Гурышев. Обременительное. Получил и с достоинством поморщился. Но не деньги же у умирающего вымогать.
Устинов. Но надо же с уходящего родственника что-то поиметь.
Гурышев. А ниссан? За него и без ремонта некоторую сумму выручить можно. За границей такие машины под пресс, а у нас продают, восстанавливают и кто-то катается. Находит в них вечный покой.
Устинов. Да, они небезопасны.
Гурышев. Постыдно он с умирающим братом… будь я его брат, завещать ему ниссан я бы передумал. Не желаешь дара сомнительного, ничего от меня не получишь!
Устинов. А ниссан кому завещать? Сестре?
Гурышев. С их сестрой я едва знаком. Машину она водит?
Устинов. Она и черта, если понадобится, оседлает. У нее четверо детей.
Гурышев. Про кучу детей я слышал.
Устинов. А что двое из них приемные?
Гурышев. Ее семейная ситуация мною очень издалека наблюдается. Без пристальности. Трое детей, четверо – до абсурда довела…
Устинов. Двое детей приемные.
Гурышев. Своим есть нечего, а она еще подобрала…
Устинов. Она за мужика с двумя детьми выскочила. Его предыдущая жена на батарее повесилась. Принимала гостей, а после ушла в комнату и с собой все. О том, какие основания, не знаю, что сказать.
Гурышев. Помешательство. Усталость. Ипотека. В секту самоубийц ненароком попала.
Устинов. Руки на себя наложишь и белой голубицей в рай полетишь?
Гурышев. Наверно.
Устинов. Тогда почему ты от помешательства отделил.? Это и есть помешательство.
Гурышев. А прочие пути до рая добраться? Где-то имеется некий рай, и я его заслужу, буду здесь голодать, чтобы вкуснейшей пустотой там объедаться… всякая религия – помешательство чище некуда.
Устинов. У овдовевшего мужика на поминках женщина к нему приставала. Гурышев. Да я смотрю, набор психов в его окружении мощный!
Устинов. Народ разошелся, а она посуду, постирать, подмести, он просит ее удалиться, а она говорит, что одного его не оставит. В оборот его взяла. Нормальный мужик, холостым ставший! Зевать тут не следует.
Гурышев. А судьбы его прежней жены она не испугалась? Себя, дорогую, на той же батарее упокоившуюся, в воображении не нарисовала?
Устинов. Меня-то он не доведет. Я замуж выйду и совершенно счастливой буду. Никак иначе я ее позицию истолковать не могу. Но ты за нее не беспокойся – он на ней не женился. С сестрой Буйняковского жизнь связал и еще двое детей по планете Земля забегали. От Буйняковского знаю, что согласие у них редкое. Творческие стремления раздор не вносят. Что у тебя за картина-то? Что за Чебурашка, богатырь и космонавт?
Гурышев. Русский мир. Они на пьедестале, а под ними поверженные неудачники. Эйфелева Башня, Эмпайр-Стейт-Билдинг, китайской стены кусочки. Мы наверху, а под нами все нам чуждое. Побежденное! Опрокинутое!
Устинов. Философию русского мира ты, кажется, не разделяешь.
Гурышев. Из меркантильных соображений я эту картину написал. Куда-нибудь в Администрацию ее продать или в патриотических кругах ею прославится – меня бы узнали, заказами на что-то похожее заваливать бы принялись, я бы малевал и жене с дочерью любое их пожелание безотказно… когда ее закончил, изрезать ножом захотел. По отношению к себе такого паскудства не припомню… я не в высях парю, но и не ползаю же. Картину на радость идиотам! Какая же удачная мысль посетила! Я собирался ее уничтожить, но тут подумал, что потраченные на нее краски и время вознаграждения требуют. Большая карьерная ставка отменятся, а за работу мне пожалуйста заплатите. Если здесь кого-то впечатлит, пусть забирается и домой – публичная демонстрация мне противна, а для домашней коллекции сколько угодно.
Устинов. Подпись под ней не твоя.
Гурышев. Ну разумеется, я ее не своим именем подписал. Чтобы никаких привязок ко мне – мне деньги и как загаженный песок с рук отряхну.
Устинов. Покупателя я тебя, наверное, подгоню.
Гурышев. Патриота?
Устинов. Твою картину помимо патриота едва ли кто купит. На кого ты рассчитываешь?
Гурышев. На того, у кого в сознании не патриотизм, а сюрреализм. Требованиям сюра моя картина, думаю, отвечает.
Устинов. Покупатель, которого я подразумевал, работы Буйняковского тут недавно разглядывал.
Гурышев. Да какой Буйняковский сюрреалист!
Устинов. Буйняковского он отмел. Мои картины ему совсем не показались, а в буйняковские чего-то пялился… не талант же в нем углядел.
Гурышев. Не может быть.
Устинов. По мере рассмотрения очевидное он увидел. О намерении недорогой талантливой живописью разжиться он не Буйняковскому – мне сказал. Телефонный номер мне дал. Что, устроим ему просмотр?
Гурышев. Приглашай.
Устинов. Сюда?
Гурышев. А куда мне с картиной, за Чернавский мост на автобусе ехать?
Устинов. У тебя же не «Мадонна со змеей».
Гурышев. Караваджо?
Устинов. Два метра на три. Ты со своим богатырем в автобус вполне влезешь.
Гурышев. К нему приду, а он поглядит и за кошельком. Я подумаю, что он картину у меня приобретает, но оптимизм ты, художник, души. На обратный проезд мне сунет!
Устинов. Проезд подорожал.
Гурышев. И вафли вверх поперли! О вафлях я из-за Буйняковского
Устинов. Умирающий брат у него, да, на руководящем посту вафлями ведал.
С перевязанными картинами представительный Буйняковский.
Буйняковский. Голодающим Черноземья многие лета. Финскую одежду у нас открыли.
Устинов. Мы утеплились.
Буйняковский. А что-то единое нам не прикупить? Встали бы втроем в одинаковом!
Гурышев. Как городская уборочная служба?
Буйняковский. За три куртки скидку дают. Обещают десять процентов, но я бы и пятнадцать выторговать.
Гурышев. А за три разные скидку дадут?
Буйняковский. Скорее, да.
Гурышев. Меня дочка замучила верхнюю одежду выпрашивать. А тут и жене возможность.
Устинов. Третью отцу?
Гурышев. Себе.
Буйняковский. Все в обновах, а заслуженный дедушка в драном тулупчике выбегает порыдать на мороз…
Гурышев. Наигранная истерика. Тулупчик-то накинул!
Устинов. Отец у тебя похитрее. Задумает отцовскую обиду изобразить – в майке и тапочках под снег вынесется.
Гурышев. И помрет. Нет, у меня к себе бережно. У него женщина, остужаться ему, как мужчине, риск… славное боевое настоящее. Об отце я без закипания не могу. Твой умирающий брат на выздоровление не пошел?
Буйняковский. Врачи ему месяц. Я бы им не верил, но видок у него, их неблагоприятные прогнозы подтверждающий. Скоро смерть… важный рубеж. Он думает, что со смертью его существование не закончится.
Гурышев. В предсмертном ужасе и не то подумаешь. Чтобы, умирая, материалистом оставаться, дух нужен крутой.
Устинов. Святой дух. Умирать и ни за что не цепляться, любую человеческую смелость превышает. Если он настолько смел, это у него откуда-то свыше, извне… ключи от ниссана уже у тебя?
Буйняковский. У меня. Словно от царства небесного для меня они. Я с грубой, очевидной для всех иронией.
Гурышев. Ты же путешествовать собирался.
Устинов. О путешествиях он мне воодушевленно вещал.
Буйняковский. Мысль взошла на солнце предвкушений, но в темени раздумий засохла она. На бензин тратится, ночевать где-то…
Гурышев. В машине ночуй.
Буйняковский. А бриться где? Небритый, в нестираной одежде, кого, интересно, я приворожу? Можно взахлеб говорить, что меня влекут места, города, но женское общество – составляющая незаменимая. Я качусь на ниссане, а на дороге девушка, я ее подбираю и у нас с ней возникает контакт… она ко сядет, а от меня несвежестью веет.
Устинов. Байкеры и грязными девок находят.
Гурышев. Кожаная куртка у тебя есть.
Буйняковский. Оставил бы мне брат мотоцикл, выглядеть цивильно я бы не старался, но мужчине, в машине едущему, ему для привлечения женщины менее свински смотреться надо. Произвести впечатление. В машину заманить и до придорожной гостиницы довезти. На номер я бы наскреб, но заплатив, расстроился.
Устинов. А если женщина того стоит?
Буйняковский. Красотку, что в моей машине проехаться согласится, я за женщину с дурными намерениями сочту. Обокрасть меня планирующую.
Гурышев. Ниссан у тебя отобрать.
Буйняковский. Меня усыпит, а сама на нем в известный ей пункт продажи краденых авто.
Гурышев. В пункт металлолома.
Буйняковский. Мой ниссан не…
Гурышев. Шоколад! Ты его любишь.
Буйняковский. Да.
Гурышев. Ума от шоколада прибавляется только у некоторых людей. Вообразить, что на его развалюху позариться кто-то способен… дьявол, как холодно!
Устинов. Я кальсоны поддел.
Буйняковский. А я под брюки зеленые тренировочные. От спортивного костюма, что Елизавета подарила.
Гурышев. Жена твоя?
Буйняковский. Она самая.
Гурышев. Да ты пятнадцать лет в разводе. Что, до сих пор не изорвались?
Буйняковский. Штаны на пробежку уже не наденешь. До дыр на мягком месте протерлись. А курточка вполне сохранилась. Я ее в комплекте с черными джинсами летом ношу. Джинсы леви-страусс. Курточка от фирменного костюма пума. Вид достаточно стильный.
Гурышев. Когда к нему прибавится ниссан, девушки все глаза проглядят. С Елизаветой вы сколько прожили?
Буйняковский. Полгода.
Гурышев (Устинову) А ты со своей?
Устинов. Мы не в разводе. Мы в разъезде. Она от меня съехала, но я к ней, бываю, езжу. О восстановлении супружеских отношений потолковать. Не так давно в давку попал.
Буйняковский. В автобусе?
Устинов. В час-пик от нее поехал и помяли меня основательно. И овсяное печенье раскрошили! У нее в магазине попить чаю себе купил. Домой принес пакет, в котором одни крошки.
Гурышев. Птичкам скормил?
Устинов. У наших воронежских птичек от дорогих овсяных крошек животы заболят. Из чашки глоток и горсть крошек в рот… я убогие чаи гоняю, а над ней чернокожий мальчик красный зонт держит. Над маркизой Еленой Гримальди, супругой маркиза Николо Каттанео.
Гурышев. (Буйняковский) У него дома репродукция Ван Дейка висит.
Буйняковский. Ван Дейком я не восхищаюсь. Его на деревенском кладбище прикопали?
Гурышев. Он торжественно захоронен в лондонском соборе святого Павла.
Буйняковский. Умел, вижу, дела обделывать. Творчески он мне безразличен, но его хватку я бы на вооружение взял. С моим продвижением к успеху нерешенных вопросов у меня тьма… картины мне сегодня распаковывать?
Гурышев. Но ты их притащил. Думал, что в мороз косяком покупатель попрет?
Буйняковский. Мне бы и тоненький ручеек ничего. Но совсем ведь никого нет.
Гурышев. Мы картины расставили. Кто появится, наши рассмотреть сможет.
Буйняковский. Твоя по мне любопытная…
Гурышев. Услышанная от тебя похвала во мне, честно, значительный трепет будит.
Буйняковский. Богатыря ты, кажется, переделывал…
Гурышев. Вчера последними мозгами дооформил.
Буйняковский. У меня вчера поработать не вышло. Уже приготовился, но не кистью, а нитью работал. Между передними зубами что-то застряло, и я нитью извлечь пытался. Навязчиво мне мешало! Мне бы дальний план чем-нибудь заполнить, а глаза моей мысли не вдаль, а как бы к передним зубам скосились – уставились и не двигаются. Пока застрявшее не вытащу, никакой возможности вдумчиво кистью водить. Начал вслепую, после к зеркалу подошел, губы рукой опустил и узрелось мне, что практически у всех моих зубов основания черные. Ошарашило мне это, должен сказать, до неподвижности. Раззявившимся изваянием у зеркала вечер провел. Мозги действовали. Вспоминал, что Елена Пичужина ногти в синий цвет красит. Что за девушка! Каждый раз сюда заявляется и говорит, что ее Еленой Пичужиной зовут.
Гурышев. Зимой она в варежках. Какой под ним лак, не увидишь. Девушка она не в себе, но проявления минимальны.
Устинов. Людей на картинах целует.
Гурышев. Иконы целуют и нормально. Сложностей у меня из-за нее не возникает.
Буйняковский. Но не когда ты с женой здесь стоить. Здесь твоя супруга не выступает, но дома от ее ревности тебе, наверно, не спрятаться.
Гурышев. Ревность она придумала, чтобы зависть укрыть. Кто из художников здесь, у нас, выставляющихся, наименее у Елены в почете?
Буйняковский. Твоя жена.
Гурышев. А в противоположную сторону кто для нее первый?
Буйняковский. Я.
Гурышев. Не ты, а я! С чего ты, не понимаю, себя назвал?
Буйняковский. Серия моих кедров Елену покорила. Она мне сказала, что кедры у меня просто сказочные.
Гурышев. Потому что на настоящие не похожи.
Буйняковский. Реалистично я не пытался, у меня…
Гурышев. У тебя всегда сплошной реализм. Тираническое чувство реализма! Тебе от него не освободиться. С кедрами похожести достичь не удалось и теперь ты нам рассказываешь, что замысле дальше шел. Скрупулезный подход к шишкам и стволам отбросил, а неведомый тебе образный мир занырнул, воспринимайте меня, господа. творцом собственного измерения… что до меня и меня моей жены, то ревновать к Елене она меня в принципе может. Елена девушка симпатичная.
Устинов. К нам сюда она на электричке добирается. Из Синицыно.
Гурышев. Ты у нее спросил?
Устинов. Обеспокоился тем, что она затемно задержалась. Помните, однажды в ноябре до одиннадцати мы не расходились?
Гурышев. Пьяную компанию ждали.
Устинов. Сильно поддавшая интеллигенция на кураже картину, возможно, и купит.
Гурышев. Фадеев нам наговорил, что народ он приведет, на покупки крайне настроенный. Выпивали, на его увешанные картинами стены пялились, под коньяком убеждались, что иметь дома живопись – это культурно. И Фадеев им нас. Достойную живопись за скромные деньги. Вы думали, что за бесценок хорошую картину не приобретешь, но у меня есть ребята… а нам сказал, чтобы не уходили. Немалый бакшиш для вас намечается! Гостей еще распалю, в нужную кондицию их введу и к вам мы пойдем. Фадеев – трепло!
Устинов. Бывший художник все-таки. Что мы простоим сколько надо, он не сомневался. Перед нами денежный знак в воздухе черкни и мы как вкопанные. Он-то кисти сжег и в предприниматели, а нам живописью пробавляться до скончания века нашего тяжкого…
Буйняковский. Фадеев много работал.
Гурышев. Над полотнами?
Буйняковский. Дело свое поднимая. Живописью он по верхам овладел, а там, вероятно, до сути добрался. Доходы, естественно, скакнули. Себя обеспечил – о бедных товарищах вспомнить пора. Мне кажется, что звоня тогда на твой телефон, Фадеев благим руководствовался. Ты, наверно, склоняешься, что кого-то к нам приводить он и не собирался. Напился и шанс повеселиться узрел.
Гурышев. Голос у него трезвый был. Якобы украдкой шептал еле-еле, но четко. В четыре дня позвонил…
Устинов. И мы его семь часов…
Гурышев. Я нас буквально ненавижу за то, что нам так заработать хотелось!
Устинов. А за что тут… ты на нас, не на Фадеева злишься?
Гурышев. У Фадеева могло и не получится. Интеллигенцию перепоил, и она уснула. Если сон ни при чем, смену настроения предположим – после пятой рюмки о покупке картины задумался, а после шестой на девочек потянуло.
Устинов. За деньги девочек накладно.
Буйняковский. А вдова художника Николаева на что? Комнату девушкам она и сейчас сдает?
Гурышев. А ты не знаешь…
Буйняковский. Я к ней года три не заезжал. Да и не входил я особо в число тех, кого она у себя принимает. (Гурышеву) С тобой ездил, а без тебя поехал и у двери остался. Слишком приземленная я фигура, чтобы дверь мне открыть. Ты ее мужа в живых застал?
Гурышев. Булыжник булыжником.
Буйняковский. Картины у него топорные, но, может, в личном общении возвышенное впечатление он производил.
Гурышев. Его витание в высших сферах в глаза, конечно, бросалось. Рыгающий и блюющий старик, с бутылкой не расстающийся! От государства ему громадная квартира, светозарный статус классика областного, он рисовал дерьмо, но дерьмо идеологически совершенное. Сам из пролетариев и жена с обувной фабрики…
Устинов. О ней она помнит. Жилье лишь девушкам с той фабрики сдает. Безденежных провинциальных девушек выручает.
Гурышев. И власть над ними приобретает. Устинов. Заставлять их с мужчинами спать за ней, по-моему, не водится.
Гурышев. Это они и без ее нажима не против. Ее психологическая власть в том, что они сельские дурочки, а она из такого же села, но давно горожанка. Посетительница театров и устроительница банкетов, куда почтить ее супруга первейшие люди воронежской партократии и богемы наведывались. Когда она в свою нелепую ностальгию пускается, девушки с фабрики в рот ей смотрят. Для этого они ей и нужны.
Буйняковский. У девиц с образованием отклик был бы не тот. Принялись бы язвить, и сознание бы у нее дрогнуло – баба она вроде как непрошибаемая, но некоторые толстые стены толкнешь и развалятся. В ее четырех комнатах девок восемь живут?
Гурышев. И до десяти доходило.
Буйняковский. А сколько их сменилось! И все в согласии и в поддакивании? Ни одна с нее спесь не сбила? Нахамила бы, и сознание у вдовы бы посыпалось!
Устинов. О ее сознании ты больно настойчиво. Словно бы для тебя краеугольно, ясное оно у нее или нет. Надеешься, за то, что она тебя не пустила, безумием ее Бог накажет?
Буйняковский. А что, наехавший на меня прокурор со справочкой же ходит. Недееспособным стал.
Гурышев. У нас вся страна недееспособная.
Буйняковский. Всей стране справку не выпишешь, а ему дали. Ни к чему ему было мои пляжные зарисовки окриком прерывать. И с места, где я никому не мешал, как собаку сгонять!
Гурышев. А-ааа, ты о твоем краткосрочном увлечении полуобнаженной натурой. (Устинову) Он на пляж в Боровом приезжал и женщин в купальниках запечатлеть старался.
Устинов. И какой-то прокурор за похотливого вуаейриста его принял?
Гурышев. Он, видимо, был с женой, а Буйняковский его жену со всеми ее грудями и ягодицами…. вдову Николаева он ненавидит, но ягодицы у нее, думаю, сногсшибательны. Попросил бы зарисовать – юбку бы задрала.
Буйняковский. В интересных просьбах она не мне – тебе не отказывает. Ее мужа ты презираешь, девки, что у нее живут, достойны тебя быть не могут, однако к вдове Николаева за милую душу ты ездил! Что тебя привлекало? Со вдовой чему-нибудь неочевидному предаться?
Гурышев. Ее муж меня выделял. Из молодых ни о ком так не говорил. С твоим, сынок, дарованием тебе до звезд два шага идти… продвигать меня не думал, но наедине обнадеживающе похвалить – что трудного. Галерейщикам обо мне ни слова, а жене, видимо, молвил. Он умер, и она меня к нему на похороны. Я сходил, но не отделался – зазывание в гости, длинные горестные тирады с указанием ее не забывать, у нее уже девки живут, а она все меня к себе тянет. А чего мне не звать, если только по шерстке ей глажу. Смерть вашего мужа – для искусства утрата, в художественном пространстве без него до сих пор брешь…
Устинов. Сказал бы ей, как есть – сердце бы ей разбил.
Буйняковский. Она бы тебя прогнала, а у тебя там девки. С водочкой поужинают и поблудить готовы!
Гурышев. По-трезвому стыдливые, а выпивка их на плот и в открытое море.
Буйняковский. А мужской орган – тот шест, при помощи которого они от берега отгребают. Читаю на твоем лице, что свой ты им предоставлял.
Гурышев. Ты со мной туда ездил. При тебе я с какой-то из девок в комнате закрывался?
Буйняковский. Они тебе намекали, что ты говорил, что женитьба тебя остепенила, на стороне ты теперь ничем не занимаешься, наверно, меня опасался. Поссоримся с тобой, и я о твоем загуле супруге твоей мстительно выложу.
Гурышев. По-твоему, девок я на постели заваливал, а когда со мной приезжал ты, заставлял себя с ними на расстоянии быть. Тебя с собой брал и тем самым секса себя лишал. Ответь мне, Буйняковский, будь так любезен, какого хрена мне было тебя с собой брать, если отсюда лишение себя секса железно следует?
Устинов. Как варианты ни перебирай, ответ один. Его туда не секс. Со вдовы денег стрясти?
Гурышев. В аферисты ты меня неосмысленно. Моя натура и мои принципы для тебя открытая книга и приписывать мне вытягивание денег у человека, искренне ко мне расположенного… да и она не дура. Ваш муж был великим дворцом, безусловным достоянием целого региона, и дайте мне поэтому денег? Я буду ему льстить, а она за это купюрами стол мне завалит?
Буйняковский. Взаймы она бы тебе дала.
Гурышев. Взаймы другое дело.
Буйняковский. Ты просил?
Гурышев. Планомерно к одалживанию мне денег я ее не подводил. Мои картины не продавались, жена из-за очередного переосмысления свои картины продавать не хотела, деньги у нас абсолютно кончились. До последнего оттягивал, но относительно займа к вдове обратился. Она, всплеснув руками, сказала, что невозможно, ты, милый, не знаешь, но я сама вся в долгах, от мужа мне имя и гордость, но не деньги, их у меня и новое траурное платье для вечера памяти нет – я ее слушаю и чувствую, что нервы накаляются, весь внутренний мир от перелома через колено трещит и искрит, раздирает ненависть к себе, к ней, еще бы немного и тронулся. Как твой прокурор. Достоверно известно, что с ума он сошел?
Буйняковский. Мне из его окружения говорили. Женщина, у них, в прокуратуре, уборкой занимающаяся.
Гурышев. Женщина она, тебе близкая?
Буйняковский. Мне она… ты не отклоняйся. Мы о твоих затруднениях беседуем. Из той материальной ямы что тебя вытащило?
Гурышев. Продали, слава богу.
Буйняковский. Картину?
Гурышев. А что еще?
Буйняковский. Из отцовских вещей что-то.
Гурышев. У него особо нечего, да и устрой он распродажу, деньги не нам. Объект его привязанности у него сейчас не семья. Его бы в реабилитационную клинику – выбить из него дурь, что ему не по возрасту. Дойдет и того, что расписывать стены купидонами мне он скажет.
Устинов. С твоими навыками для тебя не вопрос. А женщина, что у него появилась, она чем ужасная?
Гурышев. Конфликтную ситуацию она самим своим появлением спровоцировала.
Устинов. Потеряв жену, без женщины ему…
Гурышев. Пять лет ничего, держался!
Устинов. Вам она, разумеется, ни к чему, но ему-то она нужна. Без женского тепла и старику мерзко на свете жить. Прописная истина, но куда денешься. Интеллектуально она с ним наравне?
Гурышев. Он в магазине разливного пива с ней познакомился.
Буйняковский. И он бухает, и она уважает! Различия в умственном уровне тогда побоку.
Гурышев. Мой отец и пиво-то пьет не слишком. А она в магазине от ливня скрывалась. Могла соврать, но должен признаться, что на пьющую она не похожа. Наружность у нее весьма благообразная. Отец вокруг нее прыгает, а она в кресло усядется и, потупившись, знаки внимания принимает. Внучка к нему зашла, а он разозленно за дверь девочку выпроводил!
Устинов. А она постучалась?
Гурышев. А чего ей, заходя к деду, стучать?
Устинов. У него женщина.
Гурышев. В этом все дело и обстоит… зачем она в его комнате по полдня проводит? Она его моложе лет на пятнадцать, но из всех мужчин старик ей интересен?
Буйняковский. Видится мне, в некоторой меркантильности она у тебя под подозрением.
Гурышев. Отец мне сказал, что она живет у подруги.
Буйняковский. Волнуешься, что к вам переедет?
Гурышев. Мне не сегодняшний день, меня дальнейшее… когда отец нас оставит. Не к подруге же ей снова перебираться.
Устинов. А у отца ваша квартира в полной собственности?
Гурышев. В абсолютной. Кому захочет, тому и отпишет.
Устинов. Ты в голову не бери. Тебя с женой и ребенком он на улицу не отправит.
Гурышев. А ее? Она осветит собой его последние годы, а он умрет и ей выметайся? Этого даже я ей не пожелаю. Чучела идут…
Устинов. К нам.
Гурышев. Надеялись на покупателей, но небесные покровители воронежских живописцев вот кого нам прислали…
Двое драных замызганных молодых людей с девушкой, что чуть почище.
Чачин. Слушайте, дядьки, на закуску нам не подбросите?
Гурышев. А почему не на бутылку?
Чачин. Бутылка у нас есть. Мы из Калача автостопом.
Дусилин. В Москву на попутных гоним. Девушка с нами. У вас ее встретили.
Клымова. Я к ним ненадолго прибилась. Немножко, может, проеду, но не до Москвы. Еще чуть-чуть с парнями покручу, а потом им скажу, и они от меня отвянут.
Гурышев. (Буйняковскому) Какая calos.
Буйняковский. Что?
Клымова. Какая я?
Гурышев. Calos по-гречески – прекрасная. Живопись вы, девушка, любите?
Клымова. Слегка рисую.
Гурышев. Я о настоящей живописи.
Клымова. О вашей что ли?
Устинов. По заслугам и почет.
Гурышев. Мы гамадрилы у пюпитра, макаки с тюбиками, на нас отблеск чего-то истинного не лежит. Поменять профессию нам говорили, но помощь опоздала. Чересчур нас уже затянуло. За нас наше желание творить, а против столько всего, что силы слишком неравны. В битве нас подчистую. Щуплая команда псевдо-творцов разбита до состояния молекулярности. Здорово я нас пнул?
Дусилин. В вашем Воронеже меня, спящего, так пнули…
Чачин. Попали бы по роже, посинела бы она у тебя.
Гусилин. Меня по спине. Я клубочком и рожа у меня прикрыта была. Свет над столом посередине партии выключили!
Чачин. Мы только за час заплатили.
Дусилин. В хороших бильярдных партию дают доиграть! Видят же, что мы бедные, ну и дайте доиграть, чего вам… за час, гниды, содрали – в Калаче и то более по-божески.
Клымова. Воронеж Калач заткнет – и в штанах не сыщешь. На ваши цены вы здесь не надейтесь. А вы мне не говорили, что у вас даже на биллиард деньги имелись.
Гурышев. Они терпеливо случая ждали.
Устинов. Из тебя деньги вытрясут, а затем на свои жить придется.
Чачин. Да мы в биллиардной деньги без остатка оставили. На деньги сыграли, и мои деньги он у меня выиграл. Я бы отыграл, но у нас время вышло. За продолжение нужно заплатить, а чем платить, когда у него денег нет, а мои деньги он у меня выиграл? Выиграл бы я, он бы в Калаче мне отдал. А я расплатился с ним сразу. А он, когда свет у нас погасили, за другой стол отошел и как-то моментально поманившему лосяре все слил!
Дусилин. Ты за меня не болел.
Чачин. А я не одобрял! Догадывался, что неспроста он тебя приметил. Ты плюгавый в сравнении с ним! Играть с тобой на одном столе стыд для него явный. Перед приятелями его извинит лишь то, что как карасика тебя он разденет. Чешую с твоего тельца сдерет!
Дусилин. Я упирался.
Чачин. Да нечего мне тут – без всяких он тебя укатал.
Дусилин. Ощущай я твою поддержку, борьбу бы я нереальную завязал. Его приятели нас обступили, а тебя не видать… он подпитывался, а мне от кого?
Чачин. Я недалеко находился.
Дусилин. Поближе к двери.
Чачин. Там воздух посвежее.
Дусилин. И убежать легче. Если бы я у него выиграл, он бы наверняка мне не деньги, а по шеям! И ты бы не ко мне, а юркнул и поминай как звали!
Чачин. Играть с ним я тебе не советовал.
Дусилин. Ну да, прошипел чего-то…
Чачин. А ты несмотря ни на что полез.







