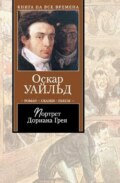Оскар Уайльд
Исповедь: De Profundis
Но твое молчание просто невыносимо. И длится оно не недели и даже не месяцы, а целые годы. Эти годы могли бы показаться долгими даже тем, кто, подобно тебе, живет в стремительном вихре удовольствий и едва поспевает за несущимися на золотых ногах днями, с трудом переводя дух в погоне за наслаждениями. Ну а для меня эти годы тянулись так медленно, что казались просто-таки бесконечными.
Твоему молчанию нет и не может быть оправдания. Я всегда знал, что на тебя нельзя положиться, и в этом отношении тебя можно уподобить золотой статуе на глиняных ногах. Кому это было лучше знать, чем мне? Кстати, напомню тебе один из когда-то написанных мной афоризмов: «Золотые изваяния блестят ярче, если они стоят на глиняных ногах».[83]
К твоему сведению, я имел в виду именно тебя, когда писал эти слова. Но то, во что ты превратился, нельзя уже, пожалуй, сравнивать даже с золотым изваянием на глиняных ногах. Из черной пыли захолустных дорог, превращенной копытами многочисленных стад в липкую грязь, – вот из чего ты вылепил свое подобие, поместив его перед моими глазами, и теперь, с каким бы прежним теплом мне ни хотелось бы к тебе относиться, я не могу испытывать к тебе ничего, кроме презрения, – да и к себе самому тоже.
И даже если отбросить все другие причины, заставившие меня страдать, вполне достаточно было твоего бессердечия, твоей черствости и так называемой «житейской мудрости», твоего страха скомпрометировать себя (ты можешь называть это как хочешь, а я называю вещи своими именами), чтобы сделать эти страдания вдвое мучительнее в свете тех обстоятельств, которые сопутствовали моему падению или следовали за ним.
Другие пасынки судьбы, когда их бросают в тюрьму, также лишаются радости жить на свободе и наслаждаться красотой внешнего мира, но в то же время они – по крайней мере отчасти – ограждены от этого мира, от его смертоносных пращей и устрашающих стрел. Они сидят затаившись во тьме своих камер, ценой своего бесчестья получив право жить в надежном убежище.
Мир, свершив над ними свой суд, продолжает идти своим путем, а их оставляет страдать в тюремной тиши.
Со мной же все обстояло иначе. Беда за бедой неустанно разыскивали меня и настойчиво стучались в двери моей тюрьмы, которые тут же перед ними широко раскрывались. И если друзьям моим почти никогда не разрешалось повидаться со мной, то враги мои всегда имели ко мне свободный доступ.
Дважды вызывали меня в Суд по делам о несостоятельности; дважды переводили меня из одной в другую тюрьму, и каждый раз я испытывал невыразимое унижение, будучи выставлен на посмешище перед глазеющей публикой. Посланник Смерти принес мне трагическое известие и отправился дальше своей скорбной дорогой, а я в полном одиночестве, вдали от всех тех, кто мог бы меня утешить и облегчить мое горе, нес непосильное бремя отчаяния и раскаяния, терзающих меня при воспоминании о моей матери, и это бремя я несу до сих пор. Но как раз тогда, когда времени удалось немного притупить боль утраты – хотя рана все еще оставалась открытой, – я начал получать от жены резкие, горькие, жестокие письма, посылавшиеся ею через своих поверенных.
Передо мной, издевательски подмигивая, встала во весь рост угроза сделаться нищим. Это я еще мог бы вынести (я готов был и к худшим лишениям), но, когда по решению суда у меня отняли обоих моих сыновей, я почувствовал такое бесконечное горе, такую острую боль, такое безысходное отчаяние, от которых мне уже никогда не оправиться. То, что суд взял на себя право решать, позволить или не позволить мне общаться со своими собственными детьми, – это просто чудовищно. Позор тюремного заключения по сравнению с этим – ничто.
Я завидую всем другим моим товарищам по несчастью, с кем я выхожу на прогулку по тюремному двору. Я уверен, что сыновья и дочери ждут не дождутся их дома, чтобы радостно броситься им навстречу.
Бедняки мудрее, милосерднее, отзывчивее и добрее нас. В их глазах тюрьма – трагедия в жизни человека, огромное горе, страшная катастрофа, нечто такое, что достойно горячего сочувствия ближних. О том, кто оказался в тюрьме, они говорят только так: с ним «приключилась беда», и в этом выражении заключена вся совершенная мудрость Любви.
У людей же нашего сословия отношение к заключенным совершенно иное. В их глазах человек, попавший в тюрьму, становится парией. Такие, как я, не имеют право дышать и вообще занимать место под солнцем. Наше присутствие омрачает радость существования для других. Когда нас выпускают на волю, мы повсюду – нежеланные гости. Нам больше не позволено любоваться бликами луны по ночам. Даже детей у нас отбирают. Наши связи с остальным человечеством – самое прекрасное, что у нас было, – оказываются напрочь разорванными. Мы обречены на одиночество, хотя у нас и есть сыновья. Нам отказано в том единственном, что могло бы исцелить и поддержать нас, умиротворить наши изболевшиеся души, явиться чудодейственным бальзамом для наших истерзанных сердец.
Ко всему этому добавилось то обстоятельство (для тебя пустяковое, а для меня крайне важное), что своими поступками и своим молчанием, своими действиями и своим бездействием ты омрачал буквально каждый день моего и без того малорадостного и кажущегося бесконечным заточения. Даже хлеб и вода – основа моего тюремного пайка – потеряли свой вкус по твоей милости. Хлеб казался мне горьким, а вода – солоноватой и затхлой.
Ты только удвоил то горе, которое должен был бы разделить со мной; ты лишь обострил ту боль, которую должен был бы облегчить своим участием. Я знаю, ты этого не хотел. Я абсолютно уверен, что ты этого не хотел. Все объясняется, как я уже писал, «поистине роковым пороком твоего характера – полнейшим отсутствием воображения».
В конце концов мне придется простить тебя. Я просто вынужден буду простить тебя. Это письмо я пишу вовсе не для того, чтобы вселить в твое сердце горечь, а чтобы искоренить ее из своего сердца. Я должен буду простить тебя ради себя самого. Человек не может вечно согревать на своей груди змею, которая жалит его. Он не может вставать еженощно и сеять тернии в саду души своей. Мне будет нетрудно простить тебя, если ты мне хоть немного поможешь. Как бы ты ни поступал со мной в прежние времена, я всегда прощал тебя легко и с готовностью. Но тогда это тебе не пошло на пользу. Только тот, чья жизнь ничем не запятнана, может с легкостью прощать прегрешения другим людям.
В данную же минуту, когда я сижу в заточении, униженный и обесчещенный, я не могу себя считать таковым. Поэтому мое прощение должно значить для тебя очень много. Когда-нибудь ты это поймешь. Но когда бы ты это ни понял – сейчас или позже, в скором времени или вообще никогда, – мое решение останется неизменным.
Я не могу допустить, чтобы ты прошел через жизнь, неся в своем сердце тяжкое бремя сознания, что ты погубил такого человека, как я. Мысль об этом или сделает тебя еще более бессердечным, или заставит тебя ужасно страдать.
Я должен снять с тебя это бремя и переложить его на свои плечи. Я должен до конца уяснить для себя, что ни ты, ни твой отец, будь вас хоть тысячи, не смогли бы погубить такого человека, как я, если бы я сам не погубил себя, и что никто, будь он велик или ничтожен, не может быть погублен ничьей рукой, кроме своей. Я готов принять всю вину на себя. Я пытаюсь сделать это уже и в настоящем письме, хотя, возможно, ты этого и не заметил. Но даже если я и выдвигаю против тебя столь суровые обвинения, подумай, насколько беспощаднее я осуждаю самого себя. Как бы ужасно ни поступил ты со мной, то, как я поступил с собой сам, еще ужаснее.
Я был и остаюсь своего рода символом искусства и культуры нашего времени. Сам я осознал это еще на заре своей юности, а впоследствии заставил осознать это и своих современников. Немногие достигали при жизни такого положения в искусстве и такого признания, как я. Обычно историкам или критикам удается распознать гения – если вообще удается – спустя много десятилетий после того, как и он сам, и его время уходят в вечность. Мой удел был иным.
Я это чувствовал сам и сумел дать почувствовать это другим. Байрон тоже был символической фигурой, но он отразил в своем творчестве лишь страсти своего века и пресыщение ими. Я же символизирую нечто более возвышенное, более непреходящее и вместе с тем более актуальное и всеобъемлющее.
Боги дали мне многое – и талант, и респектабельное имя, и высокое положение в обществе, и блеск ума, и интеллектуальную дерзость. Я сделал искусство философией, а философию – искусством; я изменил у людей взгляды на многие вещи, придав им новые цвета; все, что я говорил или делал, повергало людей в изумление; я взял драму, самый неличный из жанров литературы, и превратил ее в столь же личное средство выражения, как лирическое стихотворение или сонет, одновременно расширив сферу действия драмы и обогатив ее новым психологизмом в характеристике персонажей; к чему бы я ни прикасался, будь то драма, роман, рифмованная поэзия, стихотворение в прозе, утонченная игра слов или парадоксальные диалоги, – все это облагораживалось неведомой дотоле красотой; в непререкаемых истинах я отмежевал подлинно истинное от ложного и в то же время показал, что как истинное, так и ложное – это всего лишь условные представления об окружающем нас мире, порожденные нашим разумом.
Искусство для меня всегда являлось высшей формой реальности, а реальность – высшей формой художественного вымысла; я настолько пробудил воображение своих современников, что даже мое имя они окружили мифами и легендами; суть всех систем мышления я свел к одной фразе, а смысл всего сущего – к лаконичной сентенции.
Но наряду с этим было во мне и много чего другого. Под влиянием приятелей я мог подолгу предаваться бесчувственной расслабленности и чувственным наслаждениям.
Меня тешило то, что я слыл фланером, денди, законодателем мод. Я окружал себя людьми ничтожными, пустыми и недалекими. Я попусту расточал свой талант и с какой-то бесшабашной веселостью прожигал свои юные годы.
Когда мне надоедали вершины, я в поисках новых ощущений спускался в самые бездны. Аномалии в сфере страсти стали для меня тем же, чем были парадоксы в сфере мысли. Желания мои сделались болезненными или безумными, а скорее, и теми и другими одновременно. Я стал пренебрежительно относиться к жизни других людей. Я срывал наслаждения, как только возникало желание, и безмятежно следовал дальше. Я вовсе не думал о том, что любой, даже самый маловажный, самый незначащий поступок формирует или, напротив, разрушает наш характер, а поэтому все, что мы творим в потаенных покоях наших жилищ, рано или поздно становится явным. Я полностью утратил власть над собой. Я уже не был Властелином своей Души, хоть и не ведал об этом, а потому и позволил тебе завладеть ею, а твоему отцу – запугать меня.
Закончилось это чудовищным для меня бесчестьем, и отныне мне остается только одно – полное Смирение. Я взываю к тебе: приди и повергнись в прах бок о бок со мной, чтобы мы оба научились Смирению.
Вот уже почти два года, как я томлюсь в заточении. Что только ни терзало мне душу за эти долгие месяцы – и неистовое отчаяние, и безутешное горе, и ужасная, бессильная ярость, и горечь, смешанная с презрением, и рыдающая во весь голос боль, и не находившая слов обида, и безгласная скорбь. Я прошел через все мыслимые и немыслимые страдания, и теперь лучше самого Вордсворта понимаю, что значат написанные им строки:
Страданье черное для нас непостижимо —
Оно столь грозно, столь неотвратимо
И бесконечно по своей природе.[84]
Я еще могу примириться с мыслью, что моим страданиям не будет конца, но мне невыносимо думать о том, что они лишены всякого смысла. В глубине моей души таится твердое убеждение: да, в этом мире многое непостижимо, но в нем не может быть ничего бессмысленного, а уж страдания бессмысленными тем более не назовешь. Именно это убеждение, таящееся в неведомых глубинах моей души, словно клад в недрах земли, и зовется Смирением.
Да, Смирение – это единственное, что мне теперь остается; в нем я вижу идеальный для себя выход. Это крайне важное для меня открытие, своего рода отправная точка, с которой я могу начать все сначала.
Мысль о Смирении пришла ко мне исподволь, созрев где-то в недрах сознания, и поэтому я знаю, что она пришла вовремя. Она не могла прийти ни раньше, ни позже, а только теперь. Если бы кто-то другой пытался внушить мне ее, я бы ее отверг. Если бы мне принесли ее готовой на блюдечке, я бы не принял ее. Но мысль о смирении родилась у меня самого, стала моей собственной, и я уже не могу от нее отказаться. В смирении и только в смирении я вижу надежду на жизнь, на новую жизнь, на мою Vita Nuova.[85] Смирение – самая странная штука на свете. Мы никогда не можем навязать его кому-то другому, и никто не может навязать его нам, а чтобы самим прийти к нему, мы должны потерять все, что имеем. Только лишившись абсолютно всего на свете, мы почувствуем, что приобрели Смирение.
И вот теперь, когда в душе моей воцарилось смирение, я знаю наконец, что мне делать, – более того, я должен буду это сделать. Говоря «должен», я, разумеется, не имею в виду, что вынужден это делать по чьей-то команде или чьему-либо разрешению. Вовсе нет. Я стал еще более законченным индивидуалистом, чем когда-либо в прошлом. Для меня имеет значение только то, что исходит от меня самого. Мое «я» ищет новых способов самовыражения – только это меня сейчас и волнует. И первое, что мне нужно сделать, – это отбросить любые чувства горечи и обиды, накопившиеся в моей душе против тебя.
У меня нет ни гроша за душой, у меня нет крыши над головой, но на свете бывают вещи и намного похуже. Поверь мне, я абсолютно искренен, когда говорю, что пусть уж лучше я буду попрошайничать, ходя от порога к порогу, чем покину тюрьму с чувством горечи и обиды на тебя и весь мир.
Даже если в домах богачей я и не получу ничего, бедные мне всегда подадут. Ведь чем человек богаче, тем он скупей, а чем он беднее, тем он щедрей. Лучше уж спать в росистой, холодной траве под открытым небом, а зимой искать убежища в теплых глубинах стога или укрываться от непогоды под навесом амбара, чем жить без любви в сердце.
Все внешнее в этой жизни утратило для меня значение. Вот видишь, до какого индивидуализма я дожил, хотя и это далеко не предел: мне предстоит еще долгий путь, и такой уж мне выпал удел – «где бы я ни шел, всюду меня ждут одни лишь тернии».[86]
Разумеется, я не собираюсь просить милостыню на больших дорогах, ну а если уж мне и случится лежать ночью в росистой, холодной траве, то скорее всего только затем, чтобы слагать сонеты в честь ночного светила.
Когда меня выпустят из тюрьмы, за тяжелыми железными воротами меня будет ждать Робби, и я восприму это не только как свидетельство его личной привязанности, но и как символ любви, которую питают ко мне столь многие, помимо него.
Насколько я могу судить, тех денег, что у меня остались, должно хватить мне на жизнь по крайней мере года на полтора, так что если я даже и не смогу писать прекрасные книги, то читать их, во всяком случае, я уж точно смогу, а есть ли радость выше, чем эта? Хотя со временем, надеюсь, я сумею возродить в себе и свой творческий дар.
Но если моя дальнейшая жизнь сложится иным образом, если окажется, что на всем белом свете у меня не осталось ни единого друга, если никто не будет пускать меня, хотя бы из жалости, на порог своего дома, если я окажусь на улице в жалком рубище, с нищенской сумой через плечо, – даже в этом случае, коль скоро сердце мое останется свободным от презрения, обид, ожесточения и негодования, я буду чувствовать себя намного спокойнее и увереннее, чем если бы мое тело было облечено в пурпур и тончайшее полотно, но душа моя была бы опустошена ненавистью. Мне будет совсем нетрудно простить тебя. Но чтобы это доставило мне настоящую радость, ты должен почувствовать, что тебе действительно нужно прощение. Когда ты увидишь, что по-настоящему нуждаешься в нем, ты получишь его.
Едва ли нужно говорить, что миссия моя на этом отнюдь не закончится. Это было бы слишком просто. Меня ждут еще многие трудности. Мне предстоит взобраться на куда более обрывистые кручи и пройти через куда более сумрачные ущелья. Мне необходимо будет очистить душу от накопившейся скверны. Но ни Религия, ни Мораль, ни Разум не помогут мне.
Чем мне может помочь мораль? Я ведь состою из сплошных противоречий и парадоксов. Я один из тех, кто создан для исключений, а не для правил. Нет ничего страшного в том, что человек совершает плохие поступки; гораздо страшнее то, что при этом он сам становится хуже. Я рад, что наконец это понял.
Религия тоже мне не поможет. Пусть другие и верят в нечто невидимое, я же верю лишь в то, что можно потрогать своими руками и увидеть своими глазами. Мои боги обитают в одних только рукотворных храмах, и мои верования и убеждения находят совершенное и полное воплощение только в пределах моего собственного жизненного опыта – может быть, даже слишком полное воплощение, потому что, подобно тем многим, для кого Эдем существует только здесь, на земле, я нахожу в своей жизни не одни лишь прелести Рая, но и все ужасы Ада.
Всякий раз, когда я размышляю о религии, у меня возникает желание основать особый орден для тех, кто так и не смог уверовать. Его можно было бы назвать Братством Безбожников. Обряды у них совершал бы священник, в чьем сердце никогда не было умиротворения, и службу свою он чинил бы перед алтарем, на котором не горело бы ни одной свечи. Новообращенные у них причащались бы хлебом, не освященным благословением Божьим; в руке они держали бы чашу, не содержащую ни единой капли вина.
Как это ни парадоксально, но, чтобы восприниматься как истина, все в нашей жизни должно приобретать религиозную форму. В этом смысле у неверия, как и у веры, есть свои собственные обряды и свои собственные мученики, из которых неверующие сотворили себе своих святых. Они ежедневно воздают хвалу Богу за то, что Он скрывает от человека свой лик. Но в любом случае, будь то атеизм или вера, ни то ни другое не должно мне навязываться со стороны. Символы своей веры или безверия я должен сотворить сам.
По-настоящему духовным может считаться лишь то, что имеет свою собственную, ни на что не похожую форму, и если я не сумею распознать эту духовную сущность в глубинах своей души, то разгадать ее тайну иным образом я не смогу. И если я не увидел ее до сих пор, значит, во мне ее нет и уже никогда не будет.
Разум? Он тоже мне не поможет. Он говорит мне, что законы, по которым я осужден, и система, подвергшая меня таким страданиям, крайне несовершенны и несправедливы. В то же время, вопреки всякой логике, я вынужден заставлять себя верить, что наказан по закону и справедливости.
В Искусстве художник воспринимает тот или иной предмет либо явление такими, какими они представляются ему в тот момент, когда он с ними сталкивается. Точно то же можно сказать и о психологической эволюции характера человека, постоянно вынужденного приноравливаться к имеющимся в его жизни в данный момент реалиям. Я заставляю себя смотреть на то, что произошло со мной, как на своего рода благо.
Жесткие дощатые нары; тошнотворная тюремная пища; грубые канаты, из которых приходится щипать паклю, пока кончики пальцев не онемеют от боли; разного рода унизительные обязанности, с которых начинается и которыми заканчивается каждый день; резкие, как лай, команды, принятые здесь в обращении с заключенными; чудовищное одеяние, а вернее, шутовской наряд, в который здесь облачают страдание; царящая в тюрьме тоскливая тишина; постоянно испытываемое жуткое одиночество и унизительное чувство позора – все это, взятое вместе или в отдельности, я стараюсь воспринимать как нечто, обогащающее мой духовный опыт. Любые телесные испытания, выпадающие в заключении на мою долю, я пытаюсь трансформировать в переживания, возвышающие мою душу.
Мне хотелось бы достигнуть такого душевного состояния, которое позволило бы мне искренне, без всякой аффектации сказать, что в моей жизни было два величайших поворотных пункта: когда мой отец отправил меня в Оксфорд и когда общество отправило меня в тюрьму.
Я, конечно, не стану утверждать, что тюрьма – лучшее из того, что могло случиться со мной, ибо такое утверждение звучало бы чересчур саркастически и по сути являлось бы выражением жалости по отношению к своей особе. Я скорее сказал бы о себе – а еще лучше, услышал бы от других, – что я настолько типичное дитя своего века, что из противоестественного стремления нанести себе вред обратил все доброе в своей жизни во зло, а все дурное – в добро.
Но что бы там ни говорили и я сам, и другие, – все это для меня не так уж и важно. Гораздо важнее созревшее во мне понимание того, что для того, чтобы до конца дней своих (а их осталось не так уж и много) я не чувствовал себя оклеветанным, душевно травмированным и духовно ущербным, мне предстоит сделать очень важную вещь, а именно: я должен осознать, что произошедшее со мной было абсолютно неизбежным; я должен сделать эту трагедию неотъемлемой частью своего существа, принять ее без сожалений, без страха, без попыток оправдать себя.
Самое ужасное в человеке – это неумение или нежелание взглянуть правде в глаза. Все, что произошло со мной, должно было произойти.
Когда меня посадили в тюрьму, некоторые советовали мне постараться забыть, кто я такой. В высшей степени губительный для человека совет. Только сумев осознать, кто я на самом деле, только сумев разобраться в самом себе, я нашел хоть какое-то утешение.
И вот теперь уже другие советуют мне постараться забыть – после того как меня выпустят на свободу, – что я вообще когда-либо переступал порог тюрьмы. Уверен, что это было бы для меня столь же губительно. Это означало бы, что в будущем меня постоянно преследовало бы невыносимое чувство вины и что все, чем я так дорожу – и великолепие луны и солнца, и роскошное шествие времен года, и симфония рассвета, и величавая тишина ночей, и дождь, шелестящий в листве, и роса, выступающая на траве и превращающая ее в серебро, – все это потеряло бы для меня свое очарование, лишилось бы своей волшебной целительной силы и способности приносить радость.
Отказаться от своего прошлого – значит закрыть себе путь в будущее. Отрицать то, что пережил, – значит лгать самому себе о своей собственной жизни. Это все равно что отречься от своей Души. На физическое формирование человека влияют разного рода факторы: материальные и нематериальные, низменные и возвышенные, уродливые и прекрасные, но в результате, под их общим воздействием, его тело приобретает поразительную ловкость и силу, скульптурную красоту плоти и великолепие упругих мышц, пленительные изгибы линий и чарующее сочетание цвета губ, глаз и волос.
Точно так же и Душа человека, впитывая в себя все то, что само по себе вульгарно, низменно и жестоко, может трансформировать это в благороднейшие помышления и высокие страсти, – более того, может находить во всем этом величественнейшие формы самоутверждения и проявлять свои самые святые стороны как раз через посредство того, что призвано было осквернить или разрушить ее.
Мне наконец-то нужно смириться с тем фактом, что я самый обыкновенный узник в самой обыкновенной тюрьме, но научиться не стыдиться этого оказалось, как ни странно, труднее всего.
В принципе я должен был бы воспринимать тюремное заключение как наказание, но, если мне стыдно, что меня наказали, значит, наказание не пошло мне на пользу. Конечно, во многом из того, за что меня отправили в тюрьму, я не повинен, но, с другой стороны, многие поступки, за которые меня осудили, я действительно совершил, а ведь в моей жизни было еще и немало такого, за что меня никогда не привлекали к ответственности. В этой связи невольно приходит на ум высказанная мною в этом письме сентенция на тот счет, что боги непостижимы и поступки их странны, ибо они карают нас как за то, что в нас нехорошего и недоброго, так и за то, что в нас хорошего и доброго. И в самом деле: общество наказывает человека и за его злые, и за добрые деяния. Впрочем, я убежден, что так оно и должно быть. Это помогает человеку – во всяком случае должно помогать – определить для себя, что такое добро и зло, и в то же время усмиряет его гордыню.
Если я научусь не стыдиться своего наказания – а я надеюсь на это, – то смогу мыслить, держать себя и жить как человек свободный.
Многие, выходя на свободу, уносят вместе с собой тюрьму, прячут ее в своих сердцах, как тайный позор, и в конце концов, подобно несчастному, смертельно раненному зверьку, заползают в какую-нибудь потаенную нору и тихо там умирают. До чего ужасно, что их к этому вынуждают! До чего несправедливо со стороны общества заставлять их так поступать!
Общество считает себя вправе подвергать человека чудовищным наказаниям, хотя само страдает величайшими из пороков – мелочностью, ограниченностью и поверхностностью, – а стало быть, не ведает, что творит.
Когда срок наказания осужденного истекает, общество предоставляет его самому себе, то есть, по сути, бросает его на произвол судьбы как раз в тот момент, когда должно было бы приступать к исполнению своего высочайшего перед ним долга. А почему оно так поступает, нетрудно понять: оно стыдится своих деяний и избегает тех, кого покарало, подобно тому как мы избегаем кредитора, которому не в состоянии уплатить, или шарахаемся от того, кому причинили непоправимое зло.
Что касается лично меня, то я хотел бы от общества одного: если уж я осознал все то, за что выстрадал, то и оно должно осознать, какое мне зло причинило, и тогда ни с той, ни с другой стороны не останется ни ненависти, ни обид.
Конечно, я понимаю, что в некоторых отношениях мне будет намного труднее, чем остальным, но я понимаю также, что так оно и должно быть, ибо в этом и состоит мое наказание. Всем этим жалким воришкам и всякого рода отщепенцам, сидящим вместе со мной, во многом повезло гораздо больше, чем мне. Круг людей, обитающих в каком-нибудь заштатном городишке или в крошечном селении меж зеленых полей и ставших свидетелями их прегрешений, совсем невелик, и, чтобы оказаться среди тех, кто даже не подозревает об их деяниях, им достаточно удалиться от места преступления не дальше, чем на то расстояние, что успевает пролететь птица между предрассветными сумерками и рассветом.
Для меня же «весь мир – шириною в ладонь»,[87] и, в какую бы сторону я ни бросил свой взгляд, всюду я вижу свое имя, высеченное на камне. Но не скандальная, хоть и мимолетная шумиха вокруг моего преступления сделала меня знаменитым, о нет! Просто мое имя перешло из своего рода бесконечности славы в некую бесконечность бесславия, и порою мне кажется, что я сумел доказать – если, конечно, это вообще нужно было доказывать, – что между почестями и бесчестьем всего один шаг, а может быть, и того меньше.
И все же именно в том обстоятельстве, что люди будут узнавать меня всюду, где я только ни появлюсь, и что моя жизнь (во всяком случае, ее безрассудства) снова станет открытой книгой для всех, я вижу и свою положительную сторону. Это заставит меня заново утверждать себя как художника, причем как можно скорее.
Если мне удастся создать хотя бы еще одно прекрасное произведение искусства, я тем самым смогу лишить злословие смертоносного яда, трусость – завуалированного глумления, а презрение – острого жала. И если жизнь окажется для меня не подарком, каковой она была для меня все последние годы, то я тоже не буду слишком большим подарком для жизни. Люди вынуждены будут выработать какое-то ко мне отношение, а значит, вынести приговор и мне и себе.
Ты, надеюсь, и сам понимаешь, что я говорю о людях вообще, а не о какой-то конкретной личности. Я сейчас ни с кем не хотел бы общаться, кроме художников или тех, кто много страдал. Первые из них знают, что такое Прекрасное, а вторые – что такое настоящая Скорбь. Остальные люди меня мало интересуют. От Жизни мне тоже ничего не нужно.
Из всего мною сказанного ты и сам можешь видеть, что для меня сейчас самое главное – это поиски внутренней гармонии в самом себе и созвучия своего «я» со всем миром в целом, и мне представляется в связи с этим, что одна из первых задач, которую я должен решить, – это больше не стыдиться своего наказания. Мне это нужно прежде всего ради собственного совершенствования, ибо я мучительно сознаю, насколько несовершенен.
Кроме того, я должен научиться чувствовать себя счастливым. Когда-то я это умел – или, во всяком случае, считал, что умею, – хотя, конечно, чисто инстинктивно: ведь я по натуре человек жизнерадостный. В то время я наполнял свою жизнь наслаждениями, словно кубок вином, – до самых краев. Ну а сейчас я воспринимаю жизнь совсем с другой стороны, и мне порой даже трудно представить, что такое счастье.
Помню, как в первом семестре в Оксфорде я прочитал в «Ренессансе» Пейтера – книге, которая таким удивительным образом повлияла на мою жизнь, – что Данте помещает в самые глубины Ада тех, кто по своей воле жил в постоянной тоске и печали.
Я пошел в университетскую библиотеку и отыскал в «Божественной комедии» то место, где описывается мертвое болото, на дне которого лежат те, что были так «печальны на воздухе привольном». Эти несчастные непрестанно повторяют, вздыхая:
Tristi fummo
nell'aer dolce che dal sol s'allegra.[88]
Я, разумеется, знал, что церковь осудила accidia,[89] но чтобы карать за печаль! Даже сама эта мысль казалась мне дикой: только священнику, ничего не ведающему о реальной жизни, могло бы взбрести в голову счесть это грехом. Мне было также непонятно, почему это Данте, который сам утверждает, что «печаль воссоединяет нас с Богом»,[90] мог быть настолько жесток к тем, кто проявлял склонность к меланхолии (если, конечно, такие люди и на самом деле существовали). Я и подумать не мог, что когда-нибудь этот «грех» станет и для меня одним из величайших искушений в моей жизни.
Все время, что я был в Уондсвортской тюрьме, я молил Бога о смерти. Это было моим единственным желанием. Но когда, пробыв два месяца в тюремной больнице, я был переведен в Рединг и увидел, что мое телесное здоровье мало-помалу улучшается, я пришел в настоящую ярость и вознамерился, как только меня выпустят из тюрьмы, покончить с собой.
Со временем эта мания оставила меня, и я решил, что не стану уходить из жизни, но облачусь в покровы меланхолии и печали, как монарх в королевские одеяния, перестану до конца своих дней улыбаться, буду превращать каждое жилище, порог которого переступлю, в обитель скорби, заражу своим примером друзей, с тем чтобы они медленно шествовали со мной в печальной процессии, докажу им, что истинный смысл жизни заключается в меланхолии, отравлю их неведомой им раньше тоской, омрачу их жизнь своей собственной болью.