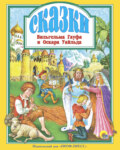Оскар Уайльд
Исповедь: De Profundis
Тайна Гамлета – под самым их носом, но они даже не догадываются о ней. Да и открывать ее этой парочке было бы бесполезно – они все равно ничего бы не поняли. Их можно уподобить маленьким винным бокалам, вмещающим ровно столько вина, сколько они могут вместить, – ни каплей больше.
Ближе к развязке пьесы нам дают понять, что, попавшись в силки, расставленные для другого, они умерли – или, по крайней мере, должны были умереть – внезапной и насильственной смертью.
Но трагический финал такого рода, несмотря на то, что гамлетовское чувство юмора и придало ему оттенок неожиданного и справедливого возмездия, присущий комедиям, на самом деле не является концом для Гильденстерна и Розенкранца. Такие, как они, не умирают.
Горацио, сдавшись на уговоры Гамлета:
«…Нет, если ты мне друг, то ты на время поступишься блаженством. Подыши еще трудами мира и поведай про жизнь мою»,[212] – все же умирает, хотя и не на глазах у публики, и после него никого не остается, даже брата. Но Гильденстерн с Розенкранцем так же бессмертны, как Анджело[213] с Тартюфом, причем все они стоят друг друга. Они олицетворяют собой то, что современная жизнь привнесла в античный идеал дружбы. Тот, кто напишет новый трактат «De Amicitia»,[214] должен уделить им видное место в своем творении и воздать им хвалу, прибегнув к лучшим образцам тускуланской прозы.[215]
Все четверо относятся к типу, встречающемуся во все времена. Порицать их – значит недооценивать этот факт. Они попросту оказались за пределами своей среды, вот и все. Величием души нельзя заразиться, как заражаются инфекционной болезнью. Возвышенные мысли и высокие чувства в силу своей уникальности не могут быть переданы другим. То, чего не могла понять даже Офелия, уж тем более не в состоянии были уяснить ни «Гильденстерн и милый Розенкранц», ни «Розенкранц и милый Гильденстерн».[216]
Разумеется, я не собираюсь сравнивать с ними тебя. Между вами огромная разница. То, что они делали почти бессознательно, ты делал совершенно сознательно. С присущей тебе напористостью и без всякого приглашения с моей стороны ты проник в мою жизнь, узурпировав в ней для себя место, на которое не имел права и которого не заслуживал, и с поразительной настойчивостью, изо дня в день, продолжал навязывать мне свое общество, пока не заполнил своим присутствием всю мою жизнь, с тем чтобы в конце концов разбить ее вдребезги.
Ты, наверно, удивишься моим словам, если я скажу, что ты просто не мог поступить иначе. Когда ребенку дают в руки игрушку, столь чудесную, что его неразвитый ум не в силах постичь ее чуда, или столь прекрасную, что его полупроснувшийся взгляд не может оценить ее красоты, то ребенок, если он избалован и своеволен, ломает ее, а если флегматичен, равнодушно роняет на пол и идет играть с другими детьми. Точно так же произошло и с тобой.
Завладев моей жизнью, ты не знал, что с ней делать. Да и откуда тебе было знать? Ты не в состоянии был постичь, какая драгоценность тебе досталась. Уж лучше бы ты выпустил ее из рук и вернулся к играм со своими приятелями. Но, к несчастью, ты был избалованным, своевольным ребенком – поэтому ты сломал ее. Это, в конечном счете, и было главной причиной того, что случилось. Ибо ничтожные причины часто приводят к серьезным, а то и к роковым последствиям.
Сдвиньте с места крошечный атом – и вы получите катастрофу глобальных масштабов. Чтобы быть объективным и щадить себя не более, чем тебя, добавлю вот еще что: какими бы опасными последствиями ни грозило мне наше знакомство с тобой, его фатальность более всего предопределил тот момент, в который оно произошло. Ибо ты был в том возрасте, когда еще сеют, я же вступил в ту пору жизни, когда уже жнут.
Хочу тебе сказать еще кое-что. Начнем с моего банкротства. Несколько дней тому назад я узнал – не скрою, с большим огорчением, – что твоя семья умудрилась пропустить тот срок, в течение которого можно было откупиться от твоего отца, и сейчас это носило бы уже противозаконный характер. А это означает, что мне придется оставаться в том же бедственном положении еще очень долгое время. Для меня это просто ужасно, ибо, как мне разъяснили, теперь, согласно закону, я не вправе даже выпустить книгу без разрешения официального ликвидатора,[217] которому я обязан представлять на рассмотрение все счета.
Я не могу заключить с театром контракт или поставить в нем пьесу, не отослав всех расписок и квитанций твоему отцу и другим моим немногочисленным кредиторам.
Думаю, даже ты согласишься, что твой план «расквитаться» с отцом, дав ему возможность сделать меня несостоятельным должником, не принес того блестящего успеха, на который ты так рассчитывал. Ну а то, чем все это закончилось для меня, уж совсем невозможно назвать успехом, и тебе стоило бы больше думать о том, какую боль и унижение я испытываю, оказавшись практически нищим, чем тешить свое чувство юмора, каким бы едким и изобретательным оно тебе ни казалось.
Должен тебе сказать, что если называть вещи своими именами, то ты, убедив меня подать на твоего отца в суд и тем самым доведя меня до банкротства, сыграл только на руку своему отцу, ибо сделал все в точности так, как ему было нужно. Один, без поддержки, он ничего бы не смог добиться, и именно в тебе он нашел своего главного союзника, хотя я почти уверен, что ты и не думал выступать в столь неприглядной роли.
Мор Эйди пишет мне, что прошлым летом ты несколько раз говорил ему о своем намерении возместить мне «хотя бы небольшую часть из того, что я истратил» на тебя. Я написал ему в ответ, что, к сожалению, я истратил на тебя слишком много – и свое искусство, и свою жизнь, и свое доброе имя, и свое место в истории, так что если бы твое семейство владело всеми благами мира, такими, как гениальность, красота, богатство, высокое положение в обществе и тому подобное, и все это сложило бы к моим ногам, то даже в этом случае оно ни в малейшей мере не отплатило бы мне за самую ничтожную мелочь из того, что у меня отобрали, за самую крохотную слезинку из тех, что я пролил. Хотя, конечно, человек должен расплачиваться за все, что содеял. Даже если он несостоятельный должник и расплачиваться ему нечем.
Ты, видимо, полагаешь, что банкротство – удобный способ избежать уплаты долгов, то есть, образно выражаясь, прекрасный метод «пощипать» кредиторов. Так вот, все как раз наоборот. Это скорее кредиторы получают удобную возможность «пощипать» (если снова прибегнуть к твоему любимому словечку) несостоятельного должника, так как Закон, конфискуя все его имущество, заставляет его тем самым выплатить все долги до последнего, а если после этого все же выявятся неоплаченные долги, то бедного должника оставят вообще без гроша, как самого убогого нищего, что попрошайничает в подворотнях или бредет по дороге, молча протягивая руку за милостыней, ибо у нас, в Англии, вслух ее боятся просить.
Закон отобрал у меня все, что я имел, – книги, обстановку, картины, авторские права на мои опубликованные произведения, авторские права на мои пьесы, – словом, все, начиная от «Счастливого Принца» и «Веера леди Уиндермир» и кончая лестничными коврами и скобой для чистки подошв перед дверью моего дома. Но и этого законникам показалось мало, и они заодно взяли все, что я мог бы иметь после выхода из тюрьмы.
Например, была продана моя доля, причитавшаяся мне по брачному контракту. К счастью, мне удалось ее выкупить через друзей, а иначе, в случае смерти моей жены, наши двое детей оставались бы в течение моей жизни такими же нищими, как и я. Думаю также, что я потеряю ту долю в нашем ирландском имении, которую завещал мне отец. Горько сознавать, что имение будет продано, но мне ничего не остается другого, как смириться с этим.
Те семьсот пенсов твоего отца – а может быть, фунтов? – которые подлежат возврату по принадлежности, должны быть выплачены ему в самое ближайшее время. Даже если меня лишат всего, что у меня каким-то чудом осталось, а также того, что мне когда-либо предстоит иметь в будущем, и объявят меня окончательно неплатежеспособным, мне все равно придется расплачиваться с долгами. За обеды в «Савое» – прозрачный черепаховый суп, восхитительно вкусные блюда из овсянок,[218] завернутых в складчатые листья сицилийского винограда, шампанское темно-янтарного цвета и с почти янтарным запахом (впрочем, всем винам ты предпочитал Дагонэ урожая 1880 года, не правда ли?).
За ужины в ресторане «Уиллис» – великолепная сервировка, тончайшее вино марки Перье-Жуэ, которое держали специально для нас, дивные pвtйs,[219] присланные прямо из Страсбурга, лучшее шампанское, подававшееся в огромных фужерах в форме колокола (чудесная искристая жидкость наливалась на донышко, чтобы истинные гурманы и эпикурейцы, ценители всего изысканного в жизни, могли лучше насладиться его букетом), – за все это я должен буду расплатиться, иначе мой долг спишут в убыток как долг бесчестного клиента, а этого нельзя допустить.
И даже за прелестные запонки – четыре серебристо-туманных лунных камня в форме сердец в оправе из чередующихся рубинов и бриллиантов (эти запонки, рисунок которых придумал я сам, были изготовлены в мастерской Генри Льюиса, и я подарил их тебе, чтобы отметить успех моей второй комедии;[220] впрочем, я совершенно бы не удивился, если бы мне стало известно, что вскоре после этого ты их сбыл за бесценок) – я тоже обязан расплатиться. Не могу же я допустить, чтобы ювелир понес убытки из-за моих подарков тебе, каким бы образом ты с ними ни распорядился потом. Как видишь, даже если с меня и спишут долги, я, как человек чести, все равно буду обязан их уплатить.
Все, что относится к банкротам, в равной степени относится и вообще к людям. Ибо за все, что делается, кто-то должен платить. При всем твоем желании быть абсолютно свободным от каких бы то ни было обязательств и все получать за чужой счет; при всей твоей убежденности, что никто не вправе рассчитывать на твою привязанность, уважение или благодарность, – тебе все равно когда-нибудь придется задуматься над тобою содеянным и попытаться, пусть даже и безуспешно, искупить свою вину.
И то, что ты не в силах будешь этого сделать, станет частью твоего наказания. Ты не можешь просто так умыть руки, уйти от всякой ответственности и, мило улыбнувшись и пожав плечами, перейти к новому другу или присоединиться к новому застолью.
Ты не можешь относиться к тому, что навлек на меня столько бед, как к одному из сентиментальных воспоминаний, которыми ты будешь иногда развлекать друзей за сигаретами и liqueurs. Ты не можешь взирать на нашу прошлую дружбу, как на красочный фон праздной жизни или как на старинный гобелен, висящий в дешевом трактире. Это может доставить тебе минутное удовольствие, подобно свежему соусу или новому сорту вина, но то, что остается после пиршества, быстро теряет свежесть, а осадок на дне бутылки горчит. Если не сегодня и не завтра, то когда-нибудь тебе все же придется это понять. Иначе до конца своих дней ты так и не осознаешь, насколько жалкой, никчемной, лишенной воображения и вдохновения была твоя жизнь.
В своем письме к Мору я предложил оригинальный подход к тем вопросам, которые я только что затронул. Думаю, тебе стоило бы взять его на вооружение – и чем скорее, тем лучше. Мор расскажет тебе, в чем его суть, но, чтобы уразуметь, как его применять, тебе придется призвать на помощь все свое воображение.
Ты должен помнить, что воображение – это такое качество, которое позволяет нам видеть вещи и людей как в реальном, так и в идеализированном свете. Если ты не сумеешь разобраться в этом самостоятельно, поговори на эту тему с другими. Мне пришлось взглянуть своему прошлому прямо в лицо. Попытайся сделать это и ты. Присядь и спокойно поразмысли над этим. Самый большой порок в человеке – поверхностность. Во всем, что происходит в нашей жизни, есть свой глубокий смысл. Поговори со своим братом об этом.
Да, Перси – именно тот человек, который тебя поймет. Дай ему прочесть это письмо и расскажи обо всех обстоятельствах нашей дружбы. И коль скоро ты сумеешь рассказать ему все без утайки и так, как оно было на самом деле, то лучшего третейского судьи нам не сыскать. Если бы мы вовремя сказали ему всю правду, от скольких страданий и унижений я был бы избавлен! А помнишь, я предлагал это сделать в тот вечер, когда ты возвратился в Лондон из Алжира? Ты наотрез отказался.
И вот, когда твой брат появился после обеда, мы принялись разыгрывать комедию, стараясь убедить его, что твой отец – безумец, одержимый бредовыми и беспочвенными иллюзиями. Комедию мы с тобой разыграли просто классическую, хотя Перси воспринял ее скорее как трагедию и безоговорочно всему поверил. Беда только в том, что финал этой комедии и в самом деле оказался трагическим. И то, о чем я сейчас пишу, – одно из последствий нашего с тобой актерства.
Если тебе было неприятно читать это письмо, то уж поверь мне – писать его было во сто крат неприятнее. Более того, это явилось для меня самым чудовищным унижением, которое мне пришлось испытать в своей жизни. Но я должен был пройти через это. У меня не было выбора. У тебя – тоже.
Второй предмет, который я хотел бы сейчас затронуть, – это наша встреча с тобой после того, как закончится срок моего тюремного заключения. Давай обсудим, на каких условиях, где и при каких обстоятельствах она состоится.
Из твоего письма Робби Россу, полученного им в начале прошлого лета, можно судить, что мои письма к тебе и подарки – по крайней мере, то, что осталось от них, – ты запечатал в два пакета и собираешься передать их мне из рук в руки. То, что нужно их возвратить, не вызывает сомнения. Ты никогда не мог себе уяснить, зачем я пишу тебе столь прекрасные письма или почему я преподношу тебе столь великолепные подарки. Тебе было невдомек, что письма я пишу не для того, чтобы их публиковать, а подарки дарю не для того, чтобы отдавать их в заклад. Кроме того, они относятся к тем страницам моей жизни, которые давно перевернуты, и к той дружбе, которую ты так и не смог оценить по достоинству.
Ты, должно быть, с удивлением оглядываешься на те дни, когда моя жизнь была полностью в твоих руках. Я тоже оглядываюсь на них с удивлением, но при этом у меня возникают и чувства совершенно иного рода.
Меня должны выпустить к концу мая, и я хотел бы сразу же после этого уехать в какую-нибудь маленькую приморскую деревушку за границей. За компанию со мной поедут Робби и Мор Эйди.
Как говорит Еврипид в своей трагедии об Ифигении:[221] «…море смывает с людей все беды и омывает все раны» (иЬлбууб клэжей рбнфO фь Pнисщрщн кЬкб).
Я собираюсь провести на море со своими друзьями не менее месяца и надеюсь, что в их обществе и под их благотворным влиянием обрету мир и душевное равновесие. Уверен, что их присутствие облегчит груз, лежащий у меня на сердце, и умиротворит мою душу. Меня с поразительной силой влекут к себе великие первобытные стихии, такие, например, как Океан, который для меня точно так же отец, как Земля – мать.
На мой взгляд, современный человек скорее созерцает Природу со стороны, чем живет в ней. Теперь я понимаю, насколько мудро древние греки относились ко всему сущему. Они никогда не восторгались закатами и не спорили о том, какого цвета тени на зеленой траве – фиолетового или лилового. Но они знали, что море предназначено для пловца, а прибрежный песок – для бегуна. Они любили деревья за их тенистую сень, а лес – за полуденную тишину. Сборщик винограда вплетал в свои волосы листья плюща, чтобы защитить склоненную к лозам голову от лучей жгучего солнца, а венки, которыми увенчивали художника и атлета (эти два классических образа стали символами Древней Греции), плели из горьких лавровых листьев и дикого сельдерея, не имевших иного применения.
Мы называем наш век утилитарным и в то же время не знаем назначения окружающих нас вещей и предметов. Мы забыли, что Вода призвана омывать, Огонь – очищать, а Земля – быть нам матерью. Поэтому наше Искусство считает своим главным объектом Луну, а своим назначением – игру с тенями, тогда как объектом древнегреческого Искусства было Солнце, и занимались древнегреческие художники реально существующими предметами.
Я уверен, что именно в стихийных силах нужно искать очищение; мне хочется вернуться к ним и жить среди них. Конечно, такому современному человеку, как я – типичному enfant de mon siиcle,[222] – всегда будет светло на душе от одного лишь сознания, что я могу любоваться нашим миром. У меня сердце замирает от радости при одной только мысли о том, что в день моего выхода на свободу в садах будут буйствовать сирень и ракитник.
Неужели я и в самом деле увижу, как ласковый ветер нежно перебирает струящиеся золотым дождем пряди ракитника и мягко колышет величественные бледно-лиловые султаны сирени, наполняя воздух таким сладким благоуханием, что мне, наверно, будет казаться, будто я из темницы попал прямо в волшебную арабскую сказку?!
Когда Линней[223] впервые увидел одну из пустошей в холмах Англии, всю желтую от крохотных ароматных цветков обыкновенного дрока, он упал на колени и заплакал от счастья. Я знаю, что и мне, человеку, чья любовь к цветам носит чуть ли не чувственный характер, еще предстоит пролить свои слезы на лепестки роз. Со мной всегда было так, с самого раннего детства.
Нет ни единого цветового оттенка, скрытого в чашечке цветка или в изгибе раковины, который, по какому-то тончайшему созвучию с самой сутью вещей, не находил бы отклика в моей душе. Подобно Готье,[224] я всегда был одним из тех, pour qui le monde visible existe.[225]
Но теперь я знаю, что за всей этой Красотой, какую бы она ни доставляла нам радость, прячется некий Дух, который может проявлять себя лишь через цвета и различные формы, и я хотел бы достигнуть гармонии с этим Духом. Я устал от конкретности окружающего меня мира. Мистическое в Искусстве, мистическое в Жизни, мистическое в Природе – вот чего я ищу.
И мне кажется, я найду то, чего я ищу, в созвучиях великих Симфоний, в таинстве неизбывной Скорби, в темных глубинах Моря. Пусть это окажется где угодно, но мне совершенно необходимо это найти.
Судят человека за его жизнь, а осуждают на смерть (во всяком случае, на духовную смерть), а меня ведь судили трижды. После первого суда меня арестовали, после второго – отправили в дом предварительного заключения, после третьего – заточили на два года в тюрьму.
В том Обществе, где мы живем, для меня не находится места и никогда не найдется, но в Природе, чьи ласковые дожди омывают и праведных и неправедных,[226] всегда найдется для меня приют в горных пещерах и скалах, где я смогу укрыться, или в потаенных, тихих долинах, где я смогу вдоволь выплакаться. Природа заботливо усыплет яркими звездами небосвод, чтобы я мог бродить ночною порой, не боясь оступиться; завеет ветром мои следы, чтобы никто не нашел меня и не причинил мне зла; омоет меня чистыми водами; исцелит горькими травами.
В конце месяца, когда будут цвести во всем своем пышном великолепии июньские розы, я, если мне ничего не помешает, договорюсь через Робби о встрече с тобой в каком-нибудь тихом заграничном городке вроде Брюгге,[227] который много лет назад очаровал меня своими старинными домами, зелеными каналами и атмосферой безмятежного спокойствия.
Если ты действительно хочешь меня увидеть, то тебе придется на какое-то время изменить свое имя и отказаться от добавления к нему своего титула, с которым ты всегда так носился, – хотя я должен признать, что твое имя вкупе с титулом и вправду напоминает название какого-то диковинного цветка.
Мне, в свою очередь, тоже придется расстаться со своим именем, некогда столь музыкально звучавшим в устах моей Славы. Как все-таки ограничен и необъективен наш век! Насколько беспомощен и безответствен!
Успеху он воздвигает дворцы из порфира, а для Страдания и Бесчестья у него не находится даже крытой соломой хижины, где они могли бы найти приют.
Мне же он не может предложить ничего лучше, чем сменить мое имя на другое,[228] в то время как даже мрачное средневековье не пожалело бы для меня монашеского капюшона или куска ткани, которым прикрывают лицо прокаженные, и тогда никто бы не узнал меня и я мог бы пребывать в мире.
Надеюсь, наша встреча будет такой, какой и надлежит ей быть после всего, что случилось. Между нами всегда была глубокая пропасть – пропасть между высоким Искусством и мещанской культурой, – но теперь она стала еще глубже, и разделяет нас Скорбь и Страдание. Но для Смирения и Любви нет ничего невозможного.
Что касается письма, которое, хотелось бы думать, ты пришлешь мне в ответ, то оно может быть длинным или коротким – это тебе решать. Надпиши на конверте: «Начальнику тюрьмы Ее Величества, Рединг». Письмо вложи внутрь – в другом, открытом, конверте, – и, если бумага у тебя слишком тонкая, не исписывай лист с обеих сторон, ибо будет трудно читать другим.
Я писал тебе это письмо абсолютно откровенно и искренне. Надеюсь, ответ будет таким же. Прежде всего я хотел бы узнать, почему ты так ни разу и не написал мне сюда, хотя уже с августа позапрошлого года и уж наверняка с мая прошлого года – с тех пор прошло одиннадцать месяцев, – ты прекрасно знал (и не скрывал от других, что знаешь), как заставляешь меня страдать и что я думаю по этому поводу.
Месяц за месяцем я ждал от тебя письма. Но даже если бы и не ждал, а, образно выражаясь, захлопнул бы двери перед тобой, ты все равно должен был понимать, что невозможно захлопнуть двери перед Любовью.
Судья неправедный в Священном Писании[229] в конце концов встает с места и провозглашает справедливый приговор, ибо Справедливость неустанно приходила к его дому и настойчиво стучалась к нему в дверь. Друг, в чьем сердце нет истинной дружбы, все же встает с постели в ответ на стук в дверь и дает хлеб пришедшему к нему поздней ночью другу «по неотступности его».[230] В целом мире нет такой недоступной тюрьмы, куда бы не достучалась Любовь. Если ты до сих пор не понял этого, – значит, ты не понял, что такое Любовь.
Кроме того, мне хотелось бы поподробнее узнать о твоей статье для «Mercure de France». Кое-что я уже знаю, но было бы неплохо, если бы ты привел в своем письме несколько характерных цитат. Статья ведь уже была набрана, не так ли? Перепиши мне также и текст Посвящения к сборнику своих стихов – только прошу тебя, слово в слово. Если посвящение в прозе, – значит, приводи его в прозе; если в стихах – значит, в стихах. Не сомневаюсь, что найду в нем много прекрасных слов. Повторяю, пиши о себе с полной откровенностью: и о своей жизни, и о своих друзьях, и о своих делах, и о своих книгах. Расскажи мне о своем поэтическом сборнике и о том, как его приняла публика. Все, что можешь сказать в свое оправдание, говори без стеснения. Не пиши того, чего на самом деле не думаешь, – это главное.
Если в твоем письме будут фальшивые ноты, я тут же распознаю их на слух. Ведь недаром же я всю свою жизнь посвятил служению литературе, сделавшись
Рабом созвучий и слогов – таким же,
Думаю, что мне предстоит узнать тебя заново. Быть может, это предстоит нам обоим.
Хочу тебе сказать еще одно, последнее, слово. Не страшись прошлого. Если тебя станут уверять, что прошлое безвозвратно, не верь им. Прошлое, настоящее и будущее – это лишь мгновения в представлении Господа, а ведь нам нужно стараться жить согласно Его представлениям.
Время и пространство, последовательность событий и протяженность материи – все это лишь условные границы существования Мысли. Воображению в силах переступить через эти границы и войти в свободную сферу духовных субстанций. Материальные субстанции тоже ведь таковы, какими они нам представляются. Материальная вещь – это лишь то, что мы хотим в ней увидеть. «Там, где другие видят всего лишь зарю, занимающуюся над холмами, – говорит Блейк, – я вижу сынов Божиих, ликующих в радости».
То будущее, которое, как мне казалось, ожидает меня впереди, я утратил, поддавшись твоим уговорам привлечь к суду твоего отца, хотя, по правде говоря, я утратил его еще задолго до этого. Все, что теперь лежит передо мной, – это мое прошлое. Я должен научиться смотреть на свое прошлое другими глазами, и мне хотелось бы сделать так, чтобы весь мир и даже сам Бог стали смотреть на мое прошлое другими глазами. Я не смогу сделать этого, если буду пренебрежительно говорить о своем прошлом, похваляться им или отрекаться от него. Добиться своей мечты я смогу лишь в том случае, если начну относиться к своему прошлому как к неизбежной части эволюции моей жизни и моего характера и если смиренно склоню голову перед всем, что выстрадал.
Это письмо, с его неустойчивыми и переменчивыми настроениями, с его язвительностью и горечью, с его высокими порывами и сознанием их тщетности, является свидетельством того, насколько мне еще далеко до настоящего душевного покоя. Но не нужно забывать при этом, в какой ужасной школе мне приходится усваивать свои уроки. И все же, несмотря на все мои недостатки и несовершенства, ты мог бы еще многому у меня научиться. Ты пришел ко мне, чтобы постичь радости Жизни и радости Искусства. Но, может быть, я избран был для другой миссии – научить тебя, в чем смысл Страдания и в чем его красота.
Твой преданный друг
Оскар Уайльд