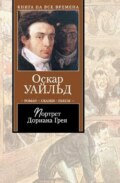Оскар Уайльд
Исповедь: De Profundis
Новая марка шампанского, которую нам рекомендовали взять к ужину, вызывала у тебя куда больший интерес.
Когда мы вернулись в Лондон, те из моих друзей, кто искренне желал мне добра, стали уговаривать меня уехать за границу и не являться на это отвратительное судилище. Но ты уверял меня, что они дают мне этот совет далеко не из лучших побуждений и что слушать их заставляет меня не что иное, как трусость. В конце концов ты заставил меня остаться, убеждая начисто отрицать свою вину на суде, а при необходимости и прибегнуть к даче ложных показаний, совершенно нелепых и неправдоподобных.
Дело, разумеется, закончилось тем, что меня взяли под стражу, тогда как твой отец стал настоящим героем дня – да что там героем дня: его имя, а значит, и твое фамильное имя, возведено теперь, как это ни смешно, в ранг Бессмертных. Да, в истории рода человеческого было столько абсурдных, гротескных и трагикомических моментов, что это придает ей не слишком серьезный характер и заставляет думать, что Клио, муза истории, – самая легкомысленная из всех Муз. Ведь твой отец будет отныне числиться среди добродетельных, чистых сердцем героев душеспасительных книг для воскресных школ, а сам ты займешь место рядом с отроком Самуилом,[27] тогда как я окажусь в самой глубокой трясине Malebolge,[28] где-то между Жилем де Ретцем[29] и маркизом де Садом.
Конечно, я должен был бы порвать с тобой, вытряхнуть тебя из своей жизни, как вытряхивают ужалившее насекомое из одежды.
В своей самой замечательной пьесе[30] Эсхил рассказывает нам об одном важном вельможе, в доме которого живет львенок (леьнфпт qнйн). Вельможа души в нем не чает, для него нет радостнее минуты, чем та, когда его любимец прибегает к нему, поблескивая глазами, и ласкается, выпрашивая угощение (цбйдсщрьт рпфЯ чеЯсб, убЯнщн фЭ гЬуфспт PнбгкбЯт). Но львенок вырастает в огромного льва, и в нем полностью проявляются дремавшие до тех пор инстинкты (ипт фь рсьуие фбкфЭщн), свойственные этому хищнику: он уничтожает и вельможу, и его дом, и все, чем тот владел.
Думаю, моя судьба подобна судьбе этого человека. Но ошибка моя заключалась не в том, что я не мог решиться расстаться с тобой, а в том, что я расставался с тобой слишком часто. Чуть ли не каждые три месяца я ставил точку на нашей дружбе с тобой, но каждый раз, когда я это делал, тебе удавалось мольбами, телеграммами, письмами, посредничеством твоих и моих друзей, а также другими способами добиваться, чтобы я позволил тебе вернуться. Помню, как в конце марта 93 года, когда ты уехал из моего дома в Торки, я твердо решил никогда больше с тобой не разговаривать и ни при каких обстоятельствах не приближать тебя к себе – настолько безобразной была сцена, которую ты устроил вечером накануне отъезда. Но ты забрасывал меня письмами и телеграммами из Бристоля, умоляя простить тебя и согласиться на встречу с тобой.
Твой оксфордский наставник, который после твоего отъезда оставался еще немного погостить у меня, сказал, что временами ты становишься совершенно невменяемым, не сознавая, что говоришь и делаешь, и что многие, если не все преподаватели в колледже Магдалины придерживаются того же мнения.[31] Что ж, я согласился встретиться с тобой и, конечно, простил тебя.
По дороге в Лондон ты стал настойчиво упрашивать меня отвезти тебя в «Савой». Увы, та встреча с тобой оказалась для меня роковой.
Три месяца спустя, в июне, мы с тобой поехали в Горинг. С субботы до понедельника у нас гостили твои оксфордские друзья. Утром в понедельник, когда они уехали, ты устроил мне сцену настолько дикую, настолько невыносимо тяжелую, что я решил расстаться с тобой.
Отлично помню, как мы стояли на ровной крокетной площадке посреди чудесного газона и я доказывал тебе, что мы портим друг другу жизнь, что дружба с тобой губительна для меня – да и тебе от нее нет особой радости, и что единственное разумное для нас решение – расстаться бесповоротно и окончательно.
Ты, мрачный и злой, уехал сразу же после ленча, оставив для меня у дворецкого крайне оскорбительное письмо, которое тот должен был вручить мне после твоего отъезда. Но не прошло и трех дней, как ты телеграфировал мне из Лондона, моля о прощении и позволении вернуться в Горинг. Собственно, дом тот я снял исключительно ради тебя, и даже слуги, которых я нанял на это время, были, по твоей просьбе, твоими же собственными. Меня всегда огорчало, что у тебя такой ужасный характер, и мне было искренне тебя жаль, потому что от этого страдал и ты сам.
Я был очень к тебе привязан. Поэтому я позволил тебе вернуться и простил тебя.
А еще через три месяца, в сентябре, ты принялся устраивать мне новые сцены. Все началось с того дня, когда я откровенно высказался о сделанном тобой переводе моей «Саломеи», указав на ряд просто-таки ученических ошибок. К настоящему времени ты, должно быть, достаточно хорошо освоил французский, чтобы понять, насколько этот перевод не делал тебе чести как студенту Оксфордского университета, ну а самое главное – он был недостоин того произведения, которое ты пытался перевести на английский. В то время ты, конечно, не мог оценить справедливости моих замечаний и написал мне по этому поводу в высшей мере несдержанное письмо, в котором заявил, что «в интеллектуальном отношении» ты мне «абсолютно ничем не обязан».
Помню, что, читая эти строки, я подумал: «А ведь он прав». За все время нашей дружбы ты впервые написал мне хоть что-то, с чем я полностью мог согласиться. Я словно прозрел, поняв, что натура, менее духовно развитая, подошла бы тебе гораздо больше, чем я. Уверяю тебя, говорю я об этом вовсе без горечи, а просто как о факте, определявшем наши с тобой отношения. Ведь в конечном счете любые отношения между людьми, будь то брак или дружба, строятся на словесном общении, а нормальное словесное общение невозможно без общих интересов. Так вот, у двух человек различного культурного уровня интересы могут быть общими в одном-единственном случае – если это интересы того из них, чей уровень более низок.
Да, с одной стороны, тривиальность в мыслях и поступках – поистине восхитительное качество, и на этой распространенной человеческой слабости я построил совершенно блистательную философию, нашедшую отражение в моих пьесах и парадоксах. Но, с другой стороны, пустословие, суета и весь этот вздор нашей жизни все более и более утомляли меня. Ну а мы с тобой встречались, образно говоря, только в болотной трясине, и, какой бы захватывающей, какой бы невероятно упоительной ни казалась тебе та единственная тема, к которой ты неизменно сводил любой разговор, я в конце концов порядком этим пресытился, и мне все чаще становилось смертельно скучно. Однако я покорно с этим мирился.
Мирился я и с твоим пристрастием к мюзик-холлам, с твоей манией безрассудно сорить деньгами на еду и питье, со всеми другими твоими малопривлекательными привычками. Я просто вынужден был это терпеть, понимая, что это часть той высокой цены, которую должен заплатить всякий, кто хочет дружить с тобой.
Когда после Горинга я решил съездить на пару недель в Динар,[32] ты пришел в страшную ярость оттого, что я не беру с собой и тебя. Перед отъездом ты устроил мне в отеле «Элбемарл» целую серию неприятнейших сцен, а потом посылал мне в имение, где я гостил несколько дней, столь же неприятные телеграммы.
Помнится, перед тем как уехать, я сказал тебе, что ты должен хоть немного побыть со своими родными, так как за целое лето ты не пробыл с ними и одного дня. На самом же деле, если быть откровенным, я попросту устал от твоего общества. Мы провели вместе целых двенадцать недель, и я хотел отдохнуть от тебя, освободиться от того страшного напряжения, которое я испытывал, когда ты был рядом со мной. Мне нужно было некоторое время побыть одному. Это было необходимо для восстановления спокойствия моей души.
Не стану скрывать: твое письмо – то самое, что я цитировал выше, – казалось мне чрезвычайно удобным предлогом для прекращения нашей фатальной дружбы. Я хотел расстаться с тобой цивилизованно, без скандалов и горьких упреков, что я уже и пытался сделать в то солнечное утро в Горинге, за три месяца до этого. Однако мне дали понять – и сделал это, скажу тебе откровенно, один из моих друзей, к которому ты обратился за сочувствием в эту трудную для тебя минуту, – что если твой перевод «Саломеи» будет тебе возвращен, как возвращают ученикам неудачное школьное сочинение, то это будет для тебя оскорблением, более того – этим я унижу тебя.
Он сказал, что я предъявляю к тебе в интеллектуальном отношении слишком высокие требования. Но что бы ты ни писал и что бы ты ни делал, продолжал он, ты остаешься все так же безгранично и безраздельно мне преданным.
Я не хотел быть чересчур к тебе строгим или обескураживать тебя в твоих литературных начинаниях, прекрасно понимая, что никакой перевод, если он, конечно, не сделан настоящим поэтом, не сможет передать должным образом ритм и колорит моего произведения, а с другой стороны, мне казалось, как и до сих пор кажется, что преданность, дружеская привязанность – это слишком прекрасные чувства, чтобы легко ими швыряться. Поэтому я не стал отвергать ни твоего перевода, ни твоей дружбы.
Ровно три месяца спустя, после целого ряда сцен, последняя из которых была даже более безобразной, чем предыдущие (в тот понедельник, вечером, ты явился ко мне в сопровождении двух или трех приятелей и устроил грандиозный скандал), я бежал от тебя за границу, буквально на следующее же утро, объяснив своей семье столь внезапный отъезд до нелепости неправдоподобной причиной и оставив слугам неверный адрес – из страха, что ты бросишься за мной вдогонку.
Помню, как под вечер того же дня, когда поезд, несясь как ветер, приближался к Парижу, я сидел в своем купе и думал, до чего же невозможной, бессмысленной и абсолютно невыносимой стала моя жизнь. Подумать только, мне, всемирно известному писателю, приходится бежать из Англии, чтобы попытаться спастись от дружбы, разрушающей во мне все возвышенное и совершенно губительной для меня как в моральном, так и в интеллектуальном отношении!
И кто же тот, от кого я бегу? Он не какое-то там чудовище, выползшее на свет Божий из зловонной сточной канавы или болотной трясины, чтобы опутать меня своими щупальцами и уничтожить меня. Нет, это молодой человек из тех же слоев общества, что и я, учившийся в том же колледже в Оксфорде, в котором в свое время учился и я, постоянный гость в моем доме.
Вслед за мной, как всегда, полетели одна за другой телеграммы, полные мольбы и раскаяния, но я не обращал на них никакого внимания. Тогда ты прибегнул к угрозам – дескать, если я не соглашусь повидаться с тобой, ты ни при каких обстоятельствах не согласишься ехать в Египет: ты ведь, надеюсь, помнишь, что, с твоего ведома и согласия, я убедил твою матушку отослать тебя в Египет, подальше от Лондона, где ты губил свою жизнь.
Я знал, что, если ты не уедешь, она будет ужасно огорчена, а потому, исключительно ради нее, я в конце концов сдался и согласился на встречу с тобой. Ну а при встрече, под влиянием нахлынувших на меня чувств, в трогательной сцене, о которой даже ты вряд ли сумел забыть, я простил тебя за все прошлое, хотя ни слова не сказал о будущем.
Помню, как, возвратившись на следующий день в Лондон, я сидел у себя в кабинете, подавленный и унылый, пытаясь решить для себя, прав ли я или неправ, считая тебя безнадежно испорченным человеком, разрушающим и свою жизнь, и жизнь тех, кто тебя окружает, играющим поистине роковую роль в судьбе тех, кто тебя близко знает, а зачастую и тех, кто с тобой лишь едва знаком. Целую неделю я терзался сомнениями – не слишком ли я несправедлив к тебе и не ошибаюсь ли я, столь сурово осуждая тебя?
Но в самом конце недели мне вручили письмо от твоей матери, и, когда я прочел его, никаких сомнений у меня больше не оставалось. Она писала о твоем слепом, гипертрофированном самомнении, из-за которого ты ни во что не ставишь свою семью и называешь своего старшего брата, прекрасного человека с candidissima anima,[33] филистером; о твоей жуткой вспыльчивости, из-за которой она никогда не решается заводить с тобой разговор о той недостойной жизни, которую ты, как она знает, ведешь; о твоем отношении к деньгам, причиняющем ей постоянные огорчения, поводов для которых ты даешь более чем достаточно; о том, как быстро ты деградируешь и изменяешься к худшему.
Она, разумеется, понимала, что причина лежит в доставшейся тебе от предков ужасной наследственности, и откровенно признавалась в этом, а также в том, насколько это ее пугает. «Из всех моих детей, – писала она о тебе, – он единственный унаследовал роковой норов Дугласов». В конце письма она утверждала, что, на ее взгляд, наша дружба с тобой еще больше раздула твое тщеславие и только усугубила твои недостатки, а потому настойчиво просила меня избегать встреч с тобой, особенно за границей.
Я тут же написал ей ответ, в котором выражал полное согласие с каждым ее словом. Но к этому я добавил еще много чего другого. Мне хотелось быть с ней по возможности откровенным, и я начал с того, что рассказал ей, как началась наша дружба.
В тот год ты заканчивал Оксфордский университет, и знакомство наше началось с того, что ты обратился ко мне с просьбой помочь тебе выпутаться из определенного рода неприятностей, причем очень серьезных.
Подобные неприятности, писал я ей далее, происходят в твоей жизни постоянно. По настоянию какого-то своего приятеля ты ездил с ним в Бельгию и жаловался на него за то, что он сумел уговорить тебя предпринять это путешествие.
Твоя мать обвинила меня тогда в том, что познакомил тебя с ним не кто иной, как я. И вот теперь, в этом своем письме, я ей написал, что на самом деле во всем виноват не я и не тот твой приятель, а ты сам. В заключение я заверил ее, что не имею ни малейшего намерения встречаться с тобой за границей, и попросил ее удерживать тебя там как можно дольше – либо в качестве почетного атташе при посольстве (если это, конечно, возможно), либо (если это окажется невозможным) под предлогом изучения новых языков, а если и этот вариант не удастся, то под любым другим предлогом, какой ей только удастся найти. Словом, я просил задержать тебя там по меньшей мере на два или на три года – в равной степени для твоего, как и для моего блага.
А между тем из Египта постоянно приходили твои письма – я получал их буквально с каждой почтой, но оставлял без ответа: прочитывал и тут же рвал в клочья. Я не хотел иметь с тобой ничего общего, и решение мое было бесповоротным.
Теперь я всего себя с наслаждением отдавал служению Искусству, от которого по твоей милости столь долгое время был оторван. Но не прошло и трех месяцев, как твоя мать, чье достойное сожаления безволие сыграло в трагедии моей жизни роль не менее роковую, чем самодурство твоего отца, вдруг пишет мне – я нисколько не сомневаюсь, по твоему наущению, – что ты хотел бы получить от меня хоть какой-то ответ. Ну а чтобы у меня не оставалось предлога уклониться от переписки с тобой, она посылает мне твой афинский адрес, который, разумеется, я и без нее знал.
Сознаюсь, ее письмо полностью сбило меня с толку. Я не мог понять, как, написав мне такое откровенное письмо в декабре и получив от меня не менее откровенный ответ, она могла предлагать мне восстановить, а точнее, возобновить мою злосчастную дружбу с тобой.
Ее письмо нельзя было оставлять без ответа, и я снова принялся убеждать ее заполучить для тебя местечко в каком-нибудь заграничном посольстве, с тем чтобы помешать твоему возвращению в Англию. Но тебе я писать не стал и по-прежнему, как и до получения письма твоей матери, игнорировал все твои телеграммы.
В конце концов ты ничего лучшего не придумал, как телеграфировать моей жене, умоляя ее повлиять на меня и уговорить написать тебе. Наша дружба всегда огорчала ее, и не только потому, что ты никогда ей не нравился, но еще и потому, что она не могла не видеть, как постоянное общение с тобой изменяет меня, причем далеко не в лучшую сторону. Но это не мешало ей держаться с тобой чрезвычайно любезно и с неизменным радушием принимать тебя у нас дома.
Такому человеку, как она, трудно было представить, что я способен относиться к своим друзьям холодно или враждебно. Она считала, она даже была уверена, что это совершенно чуждо моей натуре. Я внял ее настойчивым просьбам и ответил тебе.
Текст отправленной мной телеграммы помнится мне до сих пор. «Время, – говорилось в ней, – врачует любые раны, но еще многие и многие месяцы я не стану ни писать тебе, ни встречаться с тобой». Получив мой ответ, ты ринулся в Париж, посылая мне по пути безумные телеграммы, в которых умолял меня встретиться с тобой – хотя бы один раз. Но я не хотел тебя видеть.
Ты приехал в Париж в субботу поздно вечером и нашел в своей гостинице оставленную мной записку, в которой я ясно давал понять, что не намерен встречаться с тобой.
На следующее утро, уже в Лондоне, у себя на Тайт-стрит, я получил от тебя телеграмму объемом в десять или даже одиннадцать страниц. В ней ты с пылкостью заявлял, что, какими бы ни были причиненные мне тобой огорчения, ты все равно не можешь поверить, что я ни за что не соглашусь с тобой повидаться, – ведь ради короткой встречи со мной, хотя бы на один час, ты ехал через всю Европу, нигде не останавливаясь, целых шесть дней и ночей.
Ты умолял меня проявить к тебе снисхождение, причем, надо признать, в очень трогательных выражениях, а заканчивал телеграмму достаточно недвусмысленной угрозой покончить с собой.
Ты не раз рассказывал мне, сколь многие в твоем роду обагрили руки своей собственной кровью – например, твой дядя и, возможно, твой дед, да и немало других в том безумном, злосчастном племени, от которого ты происходишь. Я видел, что на сей раз не смогу игнорировать твоей телеграммы.
Мое согласие увидеться с тобой – но один-единственный и последний раз – объясняется целым рядом причин. Здесь и жалость, и давняя к тебе привязанность, и беспокойство о твоей матери, для которой смерть сына, да еще при таких трагических обстоятельствах, была бы страшным, а возможно, и смертельным ударом, и нахлынувший на меня ужас при мысли, что таким ужасным образом может оборваться столь юная жизнь, которая, несмотря на все твои прошлые прегрешения, еще могла бы со временем стать возвышенной и прекрасной, и просто гуманность.
Когда я приехал в Париж и мы с тобой встретились, ты не мог удержаться от слез, да и потом, на протяжении всего вечера, во время обеда у «Вуазена» и позднее, за ужином у «Пайяра»,[34] по твоим щекам, подобно каплям дождя, то и дело скатывались слезы – столь непритворна и велика была твоя радость.
При каждой удобной возможности ты, словно ласковый, провинившийся в чем-то ребенок, брал меня за руку; твое раскаяние было настолько простодушным и искренним, что я не выдержал и согласился возобновить нашу прежнюю дружбу. Через два дня после нашего возвращения в Лондон твой отец увидел нас вместе, когда мы завтракали в «Кафе-Ройял», подсел к нашему столику, выпил заказанного мной вина и в тот же день, в письме, обращенном к тебе, впервые обрушился на меня с гнусными инсинуациями.
Странно, но вскоре после этого у меня снова возникла – нет, не возможность, а скорее необходимость порвать с тобой. Вряд ли стоит напоминать тебе, о чем я в данном случае говорю.
Ну конечно же, о тех трех днях в Брайтоне, с 10 по 13 октября 1894 года, когда ты так некрасиво обошелся со мной. Наверное, случившееся три года назад кажется тебе слишком давним прошлым. Но для нас, обитателей тюрьмы, в чьей жизни нет ничего, кроме скорби, время измеряется одними лишь пароксизмами душевной боли и горькими воспоминаниями о прошлых страданиях. Больше нам думать не о чем.
Может быть, то, что я сейчас скажу, и покажется тебе странным, но страдания для нас – единственно возможный способ существования, потому что только страдая мы сознаем, что все еще живы, а что касается воспоминаний о наших прошлых страданиях, то эти воспоминания – единственная ниточка, связывающая нас прежних с нами нынешними, единственное свидетельство, что мы – это мы, а не какие-то иные, «подмененные» существа. Вспоминать же о чем-то хорошем и радостном я не могу по той простой причине, что ничего хорошего, ничего радостного в нашей дружбе с тобой считай что и не было.
Но даже в том случае, если бы наша жизнь в течение всего этого времени и была такой, какой она представляется публике, то есть проходила бы в сплошных удовольствиях, мотовстве и веселье, то вспоминать мне тем более было бы не о чем.
На самом же деле минуты и дни, составлявшие этот период, были настолько трагическими, безысходными, сулящими нечто зловещее в будущем и настолько наполненными монотонно повторяющимися тягостными сценами и унизительными скандалами, что каждая такая сцена, каждый такой скандал предстают в моей памяти в мельчайших подробностях, заставляя забывать обо всем остальном. Пребывание в тюремных стенах доставляет мне такую душевную боль, что наша дружба с тобой представляется своего рода к нему прелюдией, созвучной различного рода вариациям нравственных мук, терзающих меня здесь ежедневно, – я бы даже сказал, являющейся их первопричиной, как если бы вся моя жизнь, какой бы она ни казалась мне и другим, была все это время ничем иным, как Симфонией Страдания, последовательно движущейся в своем ритмическом развитии (причем с той неизбежностью, которая присуща трактовке основной темы во всех великих произведениях искусства) к некоему трагическому разрешению.
Итак, вернемся на три года назад к тем трем дням в Брайтоне, когда ты так некрасиво обошелся со мной. Незадолго перед этим я уединился в Уортинге, чтобы поработать там над концовкой своей очередной пьесы, и, хотя ты приезжал туда ко мне пару раз, некоторое время я мог тебя не ожидать. И вдруг ты заявляешься ко мне в третий раз, да еще в компании какого-то своего приятеля, которому ты чуть ли не пообещал, что он остановится у меня в доме. Я наотрез отказался принимать его – и, как ты теперь должен признать, поступил совершенно правильно.
Конечно, я делал все, чтобы вы с ним не скучали, кормил и развлекал вас (у меня не было иного выбора), но все это происходило за пределами моего дома. На следующий день, в понедельник, твой приятель занялся своими делами, а ты остался со мной.
Уортинг вскоре тебе надоел, хотя еще больше надоели, я уверен, мои тщетные старания сосредоточиться на пьесе (а кроме нее меня больше ничего и не интересовало), и ты стал упрашивать меня съездить с тобой в Брайтон, причем настаивал на том, чтобы мы остановились в «Гранд-отеле». Но в тот вечер, когда мы туда приехали, ты вдруг почувствовал себя плохо и слег в постель. У тебя был очередной приступ – не то второй, не то третий – той ужасной болезни, ползучей лихорадки, которую почему-то принято называть инфлюэнцей.
Не буду напоминать тебе, как заботливо я за тобой ухаживал. Я не только баловал тебя цветами, фруктами, подарками, книгами – словом, всем тем, что можно купить за деньги, но и окружил тебя вниманием, нежностью и любовью – а это ни за какие деньги не купишь (хотя, конечно, ты можешь думать иначе).
Если не считать утренних и послеобеденных прогулок (утром – пешком, после обеда – в экипаже), продолжавшихся не больше часа, я целыми днями не выходил из отеля.
Поскольку тебе не нравился виноград, который подавали в отеле, я специально выписывал для тебя лучшие сорта из Лондона. Я то и дело радовал тебя разными маленькими сюрпризами, проводил все свое время с тобой, лишь иногда уединяясь в соседней комнате, а по вечерам сидел у твоей постели, успокаивая и развлекая тебя.
Через четыре или пять дней ты выздоровел, и я решил снять квартиру, чтобы в спокойной обстановке закончить пьесу. Разумеется, ты поселился со мной.
На следующее утро после того, как мы там устроились, я внезапно почувствовал себя ужасно плохо. Тебе надо было ехать в Лондон по делу, но ты обещал вернуться во второй половине того же дня. Однако в Лондоне ты встречаешь приятеля и возвращаешься в Брайтон только поздно вечером следующего дня, к каковому времени я уже лежу пластом, у меня высокая температура и доктор ставит диагноз: инфлюэнца, которой я, несомненно, заразился от тебя.
Слегши, я убедился, что квартира, которую я снял, приспособлена скорее для здоровых, чем для больных людей: гостиная располагалась на втором этаже, тогда как спальня – на четвертом. Кроме того, в доме не было ни одного слуги, который мог бы присматривать за больным; некого было даже послать с каким-нибудь поручением или за лекарством, прописанным врачом. Но я считал, что поскольку ты рядом, то мне не о чем беспокоиться.
А между тем следующие два дня ты практически оставил меня одного – без присмотра, без ухода, без всего. Я уже не говорю о фруктах, цветах или каких-то там милых подарках – я говорю о самом необходимом. Ты не приносил мне даже молока, которое я должен был пить по предписанию врача. Если мне хотелось лимонаду, ты заявлял, что достать его невозможно.
Когда я попросил тебя купить мне что-нибудь почитать, назвав несколько авторов и книг, которые интересовали меня в первую очередь, а если не окажется ни одной из них, то выбрать что-нибудь на свой вкус, ты даже не потрудился зайти в книжную лавку. Но мне ты не моргнув глазом сказал, что одну из названных книг ты купил и что книготорговец обещал ее прислать на мой адрес. Разумеется, ее не прислали, и в результате я был лишен возможности читать весь тот ужасный день. Потом я совершенно случайно узнал, что все, тобой сказанное, было ложью – от начала и до конца.
Все эти дни ты, конечно, полностью жил на мой счет, с утра до ночи разъезжая по городу и обедая в «Гранд-отеле». В моей комнате ты появлялся только тогда, когда тебе нужны были деньги.
В субботу вечером, проведя весь день в одиночестве, без внимания и помощи с твоей стороны, я попросил тебя не задерживаться после обеда и немного посидеть со мной. Ты сказал, что вернешься вовремя, но отвечал мне крайне раздраженным и нелюбезным тоном. Я прождал до одиннадцати вечера, но ты так и не появился. Тогда я оставил у тебя в спальне записку, напоминая тебе о твоем обещании и о том, как ты на самом деле его сдержал.
В три часа ночи, не в состоянии уснуть и умирая от жажды, я спустился по темной, холодной лестнице в гостиную в надежде найти там что-нибудь выпить – и нашел там тебя. Ты тут же набросился на меня, изрыгая самые жуткие проклятия, какие только могли прийти в голову такому несдержанному, необузданному, невоспитанному человеку, как ты.
Непостижимая алхимия крайнего эгоцентризма обратила угрызения совести, которые, как мне казалось, ты должен был бы испытывать, в бешеную ярость. Ты называл меня эгоистом за то, что, заболев, я рассчитывал найти в твоем лице няньку и считал тебя обязанным круглосуточно не отходить от моей постели; ты осыпал меня упреками за то, что я не даю тебе весело проводить время и получать удовольствие от жизни. Ты сказал мне – и я не удивился, услышав это, – что вернулся около полуночи только затем, чтобы переодеться и пойти туда, где, как ты надеялся, тебя ждут новые удовольствия, но моя записка с жалобами на то, что ты оставил меня одного на целый день и весь вечер, испортила тебе настроение, и у тебя пропала всякая охота продолжать развлекаться.
Когда я поднимался к себе наверх, на душе у меня было ужасно скверно. Я так и не уснул до рассвета, метался в жару, а мучившую меня жажду смог утолить не раньше чем поздним утром.
В одиннадцать утра ты зашел ко мне в комнату. Устроенная тобой ночью сцена свидетельствовала о том – и это было единственным утешением, – что моя записка, по крайней мере, удержала тебя от новых попоек.
Утром, казалось, ты снова был таким, как обычно. Разумеется, мне было интересно, как ты намерен объяснять свое поведение и каким образом станешь просить у меня прощения, – а оно, как ты прекрасно знал, будет непременно тобой получено, несмотря на твое ужасное поведение. Эта твоя абсолютная уверенность в том, что, как бы ты себя ни вел, тебе гарантировано прощение, всегда поражала меня в тебе, а может быть, даже чем-то и восхищала.
Но ты и не думал извиняться – напротив, ты повторил свою дикую ночную выходку, сделав ее еще более истеричной и грубой. В конце концов я велел тебе убираться из моей комнаты. Ты сделал вид, что уходишь, но, когда я поднял голову с подушки, в которую зарылся, чтобы не слышать и не видеть тебя, ты все еще стоял у порога.
И вдруг, жутко расхохотавшись, ты в припадке истерического бешенства ринулся к моей кровати. Меня охватил безотчетный ужас, и я, поспешно вскочив с постели, бросился бежать – босиком, в том, что на мне было, – вниз по двум маршам лестницы в гостиную. Я сидел там, пока оказавшийся дома хозяин квартиры, которого я вызвал звонком, не уверил меня, что тебя уже нет в моей спальне и что в случае необходимости он сразу же явится на мой зов.
Спустя час (а за это время у меня побывал врач и, естественно, нашел меня в состоянии глубокого нервного шока, от чего мое самочувствие стало даже хуже, чем в начале заболевания) ты вернулся, зашел ко мне в комнату, молча взял все деньги, какие лежали в ящике туалетного столика и на каминной полке, после чего зашел за своими вещами и покинул дом.
Стоит ли рассказывать, какого рода эпитетами я награждал тебя, прикованный к постели еще целых два дня, совершенно беспомощный и всеми забытый? Нужно ли говорить, насколько ясно я осознал, что поддерживать даже простое знакомство с таким человеком, как ты, было бы для меня настоящим позором? В наших с тобой отношениях наступил переломный момент, и я почувствовал величайшее облегчение. Я не сомневался, что и мое творчество, и моя жизнь станут теперь свободнее, лучше и прекраснее с любой точки зрения. И, несмотря на болезнь, на сердце у меня стало спокойнее.
От одного лишь сознания, что теперь наш разрыв неизбежен, в душе моей воцарился мир. Ко вторнику мне стало намного лучше, температура спала, и я впервые за все эти дни спустился обедать вниз.
В среду был день моего рождения. Среди телеграмм и прочих посланий по этому поводу я нашел на своем столе и письмо с твоим почерком на конверте. Распечатывал я его с грустью.
Я понимал, что безвозвратно ушло то время, когда задушевный тон, уверения в искренней привязанности ко мне, сожаление о случившемся могли бы заставить меня возвратить тебя. Но я глубоко ошибался, я тебя недооценивал, ибо ты сумел-таки поразить меня, причем совершенно с неожиданной стороны.